Содержание
Лекция 1. Основные теории развития цивилизации
План:
1.
Понятие «цивилизация»
2.
Цивилизационные теории
1. Понятие «цивилизация»
Однозначного
определения термина цивилизация в науке
не сложилось. Слово цивилизация имеет
латинские корни — civilis
— гражданский, государственный.
Понятие
«цивилизация»
впервые употребил французский экономист
Виктор Рикети
Мирабо
(1715-1789) в трактате «Друг законов» в 1757
г. В 1767 г. его использовал шотландский
просветитель А. Фергюсон
(1723-1816). Этот термин обозначал общий
уровень культурного развития. В эпоху
Просвещения понятие цивилизацияассоциировалось с концепциейпрогрессаи имело просветительский смысл.
Смысл
слова цивилизацияпостепенно расширялся. Она отождествлялась
уже не только с хорошими манерами, но с
богатством, уровнем интеллектуального
и социального развития.
В
начале XIX в. стали говорить о цивилизациях(во множественном числе), что
стали говорить о цивилизациях(во множественном числе), что
свидетельствовало о признании многообразия
в цивилизационном устроениинародов.
К 20-30 годам XIX векацивилизациявсе чаще прилагается как понятие к
большим эпохам и целымнародамкак обозначение всего, что создано
человеком.
Итак,
цивилизация это:
1)
синоним культуры
(в марксистской
литературе употребляется также для
обозначения материальной культуры).
2)
уровень, ступень общественного развития,
материальной и духовной культуры
(античная цивилизация,
современная цивилизация).
3)
ступень общественного развития, следующая
за варварством
(Л. Морган, Ф. Энгельс).
2. Цивилизационные теории
Первые
цивилизационные теории формировались,
опираясь в значительной степени на
исторические концепции, выработанные
античностью и средневековьем. Уже в
древности сложились идеи циклического
круговорота,
повторяемости в сфере человеческой
истории.
В
эпоху Просвещения в XVIII в. возникло
понимание некой направленности,
линейности развития от низшего к высшему,
с последовательным нарастанием
совершенства общества на основе
прогресса.Прогрессчеловечества представлялся какпрогрессчеловеческого разума. Наиболее
выразительно представлял просветительскую
концепцию линейногопрогрессафранцузский философЖан
Антуан Никола
Кондорсе
(1743-1794) в своем сочинении «Эскиз
исторической картины прогрессачеловеческого разума». По мнениюКондорсе,
человечество прошло уже восемь ступенейпрогресса,
находится на девятой и в будущем вступит
в десятую. Тогда смягчится неравенство,
расширятся условия для развития личности,
образуетсяреспублика,
в которой будут руководить ученые.
Совершенно
иное представление о прогресседает нам великий французский философ
и писательЖан
Жак
Руссо
(1712-1778). ЭволюциюгосударстваРуссоизображал как регрессивное развитие
от демократии к аристократии и далее к
абсолютной монархии. ДляРуссоцивилизацияэто старость человечества.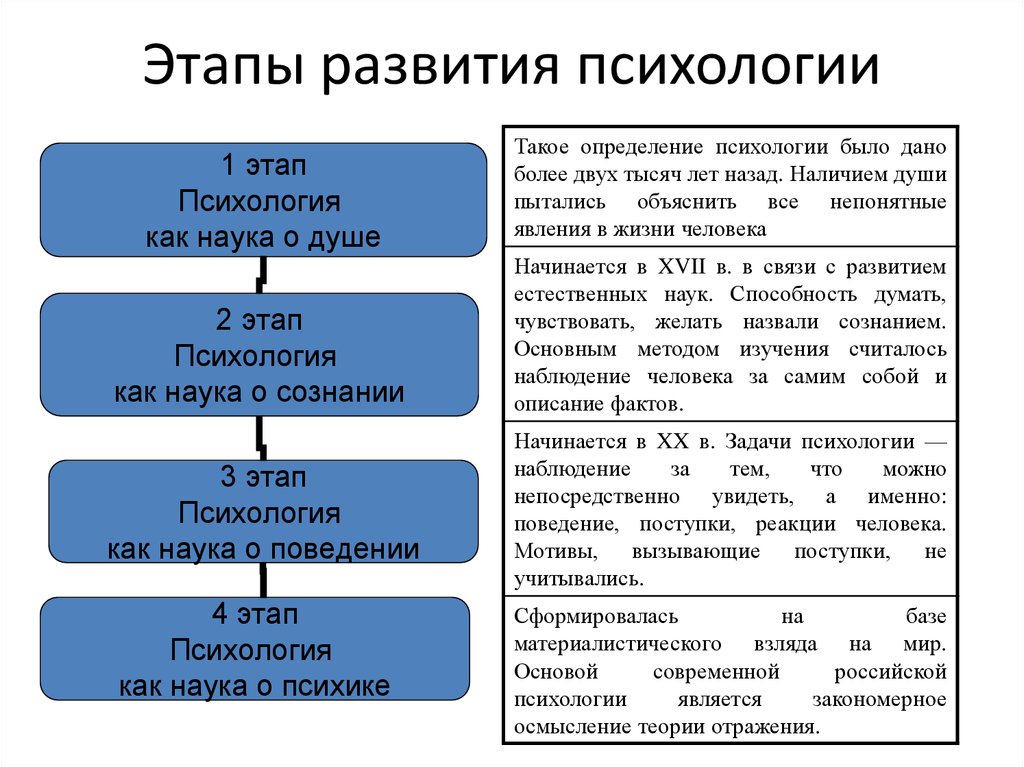
В
эпоху Просвещения появилась локальная
теория цивилизаций.
Ее родоначальник итальянский философ
XVIII в. Джамбаттиста
Вико
(1668-1744). В трактате «Основание новой
науки об общей природе наций»
Викопредставляет историю человечества как
целый ряд отдельных потоков, историй
различныхнародовс их особыми культурами. Он утверждал,
что никакогопрогрессанет, а есть круговорот культурно-исторических
форм.
Сторонник
теории локальных цивилизацийнемецкий просветитель ИоганнГотфрид
Гердер
(1744-1803) в сочинении «Идеи к философии
истории человечества» отразил генетический
подход к
истории.
Немецкий
философ Георг
Вильгельм Фридрих
Гегель
(1770-1831) в рассматривает историю
человечества, как продукт развивающейся
Идеи. В теории Гегеляразум выступал основным содержанием
мирового исторического процесса,
бесконечной мощью и абсолютной конечной
целью.
XIX
век богат новыми моделями цивилизационного
развития. Своеобразные цивилизационные
схемы созданы позитивистами.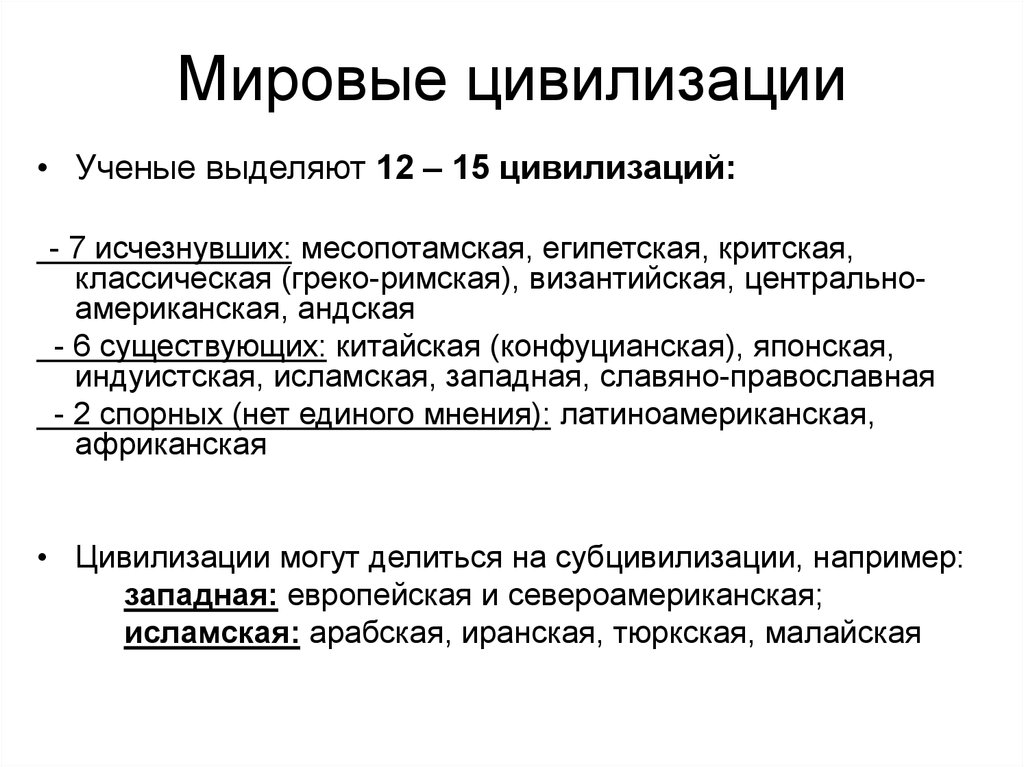 Позитивисты
Позитивисты
были сторонниками прогресса,
но мыслили его как постепенное развитие
порядка, не знающее резких скачков и
потрясений. Зачастую устанавливались
аналогии между живыми организмами и
обществом. Стадии развития, которые
проходил живой организм (детство, юность,
зрелость, старость) переносились и на
историюцивилизаций.
Согласно характерной для позитивистов
теории равноправных факторов,цивилизациярассматривалась, как социокультурная
система, на жизнедеятельность и развитие
которой воздействует целый комплекс
разноплановых факторов географических,
политических, экономических, идейных,
биологических, психологических и т.п.
Ни одному из них не предоставлялось
приоритета в этомплюралистическоммногофакторном объяснении истории.
Один
из основоположников позитивизма
французский социолог Огюст
Конт
(1798-1857). Идеи Контаразвил известный теоретик позитивизма
английский философГерберт
Спенсер
(1820-1903). Английский историк-позитивист
Генри Томас
Бокль
(1821-1862) в своем основном труде «История
цивилизациив Англии» утверждал, чтоцивилизациярезультат двоякого действия внешних
явления на дух человечества и духа
человеческого на внешние явления.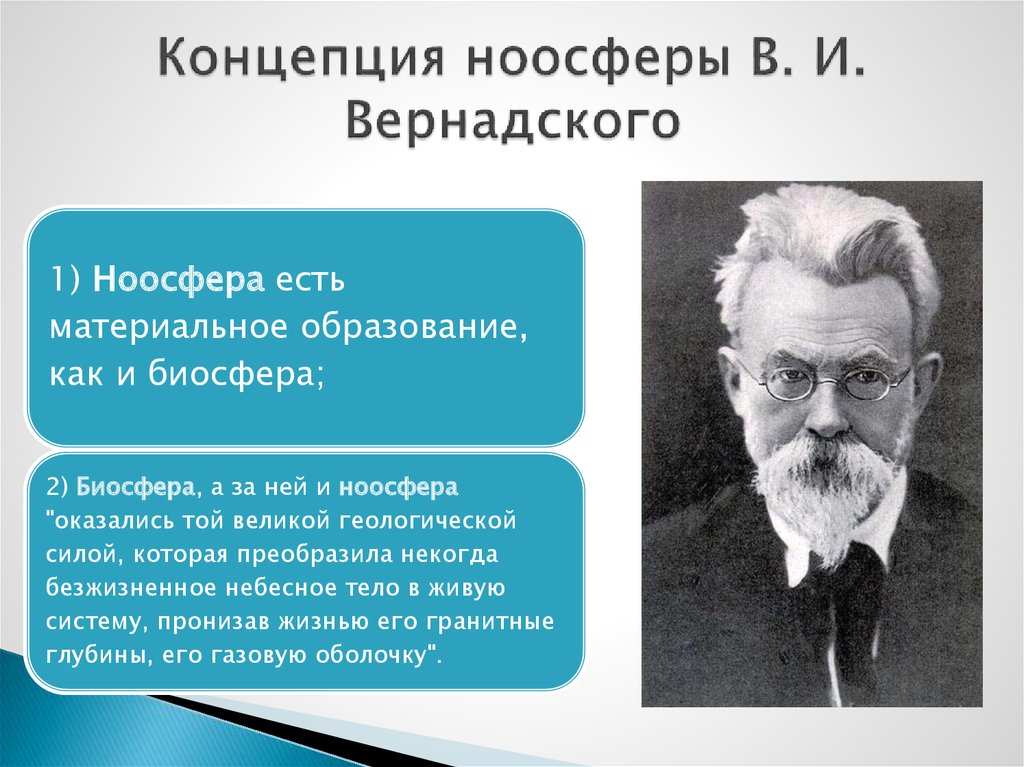
Во
второй половине XIX в. сложился
локально-исторический подход к истории,
в котором цивилизациирассматриваются как качественно
различные локальные исторические
образования, ограниченные
пространственно-временными рамками.
Впервые
теория культурно-исторических типов
локальных цивилизацийбыла сформулирована русским философомНиколаем
Яковлевичем
Данилевским
(1822-1885) в книге «Россия и Европа», изданной
в 1869 г. Каждая локальная цивилизация,
согласноДанилевскому,
проходит в своем развитии ряд стадий:
становления самобытности, юности
(формирование политических институтов),
зрелости и упадка.Данилевскийсформулировал пять законов исторического
развития, основанных на идее
культурно-исторических типов.
В
XIX в. появилось понимание того, что
цивилизациясформировалась лишь на определенном
этапе развития человечества, представляя
собой качественный рубеж на эволюционном
пути. Именно такой смысл понятиюцивилизацияпридал знаменитый американскийэтнографЛьюис
Морган
(1818-1889) в труде «Древнее общество».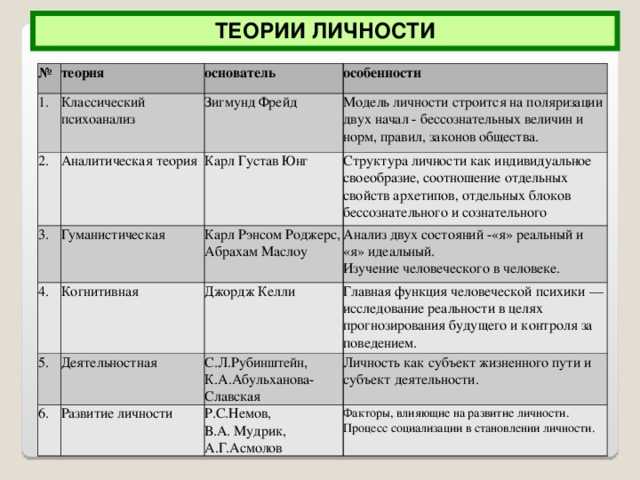 Морганпредложил схему истории человечества,
Морганпредложил схему истории человечества,
в которой выделялись три этапа: дикость,
варварство ицивилизация.
Эволюционная
концепция Морганаоказала немалое влияние на социальную
модель развития общества, созданнуюКарлом
Марксом
(1818-1883) и Фридрихом
Энгельсом
(1820-1895). Развитие мировой истории
представлялось как последовательная
смена общественно-экономических
формаций, как движение от первого
бесклассового общества (первобытнообщинного
строя) через классовые (рабовладение,феодализм,
капитализм) к новому бесклассовому
коммунизму. Утверждалась незыблемость
действия основного закона исторического
развития смена формаций происходит
путем революций.
В
конце XIX — начале XX вв. индустриальная
цивилизациявступила в эпоху острого кризиса.
Экономические потрясения, борьба
политических партий, идей, кланов, первая
мировая войта, поражение и озлобленность
создали атмосферу неуверенности в
завтрашнем дне.
Духом
фатализма пронизана книга немецкого
философа Освальда
Шпенглера
(1880-1936) «Закат Европы».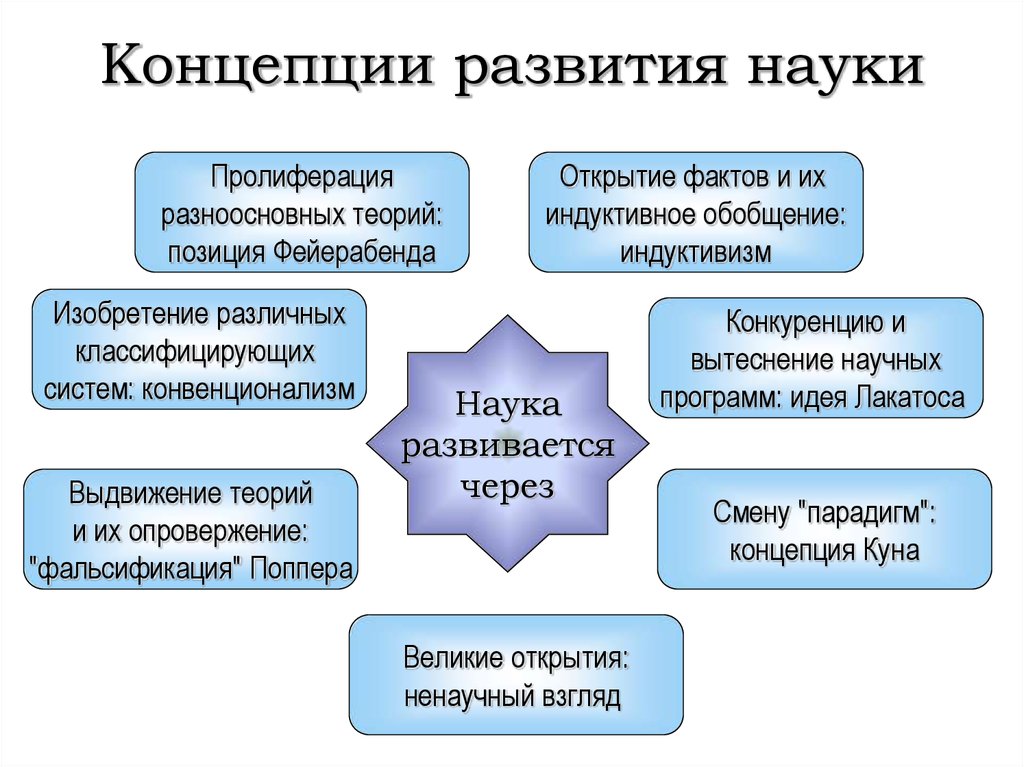 История человечества
История человечества
представлена в ней как история восьми
культурно-исторических типов (цивилизаций),
каждый из которых вырастает на основе
собственного способа переживания жизни,
полностью замкнут и лишен каких-либо
возможностей культурной преемственности.
ПоШпенглеру,цивилизацияесть завершение, неотвратимый конец, к
которому приходят все культуры.
Поиски
путей выхода из апокалипсиса проходящей
через кризис индустриальной цивилизациипривели к появлению новых направлений
и подходов к изучению законов развития
мировыхцивилизаций.
Исследуя
циклическую динамику общества,
американский социолог русского
происхождения Питирим
Александрович
Сорокин
(1889-1968) создал впечатляющую концепцию
всемирно-исторического развития
человеческой культуры, дал типологию
культурного развития человечества. Он
рассматривал общества, как большие
культурные суперсистемы, имеющие
центральный смысл или ментальность.
В любой период истории, по мнениюСорокина,
существует пять основных культурных
систем: язык,этика,
религия, наука, искусство.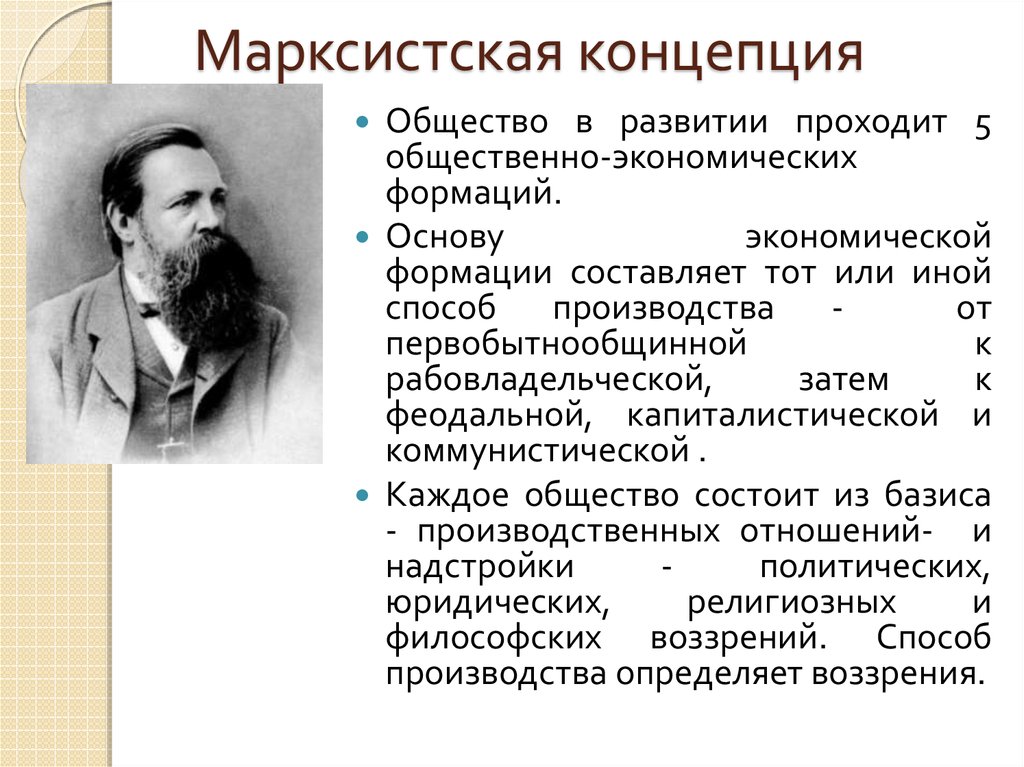
Важный
этап в исследовании истории мировых
цивилизацийсвязан с французской исторической
школойАнналов.
В 1929 г.Марк
Блок
и Люсьен
Февр
основали журнал «Анналыэкономической и социальной истории»,
вокруг которого стали формироваться
историки, находящиеся в поиске новых
методов исторических исследований. По
их мнению, стержнем исторического
развития являетсяментальность.
Она определяет сущностьцивилизациии ее неповторимое своеобразие.Ментальность(менталитет) это совокупность установок
и привычек мышления, а также фундаментальных
верований индивида. ШколаАнналовчерез изучение историиментальностиподошла к созданию многомерной и
разносторонней истории локальныхцивилизаций.
Вторая
мировая война, являясь кризисом
цивилизационного развития, отразилась
и на теоретических исследованиях.
Известный
немецкий философ Карл
Ясперс
(1883-1969) в своей работе «Истоки истории
и ее цель» выделил в истории общества
четыре периода: доистория, культуры
древности (локальные истории), осевое
время (начало всемирной истории) и
технической век (переход к единой мировой
истории), расцвет которого связан с
современностью.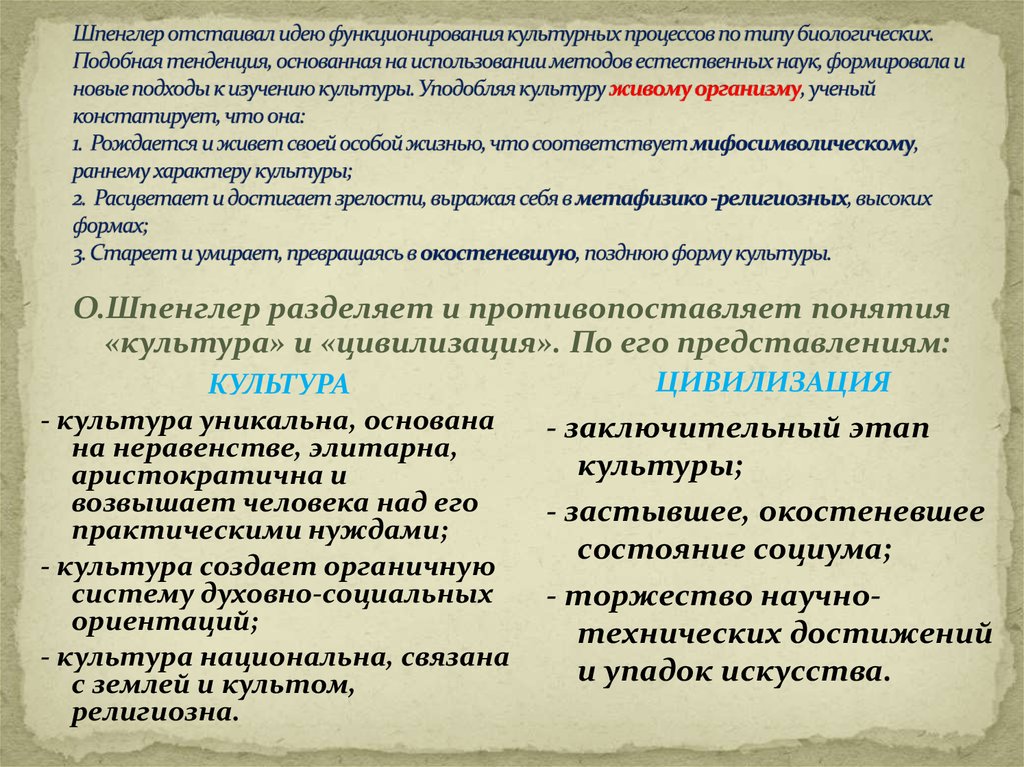
Известный
английский историк Арнольд
Тойнби
(1889-1975) в своем многотомном труде
«Постижение истории» выделил двадцать
одну цивилизацию.
В представленииТойнби,цивилизацияэто целостная общественная система,
все части которой взаимосвязаны и
взаимодействуют друг с другом. Главную
роль в формированиицивилизацийиграют географические, этнические и
религиозные факторы. В своем развитии
каждаяцивилизацияпроходит стадиигенезиса,
роста, надлома и разложения. Заканчивается
этот процесс гибелью и сменойцивилизаций.
Идеи
Тойнбиперекликаются с концепцией исторического
развитияЛьва
Николаевича
Гумилева
(1912-1993). Ключевым в его теории является
понятие этноса.
Исследуя жизненный цикл сорока
индивидуальныхэтносов,Гумилеввывел
кривуюэтногенеза,
которая длится 1500 лет.Этногенезпроходит стадии инкубационного периода,
пассионарного подъема,акматическую
фазу, надлом, инерцию,обскурацию,
регенерацию и реликт. В конце XX в.
концепцияЛ.Н.
Гумилевавызвала определенный интерес,
который в значительной степени связан
с тем, что впервые столь ярко и масштабно
были представлены роль и место этнического
фактора в развитии истории мировыхцивилизаций.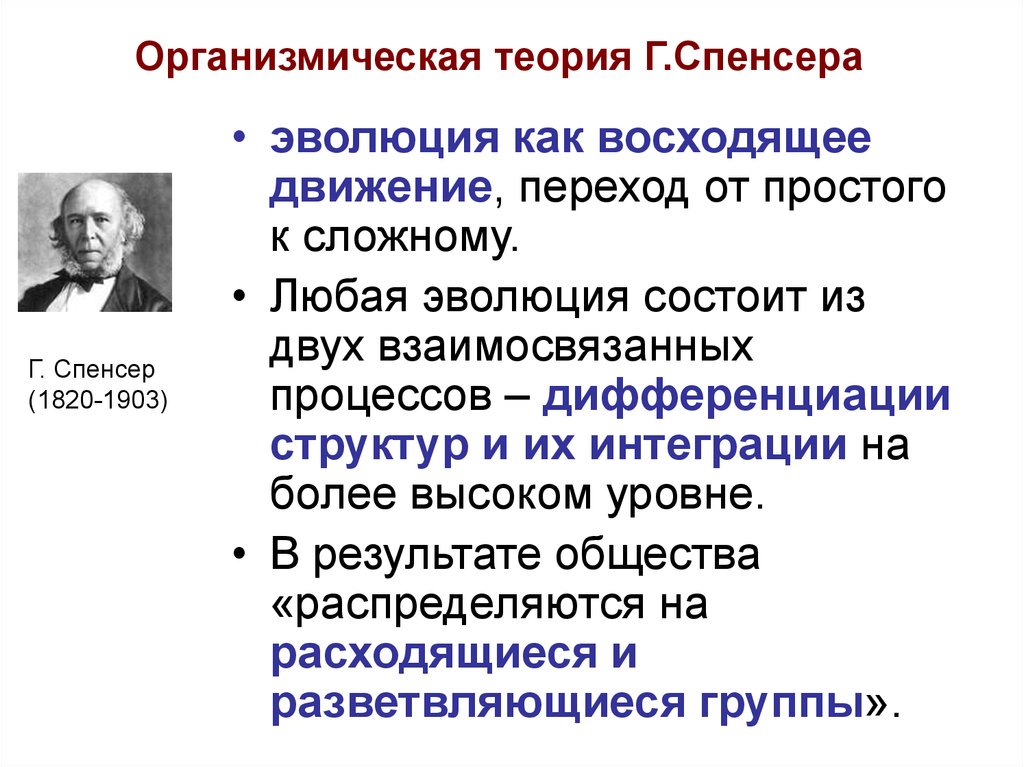
Во
второй половине XX в. в период холодной
войны и после ее окончания появился ряд
исследований, в которых была сделана
попытка дать общую схему развития
человечества и показать перспективы
процесса цивилизационного мироустройства.
Американский
социолог Уолт
Ростоу
(1916-2003) в 1960 г. предложил социально-экономическую
концепцию исторического развития,
сформулированную в книге «Стадии
экономического роста. Некоммунистический
манифест». Он делит историю человечества
на пять стадий экономического роста:
традиционное общество, переходное
общество, стадия сдвига или промышленная
революция, стадия зрелости и эра высокого
массового потребления. По мнению Ростоу,
в развитии общества решающую роль играют
технико-экономические показатели.
Идея
технологического детерминизма лежит
в основе теории индустриального общества.
Один из создателей этой теории французский
социолог Раймон
Арон
(1905-1983) в работе «Лекции по индустриальному
обществу», изданной в 1964 г.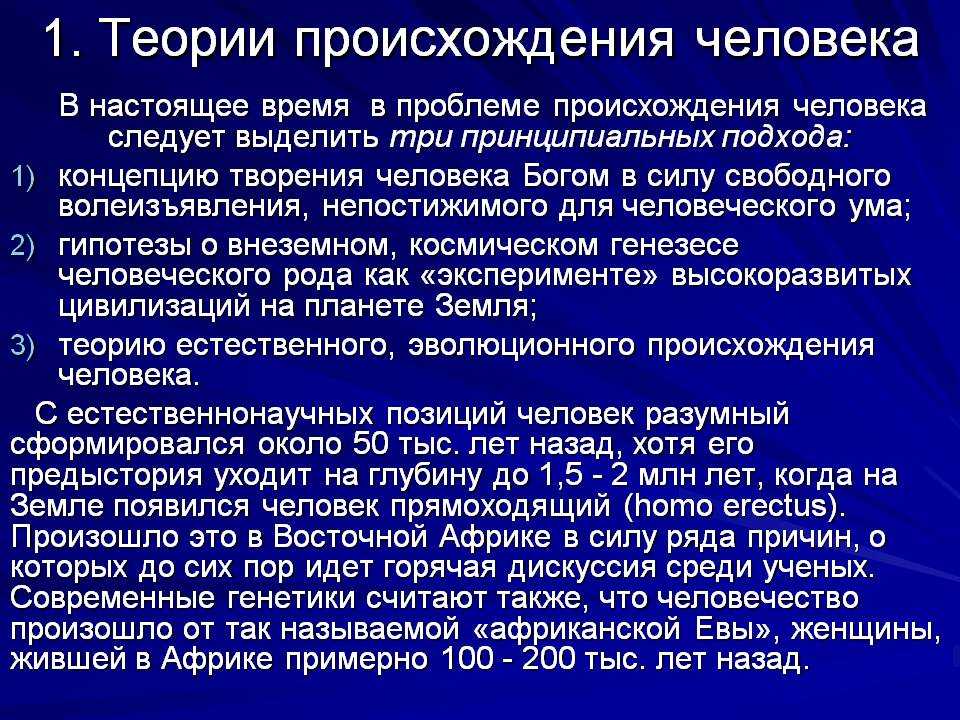 , выдвинул
, выдвинул
тезис о взаимодействии техники и
общества. Арон показывает, что социальный
прогрессхарактеризуется переходом от традиционного
общества (т.е. аграрного, в котором
господствуетнатуральное
хозяйствои сословная иерархия) к
передовому индустриальному обществу.
В
70-х годах XX в. начали разрабатывать идею,
согласно которой научно-технический
прогрессприводит к трансформации индустриального
общества в качественно иноепостиндустриальное
общество. Одним из основателей этой
теории являлся американский социологДаниел
Белл
(1919-2011). В 1973 г. он опубликовал работу
«Пришествие постиндустриального
общества»,
в которой изобразил будущее человечества
с позиций умеренного технологического
детерминизма. История, по Беллу,
развивается в зависимости от уровня
развития техники в обществе. Он выделил
три этапа общественного развития:
доиндустриальный, индустриальный,
постиндустриальный.
В
80-90-е гг. XX в. продолжают появляться
теории и концепции, которые дают несколько
упрощенную и ограниченную схему
цивилизационного развития.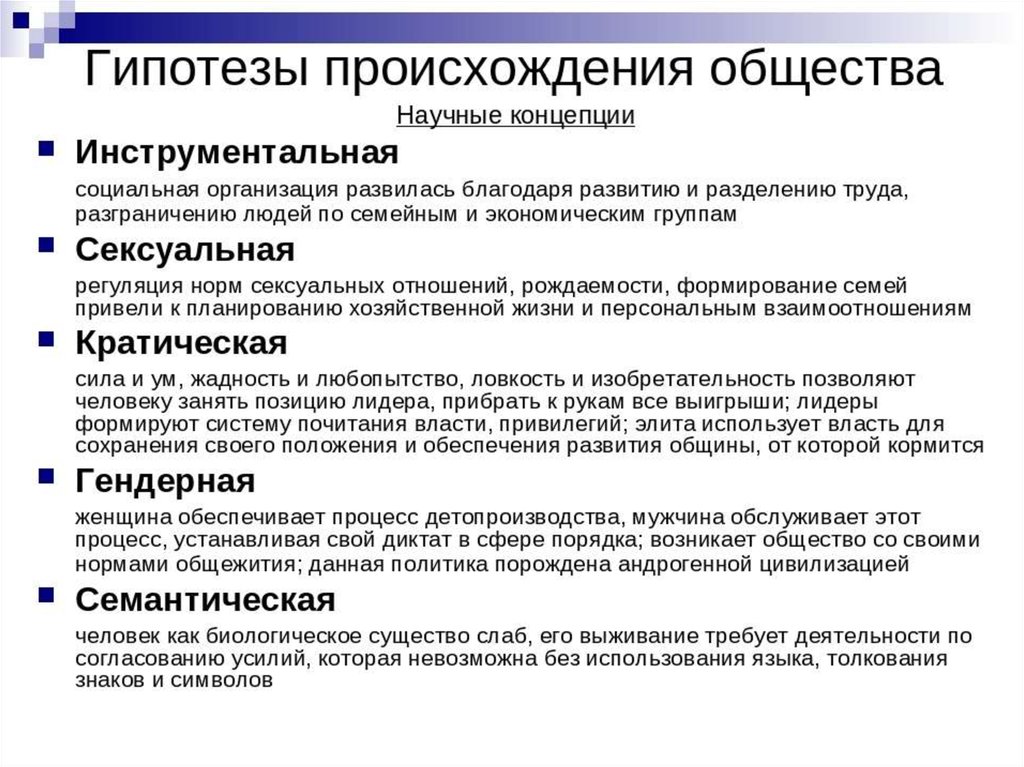
Большой
интерес вызвала концепция третьей волны
американского социолога Алвина
Тоффлера
(1928). В книге «Третья волна», вышедшей в
1980 г. он предложил общеисторическую
схему, включающую три волны:
сельскохозяйственная, индустриальная
и с конца XX в. – супериндустриальная,
характеризующаяся ограниченным и
сбалансированным ростом.
Американский
исследователь Дж. Несбитт
указывает,
что постиндустриальное
общество- это информационное общество,
а создание, хранение и распространение
информации главная тенденция современности.
В
конце XX в. американский ученый Самуэль
Хантингтон в
1996 г. опубликовал книгу «Схватка
цивилизацийи переустройство мирового порядка». В
ней утверждается, что будущее человечества
будет определять конфронтацияцивилизаций.
Таким
образом, со времени первых теоретических
исследований по проблемам цивилизациив этой области достигнут значительныйпрогресс.
Создание новых цивилизационных схем и
моделей продолжается и в настоящее
время, но, к сожалению, современная
теория не успевает за ростом цивилизации.
Обществознание 1.3
1. Развитие и его особенности
2. Понятие цивилизации
3. Теории развития цивилизаций
Самая очевидная характеристика существующего мира – это его постоянное изменение. Все материальные и нематериальные структуры изменяются с течением времени. Прогрессивные изменения, приводящие к улучшению характеристик предмета или явления — принято называть развитием.
Изменения и материальной и духовной составляющей идет постоянно. Изменяются орудия труда, изменяются цели и идеалы существования людей и государств.
Однако, несмотря на различия истории разных народов и государств, в истории действуют свои законы и закономерности. И один из законов — закон неравномерного развития различных обществ. Общественное развитие напоминает восхождение по ступеням некой общей лестницы, по которой общества движутся с различной скоростью.
Рис.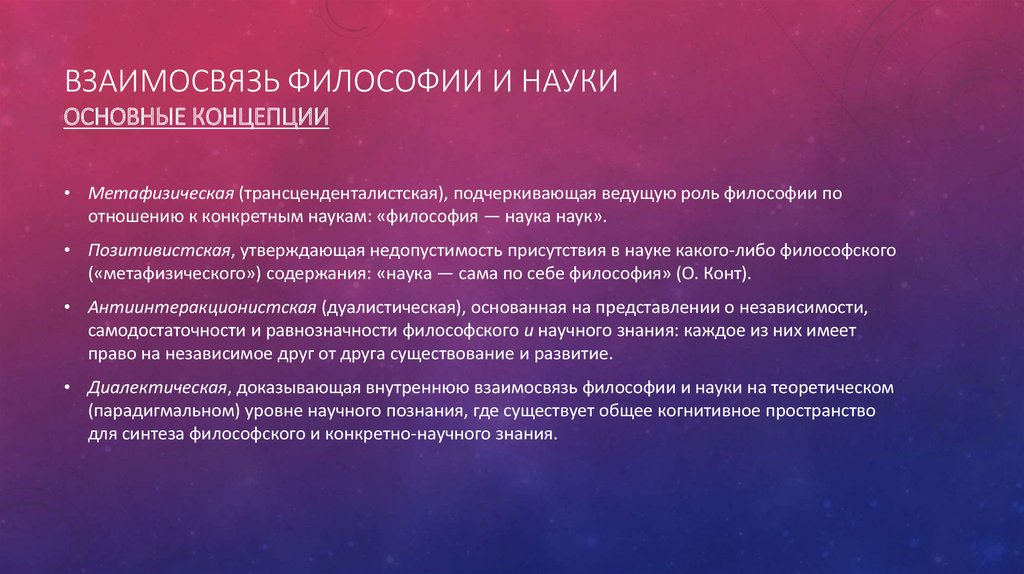 1. Человекообразные предки людей
1. Человекообразные предки людей
Практически все народы начинали свой исторический путь с первобытного (дикого) состояния, когда возможности для существования и цели этого существования были до предела просты и практически не различались: основная цель – выжить во что бы то ни стало.
Средства, имеющиеся в распоряжении человека для решения этой задачи так же были весьма ограничены.
Однако чем дальше шло развитие человека, тем больше совершенствовались орудия труда, тем активнее человек преобразовывал окружающую среду, более стабильной становилась жизнь.
Из курса истории известно, что уже в период неолита успехи развития общества в поиске порядка и стабильности приводят к появлению довольно крупных поселений людей, проживающих по определенным правилам – появляются первые протогосударства и вместе с ними первые цивилизации.
Понятие цивилизации позже свяжут с достижением определенной ступени развития на пути формирования современного общества.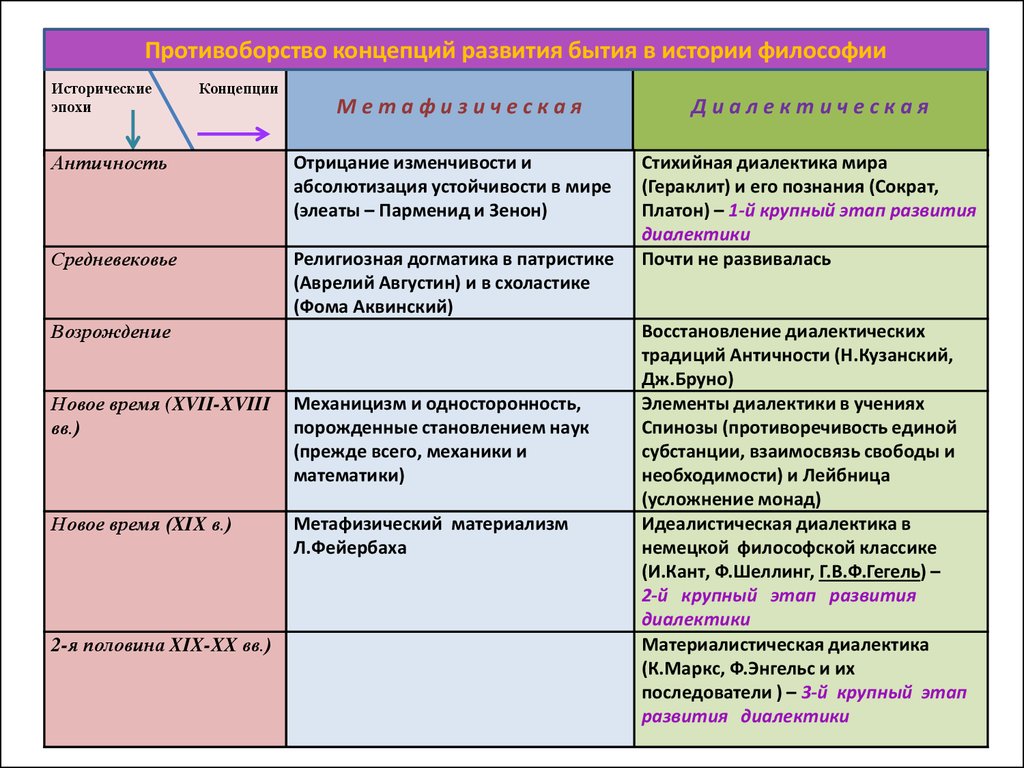
В самом общем смысле цивилизация (лат.civilis) — гражданский, государственный. Однако на сегодняшний день существует не менее 100 различных определений этого понятия.
Трактовка определения зависит от того, под каким углом мы рассматриваем это явление:
— цивилизация как идеал прогресса
— цивилизация как ступень общественного развития
— цивилизация как множество независимых (локальных) цивилизаций
Можно привести несколько наиболее «рабочих» определения этого понятия:
1. Цивилизация — это высший этап развития общества. Для того, чтобы достичь его, обществу необходимо:
— научиться возделывать поля и приручать животных,
— создавать предметы материальной культуры,
— строить города,
— овладеть письменностью и установить правила морали
(таким образом, процесс становления цивилизации – очень длительный и занимает не одну тысячу лет)
2.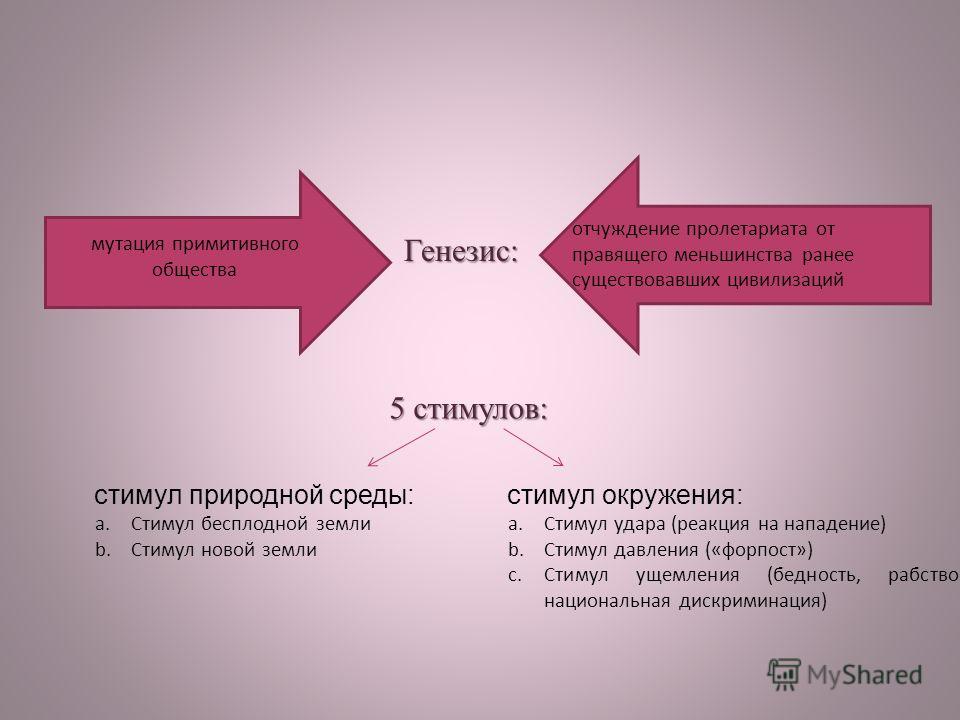 Цивилизация — это образованность; осознание человеком своих прав и обязанностей как гражданина
Цивилизация — это образованность; осознание человеком своих прав и обязанностей как гражданина
3. Цивилизация — это совокупность материально-технических и духовных достижений человечества
4. Цивилизация – понятие, служащее для обозначения определённой стадии исторического прогресса и ценностей гражданского общества, основанного на началах разума, справедливости и законности.
Цивилизация – понятие, служащее для обозначения определённой стадии исторического прогресса и ценностей гражданского общества, основанного на началах разума, справедливости и законности.
Рис. 2. Человек современного вида (кроманьонец). Источник
— рисунок художника Зденека Буриана
Различают следующие признаки цивилизации:
• развитие земледелия и ремёсел
• классовое общество
• наличие государства
• наличие частной собственности, торговли и денег
• наличие городов, монументальное строительство
• наличие развитых форм религии
• письменность
Как правило, в соврменном понимании, цивилизация – это то, что отличает нечто передовое от устаревшего и отсталого.
Цивилизация – как идеал прогрессивного развития
В XVIII в. шотландец Адам Фергюсон одним из первых в истории использовал понятие цивилизации в своей книге «Опыт истории гражданского общества».
Он рассматривал цивилизацию как идеал прогрессивного развития, предполагая последовательное прохождение человечеством следующих этапов развития:
дикость – варварство — цивилизация
Рис. 3. Этапы развития человечества по Фергюсону и Мограну
Таким образом, Фергюсон противопоставляет цивилизацию дикости и варварству (рис. 3).
Первоначально понятие употреблялось только в рамках теории прогресса как противоположность варварству, как единая стадия всемирно-исторического процесса и идеал развития.
Французские просветители XVIII века называли цивилизацией общество, основанное на разуме и справедливости.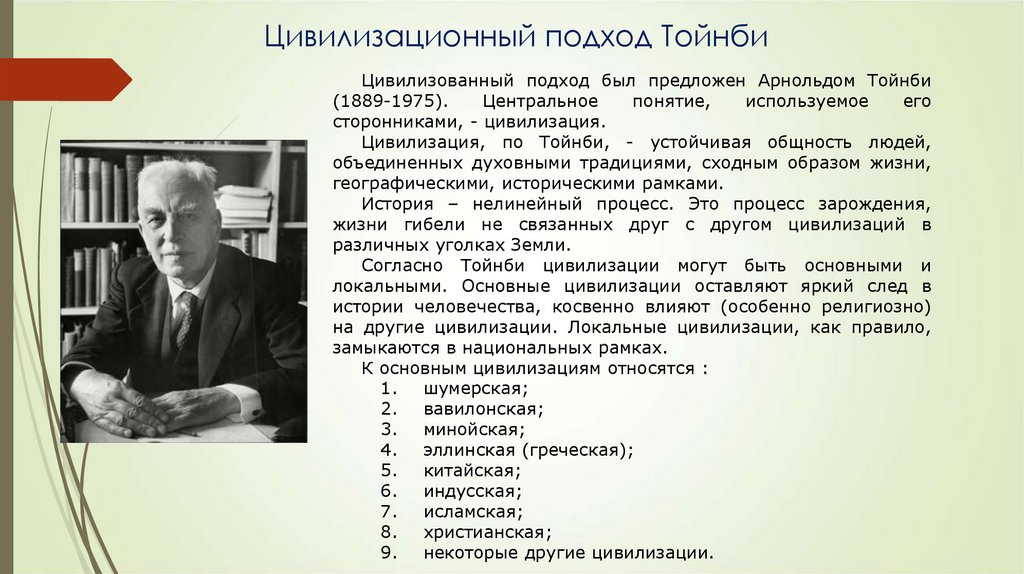
Существенным недостатком подхода Фергюсона является то, что человечество рассматривается им как единое целое в то время как уже становилось понятно, что человечество все более и более дифференцируется, то есть наблюдается развитие не одного, а многих обществ, идущих не только с различной скоростью по лестнице развития, но и еще в различных направлениях.
Цивилизация – как этап развития общества
Рис. 4. Схема развития по Марксу
Периодизацию, предложенную Фергюсоном, развили в XIX веке Льюис Морган и Фридрих Энгельс.
Они утверждали, что на стадии цивилизации происходит выделение общества из мира природы и возникает расхождение между естественными и искусственными факторами развития общества.
Сами этапы схемы получили уточнение, разделившись на низший, средний и высший этапы в зависимости от достижений человека (см. рис. 3).
рис. 3).
Следующим этапом разработки стадиального понимания развития общества стала классовая теория немецкого ученого Карла Маркса (см. рис. 4,5).
Согласно его учения, движущей силой любого (в том числе общественного) развития являются противоречия, в процессе разрешения которых и рождается нечто новое, новый этап развития уже существующего.
Рис. 5. Этапы развития человечества по Марксу
Развивая это предположение, Маркс пришел к выводу, что движущей силой и источником изменений в общественном развитии выступают классы, из которых состоит общество на определенном этапе своего развития.
Маркс пришел к выводу, что движущей силой и источником изменений в общественном развитии выступают классы, из которых состоит общество на определенном этапе своего развития.
Так, на начальном (диком) этапе своего развития общество бесклассовое, поэтому и развитие идет крайне медленно, изменения накапливаются очень небыстро.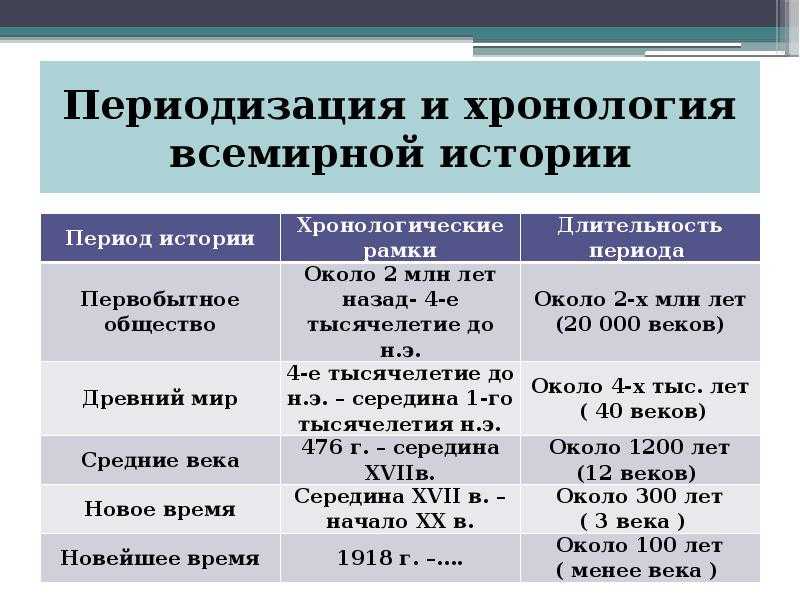 Однако как только появляется понятие собственности, прибавочного продукта, социального деления общества – появляются противоборствующие элементы внутри общества – классы.
Однако как только появляется понятие собственности, прибавочного продукта, социального деления общества – появляются противоборствующие элементы внутри общества – классы.
Дальнейшее противостояние и так называемая «классовая борьба» заставляет общественные отношения весьма быстро прогрессировать ко все более справедливым и свободным формам.
Маркс назвал этапы, которые проходит в своем развитии общество – формациями и увязал их с уровнем экономического развития.
Недостатком марксистского подхода является то, что его теория учитывает влияние преимущественно материальной, политической и экономической сторон жизни, не уделяя достаточного внимания духовной составляющей.
В конце XIX начале XX века появляется несколько учений, по другому видящих общественный прогресс.
Так, немецкий философ Освальд Шпенглер предлагает теорию, согласно которой у каждого народа существует своя собственная уникальная и неповторимая цивилизация.
В мировой истории он усматривает одновременное существование и развитие сразу 8 мировых культур:
— Египетская
— Вавилонская
— Индийская
— Китайская
— Греко- римская
— Арабская
— Мексиканская
— Западная
Линейную историю Шпенглер предлагает заменить циклической моделью возникновения – расцвета — гибели множества неповторимых культур.
Связь культуры и цивилизации он видел в их противопоставлении:
культура рождается как неповторимое сочетание огромного количества факторов развития конкретного народа;
на одном из этапов развития культуры она достигает стадии цивилизации;
дальнейшее развитие цивилизации приводит сначала к упадку, а затем и к исчезновению культуры, породившей данную цивилизацию.
Рис. 6. Развитие цивилизации, согласно Шпенглеру
6. Развитие цивилизации, согласно Шпенглеру
Развитие культуры можно представить в виде графика – синусоиды (рис. 6), где на начальном этапе появляется культура, которая некоторое время растёт, пока не достигает своего пика.
Развитие культуры прекращается, она не в состоянии создавать всё новые и новые формы самовыражения.
Удобство — комфорт – благополучие становятся более важными ценностями, чем поиск-борьба- противостояние.
В какое-то время представители данной культуры осознают себя достигшими некоего особенного уровня – цивилизованности, который, на самом деле обозначает утрату культуры взамен цивилизации.
Одним из главных трудов жизни философа стала книга «Закат Европы», в которой он развивает эти идеи и предрекает закат европейской культуры в XXI веке.
Другой представитель ученых этого направления — русский философ Николай Данилевский, который, как и О. Шпенглер оспаривает деление истории на периоды.
Шпенглер оспаривает деление истории на периоды.
Он выставляет в качестве реальных носителей исторической жизни мира несколько обособленных групп, которые обозначает как «культурно-исторические типы».
Данилевский насчитывает 10 культурно — исторических типов, незначительно расширяя список мировых культур О. Шпенглера. Россия со славянством образуют особый культурно-исторический тип, который должен проявиться в скором времени. Этот культурно-исторический тип совершенно непохож и отделен от культуры Европы..
Английский ученый Арнольд Тойнби разрабатывает концепцию причинно-следственных условий развития цивилизаций.
В ее основе лежит идея возникновения и развития цивилизаций в виде ответа на глобальные вызовы времени.
Цивилизации проходят стадии:
рождение – рост — надлом — разложение
Рис. 7. Взаимовлияние цивилизаций,
согласно А.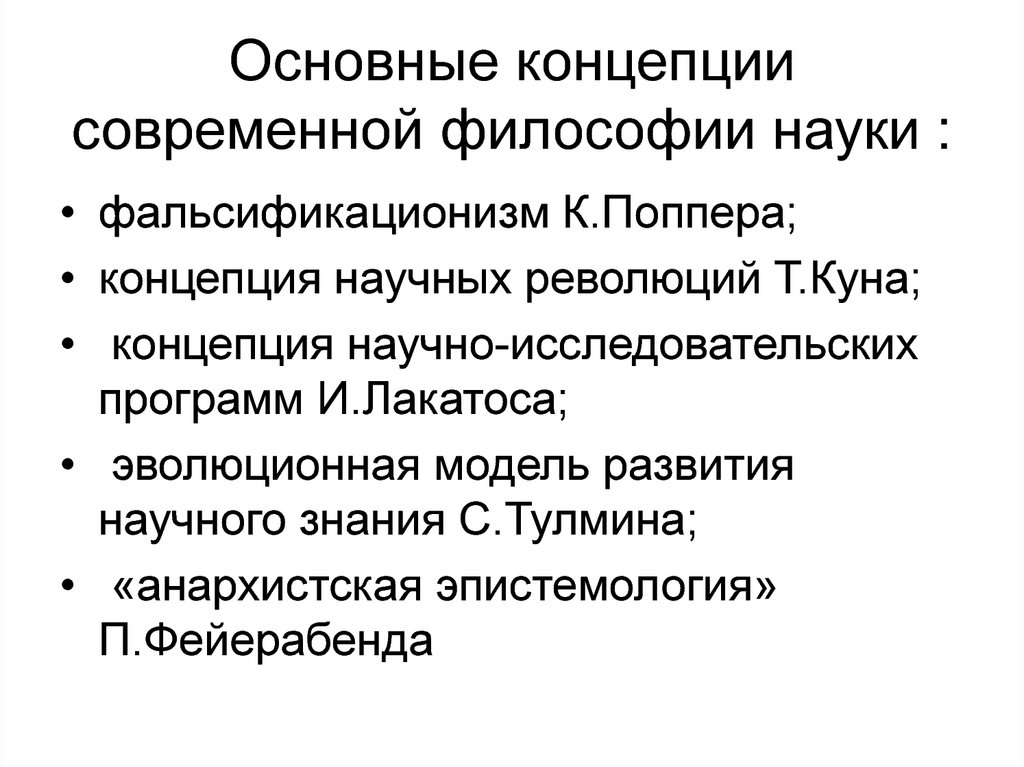 Тойнби
Тойнби
Развивая мысль О.Шпенглера, Тойнби показывает, что на начальном этапе появляется культура, которая некоторое время растёт, пока не достигает своего пика. В этой точке происходит надлом культуры, остановка в развитии. В дальнейшем наблюдается её
упадок, который завершается окончательным разложением и исчезновением.
Особенностью теории Тойнби является тот факт, что цивилизации развиваются изолированно и не в состоянии повлиять на ход эволюции друг друга.
Развитие цивилизации определяется творческим меньшинством, которое фактически направляет общество.
Если творческое меньшинство перестает оказывать влияние на общество, цивилизацию ждет упадок.
Тойнби признает, что цивилизации могут образовывать своеобразные цепочки, но их в цепочке может быть не более трех.
Так, греческая цивилизация образовалась на руинах минойской, а западная – на основе греческой.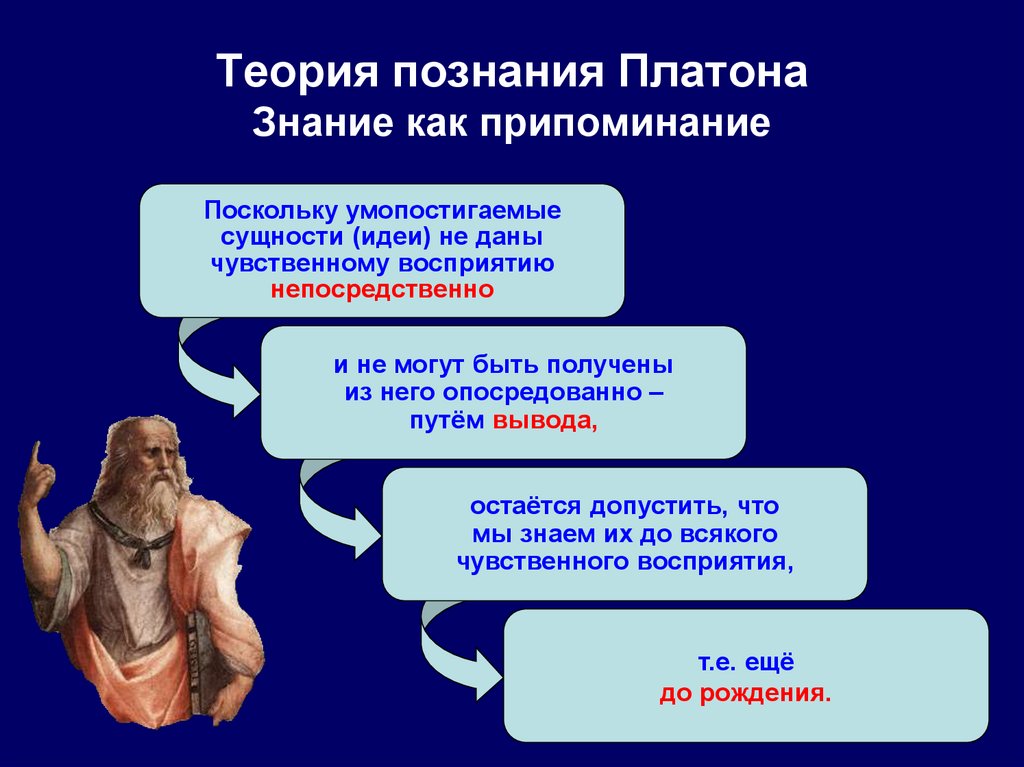
Развитие определяется тем, способна ли цивилизации находить ответы на вызовы истории. То есть цивилизация продолжает свое существование в том случае, если она адекватно «отвечает» на попытки ее уничтожить, которые время от времени ей «устраивает» судьба.
По подсчетам Тойнби в среднем срок жизни цивилизации составляет около 1,5 тысяч лет.
Основным вызовом, определившим развитие русской цивилизации, Тойнби считает внешнее давление.
Давление началось в 1237 г. походом хана Батыя. Ответом на него стало изменение образа жизни и социальной организации славян. Это позволило впервые за всю историю оседлому обществу победить кочевников и завоевать их земли.
В следующий раз давление последовало в XVII в. со стороны западного мира. Польская армия в течение двух лет занимала Москву. Ответом на этот стало основание Петербурга и создание Российской империи.
Тойнби предсказывал, что в XXI веке определяющим историю станут идеалы России (которую отвергает Запад), идеалы исламского мира и Китая.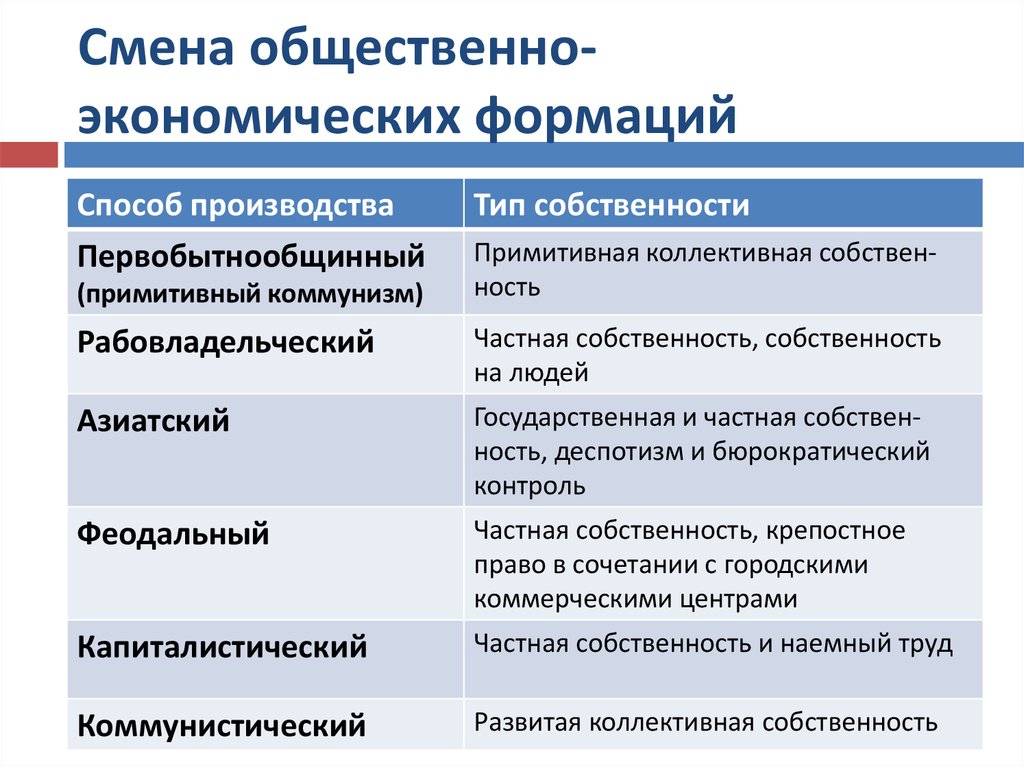
В середине XIX века французский философ Огюст Конт разрабатывает новое направление в науке – теорию позитивизма.
Позитивизм – универсальный метод поиска объективных знаний, объединяющий эмпирический (наблюдение) и логический (анализ) методы.
— достоверно только, то подтверждено опытом (экспериментом)
— для связей между экспериментами различных наук нужен логический анализ
Рис. 8. Позитивист — Огюст Конт;
неопозитивисты: Даниэл Бэлл и
Самюэл Хантингтон
Единственной формой знания по Конту становится научное знание. Основная цель позитивизма — получение объективного знания. Второй важной чертой научного знания является эмпиризм — строгое подчинение воображения наблюдению.
Огюст Конт предложил разделить общественный прогресс на три части по уровню экономических достижений того или иного периода:
— традиционное общество
— доиндустриальное общество
— индустриальное (массовое) общество
Такое объяснение наиболее адекватно описывало существующий при Конте общественный строй Европы и мира.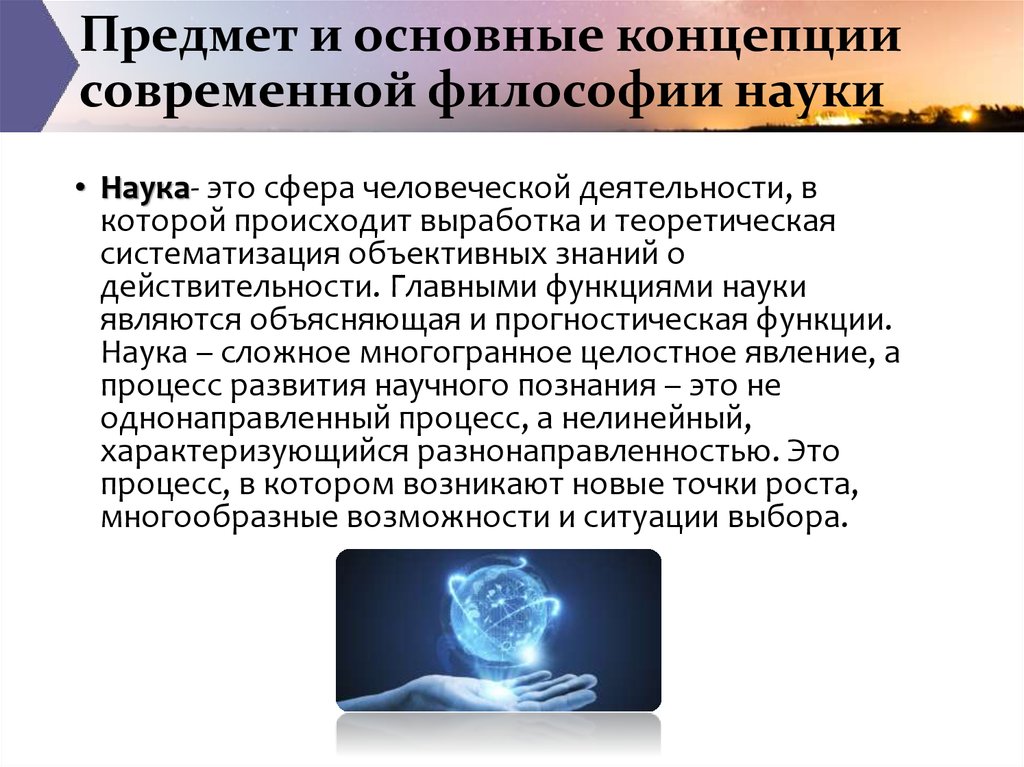
Однако позднее, уже в XX веке последователи Конта – неопозитивисты – дополнили теорию, предложив деление общественного прогресса:
— доиндустриальное общество (включает в себя традиционное, аграрное общество)
— индустриальное (массовое)
— постиндустриальное (в том числе информационное)
Термин «постиндустриальное общество» предложил Даниэл Белл.
Моменты перехода общества с одной стадии на другую называются модернизацией.
Согласно этого подхода, в настоящее время мир переживает процесс перехода от индустриального (общество товарного производства и рабочих специальностей) — к постиндустриальному обществу, основой экономики которого является сфера услуг.
Наконец в 1993 году вышла научная работа Самюэля Хантингтона «Столкновение цивилизаций». В ней автор доказывает, что если XX век ознаменовался столкновением идеологий, то XXI век будет веком войн между цивилизациями.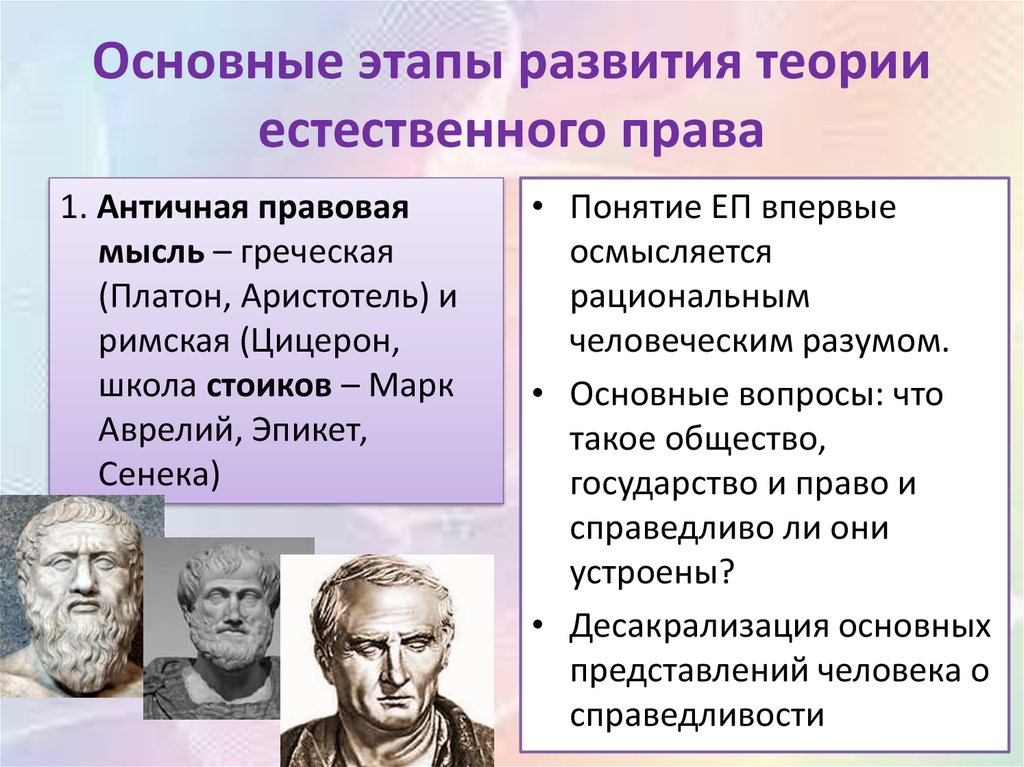
Учебник:
Кравченко А.И. Обществознание: учебник для 10-11 классов. – 7-е изд. – М.: ООО ТИД «Русское слово — РС», 2014. – 312 с.
Глава 3
§ 4 стр. 28-35
Составление конспекта по плану:
1. Основные стадии развития общества.
2. Индустриальное общество и его особенности. Индустриализация и урбанизация.
3. Постиндустриальное общество и его отличительные признаки.
Тема доклада:
Зарождение информационного общества
Вопросы для закрепления и повторения:
1. Разъясните сущность и особенности процесса общественного развития.
2. Почему существует множество определений понятия «цивилизация»
3. Перечислите основные подходы к определению понятия «цивилизация»
4. В чем, на ваш взгляд, сущность размышлений О.Шпенглера и Н.Данилевского о цивилизации?
В чем, на ваш взгляд, сущность размышлений О.Шпенглера и Н.Данилевского о цивилизации?
5. Как со временем менялись взгляды на причины и движущие силы развития общества?
Угроза гибели цивилизации по вине ученых останется с человечеством навсегда / Наука / Независимая газета
Научному сообществу остро не хватает критического отношения к себе и эмпатии к людям.
Кадр из фильма «Назад в будущее». 1985
Науке свойственно фундаментальное противоречие: являясь решающим фактором развития цивилизации, она одновременно угрожает ей гибелью. Опасны не только некоторые направления научных исследований вроде разработки биотехнологий и искусственного интеллекта. Потенциально опасны все ученые, включая самых гениальных и добропорядочных.
Профессиональные изъяны ученых
1. Ученые опасны своими предметными ошибками, прежде всего парадигмальными, возникающими из-за неудачного индуктивного обобщения фактов.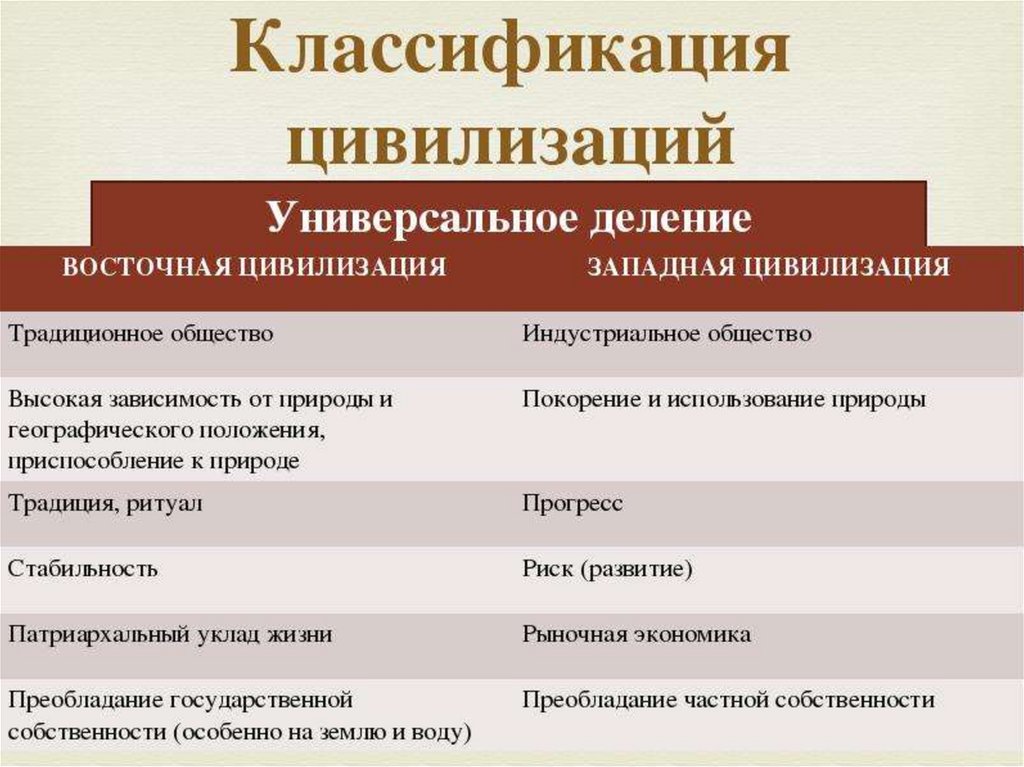 Всякое такое обобщение – это рулетка, всегда можно попасть впросак, что с учеными часто и бывает. Как изящно пошутил Анатоль Франс, наука непогрешима, но ученые постоянно ошибаются. При этом ученые не только вынуждаемы природой научного знания к не стопроцентно обоснованным обобщениям, но и сами к ним склонны: они стремятся опередить других ученых, дабы первыми объявить о своем открытии (борьба за приоритет – движущая сила научного творчества).
Всякое такое обобщение – это рулетка, всегда можно попасть впросак, что с учеными часто и бывает. Как изящно пошутил Анатоль Франс, наука непогрешима, но ученые постоянно ошибаются. При этом ученые не только вынуждаемы природой научного знания к не стопроцентно обоснованным обобщениям, но и сами к ним склонны: они стремятся опередить других ученых, дабы первыми объявить о своем открытии (борьба за приоритет – движущая сила научного творчества).
2. Стремясь воздействовать непосредственно на подсознание читателей и слушателей, авторы научных новаций зачастую выходят за пределы научной аргументации, успешно применяя ту же технику убеждения, что и реклама. А именно: они употребляют ключевые для своих новаций термины в связке с терминами, заведомо имеющими в глазах читателей и слушателей положительную коннотацию.
3. Ученые «до последнего патрона» защищают терпящие фиаско под напором новых эмпирических данных канонические теории, подводя под них новые теоретические обоснования.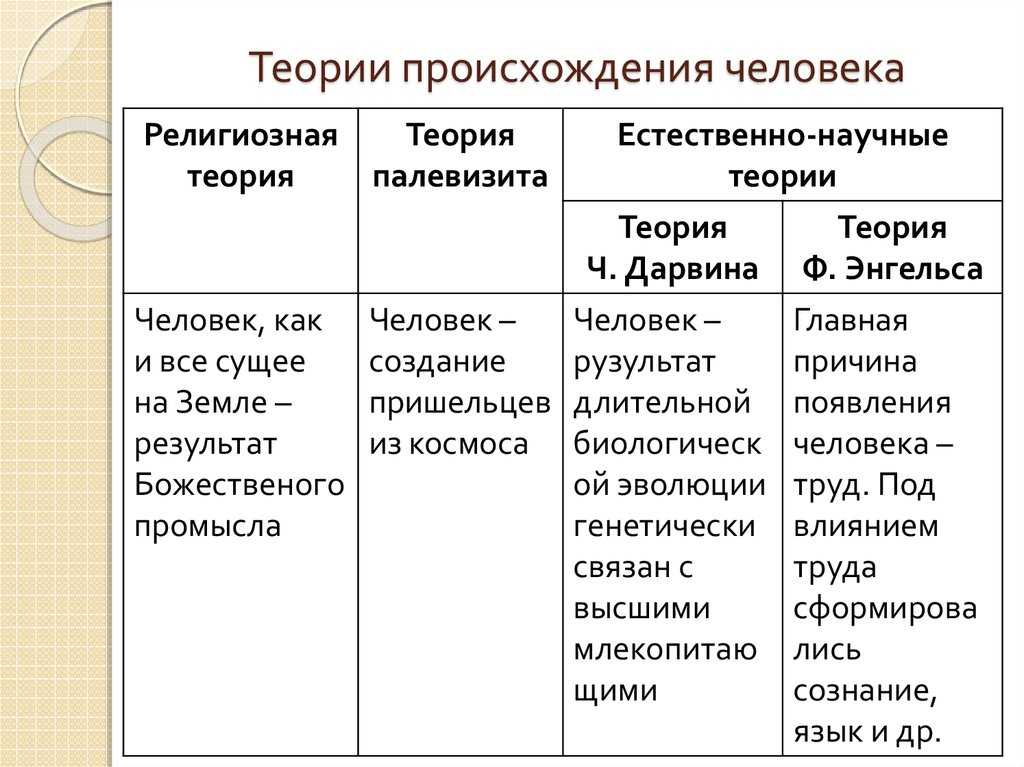
4. В научном сообществе господствует атмосфера неприятия научного инакомыслия. Всякое научное диссидентство, всякая девиация от мейнстрима, всякое отклонение от концепции данной научной школы или даже от точки зрения данного конкретного ученого воспринимается данным конкретным ученым, данной научной школой или мейнстримным научным сообществом (научным истеблишментом) негативно. При этом самое жесткое сопротивление вызывают наиболее новаторские работы.
5. Руководимые желанием совершить научное открытие и увековечить себя в анналах науки, некоторые (многие?) ученые – во всех других отношениях вполне нормальные люди – становятся лишенными эмпатии социопатами. Они готовы «пробивать» свои открытия любой ценой, пренебрегая их опасностью для людей.
В подтверждение кратко перескажу чудовищную историю, которая произошла в США и о которой можно прочитать в книге Фрэнсиса Фукуямы «Наше постчеловеческое будущее: Последствия биотехнологической революции» (М.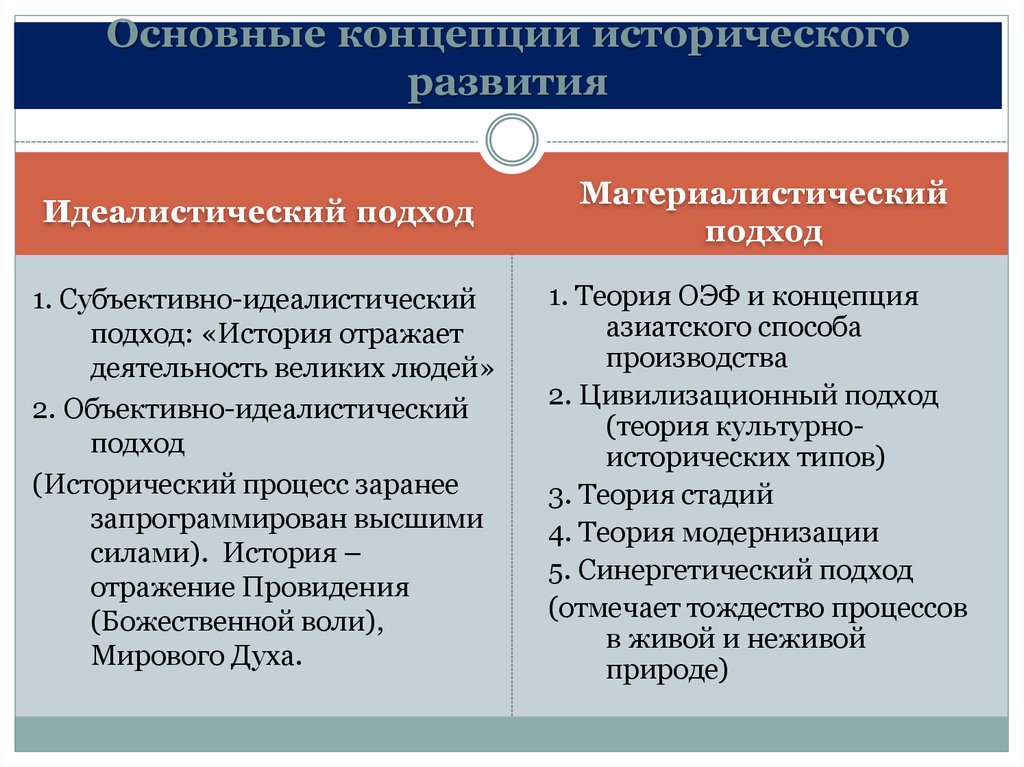 , 2004).
, 2004).
Мальчика, родившегося в 1965 году, звали Брюс Реймер. В младенчестве у него были проблемы с мочеиспусканием, вызванные фимозом. По этому поводу ему в возрасте восьми месяцев провели обрезание, но сделали это не совсем удачно. Здесь на сцене появляется известный психолог и сексолог Джон Мани. Для проверки своей гипотезы (Мани полагал, что половая идентичность человека не задается природой, а прививается средой) он уговорил родителей Брюса на совершенно не обязательную в данном случае полную кастрацию ребенка (ему были удалены остатки пениса и половые железы) и на его дальнейшее воспитание как девочки. Все закончилось трагически: в возрасте 38 лет Реймер покончил с собой, в чем его родители обвинили методологию Мани.
Уточним. Мани проявил себя в отношении пациента как социопат, но не как психопат. Различие в том, что отсутствие эмпатии у психопата является результатом генетической предрасположенности, тогда как у социопата – воздействия среды.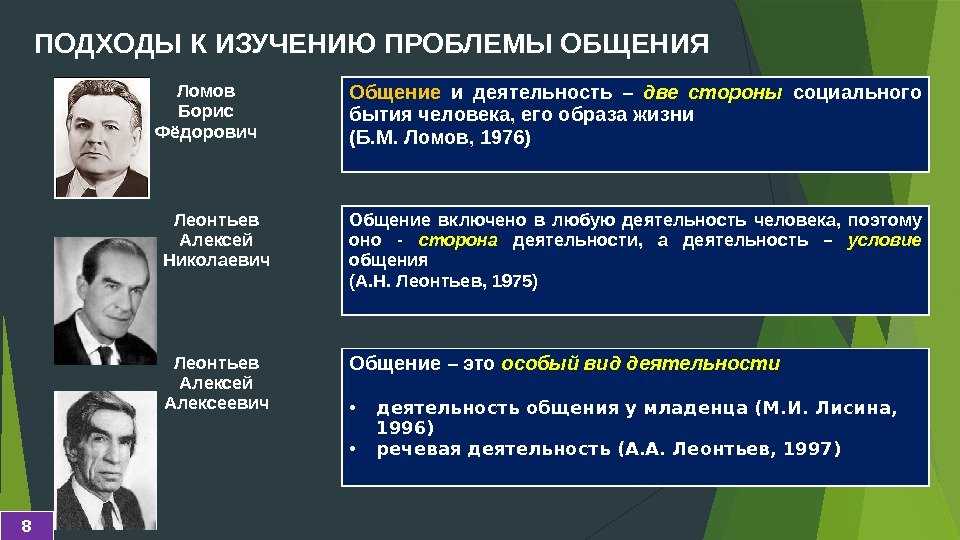 На Мани социопатическую печать наложила профессия. Как пишет Фукуяма, «Джон Мани был движим сочетанием научного тщеславия, амбиций и желания доказать положение идеологии – свойства, которые заставили его… действовать прямо против интересов пациента».
На Мани социопатическую печать наложила профессия. Как пишет Фукуяма, «Джон Мани был движим сочетанием научного тщеславия, амбиций и желания доказать положение идеологии – свойства, которые заставили его… действовать прямо против интересов пациента».
Вот эта зацикленность ученых на разработке и продвижении собственных идей и делает вполне добропорядочных и психически здоровых в своей массе ученых потенциально опасными для людей. Многие из них при этом исходят из того, что работают «на благо человечества». Эта установка крайне опасна, потому что наперед оправдывает любые действия ученого.
Характерно, что никакого законного наказания Джон Мани не понес. Не был он и подвергнут остракизму со стороны коллег. Была только критика его гипотезы со стороны тех, кто ее не разделял. Научное сообщество восприняло социопатическое деяние Мани этически нейтрально. Это, на мой взгляд, характеризует его (научное сообщество) в данном случае вполне социопатическим образом.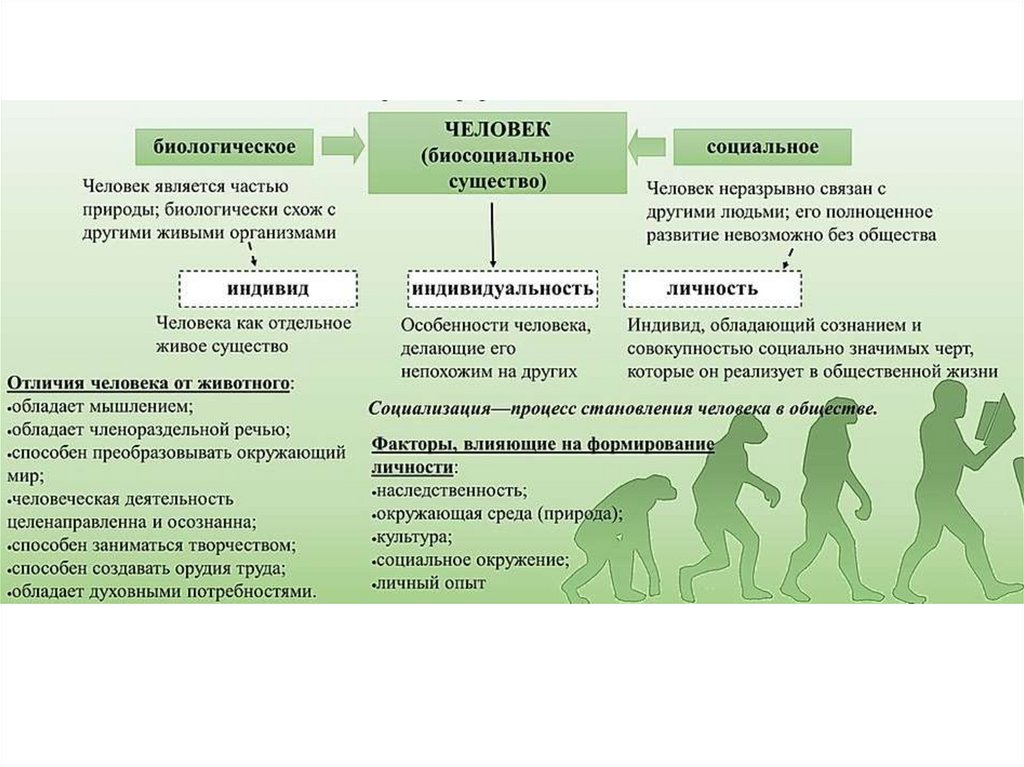
Комиссии по защите от науки
Суммируя пять пунктов наших инвектив против ученых, констатируем, что научному сообществу остро не хватает критического отношения к себе и эмпатии к людям. Это с одной стороны. А с другой – наука уже поставила на службу человеку столь могучие силы природы, что действия даже одного ученого или одной научной лаборатории (скажем, вирусологической) могут привести к глобальной катастрофе. Это сочетание чрезвычайно опасно для цивилизации.
Что делать? Два конкретных предложения.
Во-первых, преобразовать систему комитетов/комиссий по этике, действующую в области медико-биологических исследований, в систему комиссий по защите от науки (КЗОН), которая охватывала бы своим контролем все научные исследования.
Во-вторых, включать в эти комиссии наряду с учеными, раз уж общество не может им доверять, «присяжных заседателей», выбираемых по жребию из «простых» граждан.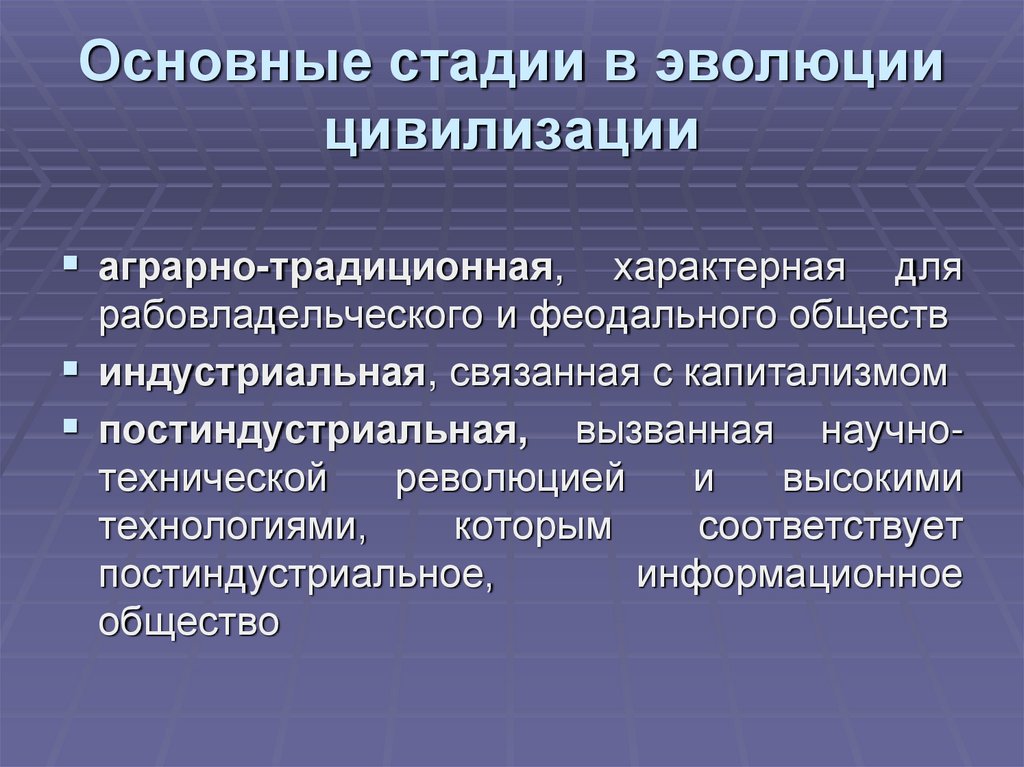
Однако все сказанное нами до сих пор – это только прелюдия, главное – впереди. Опираясь на эволюционные представления, мы далее приходим к выводу о неустранимой паллиативности предложенных нами и всех других, которые только могут быть предложены, мер по защите цивилизации от науки. Другими словами, к выводу о неустранимости фундаментального противоречия науки, обозначенного в первой фразе статьи.
Автогенетическая эволюция
Теория Чарльза Дарвина, как никакая другая, способствовала развитию эволюционных представлений. Однако предложенный им конкретный механизм возникновения эволюционных новаций – механизм естественного отбора – ошибочен. Во всяком случае к такому выводу сегодня приходит все большее число эволюционистов. Чем дальше, тем все большее распространение получает автогенетическая эволюционная концепция, предполагающая, что эволюция происходит в результате самоорганизации материи. Ее основания были заложены Р. Декартом, И. Ньютоном, И. Кантом и П. Лапласом.
Декартом, И. Ньютоном, И. Кантом и П. Лапласом.
Основные положения авторской версии этой концепции.
1. Универсальная эволюция, то есть рассматриваемая в едином ключе неорганическая, органическая и социальная эволюция, происходит в результате самоорганизации материи (взаимодействий).
2. Эволюция происходит в определенном направлении; ее вектор имеет несколько компонентов:
– возрастание сложности и разнообразия форм;
– интенсификация «метаболизмов» разной природы, включая энергообмен и обмен веществ, химические метаболизмы и «метаболизмы» социальные;
– интенсификация и расширение круговоротов энергии и вещества;
– рост связанности «всего со всем».
|
Вся наша жизнь протекает в тумане неопределенности и непредсказуемости результатов наших действий и нашего будущего. 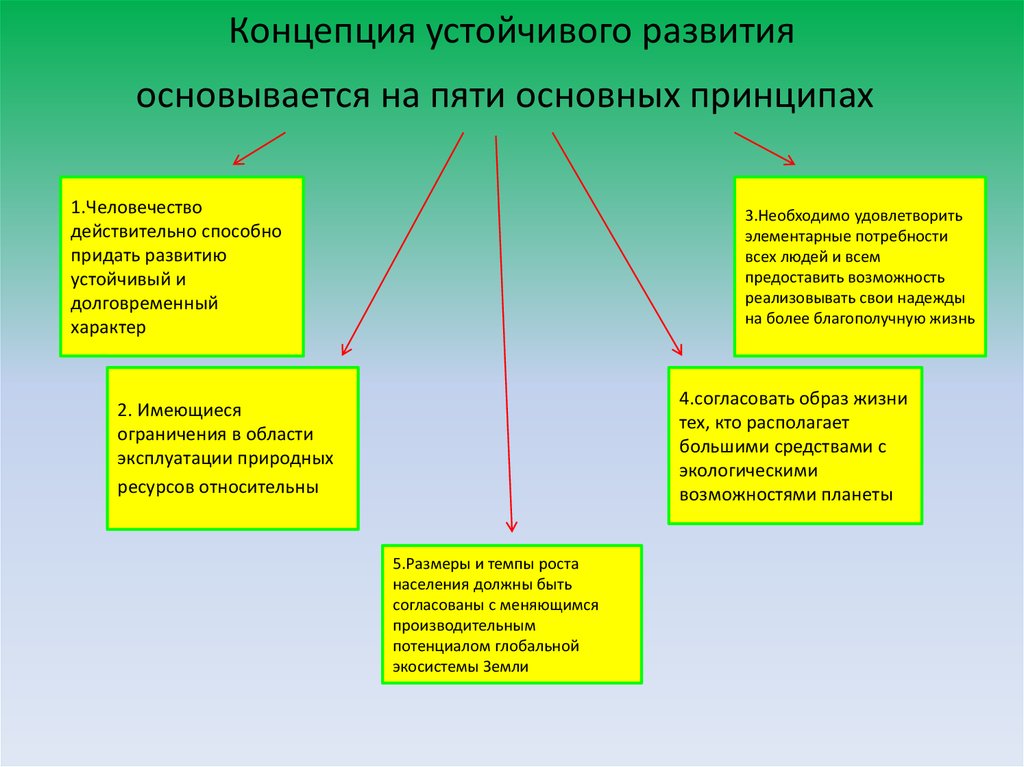 Фото Pxhere Фото Pxhere
|
Эти компоненты – общие для всей универсальной эволюции. В эволюционном соревновании каждый раз побеждают и соответственно выживают системы, более успешно направляющие свои действия по вектору эволюции.
3. Действует эволюционный принцип минимакса: в каждом макроскопическом фрагменте наблюдаемого мира максимизируется интенсивность взаимодействий, ведущих к их последующей интенсификации; и минимизируется интенсивность взаимодействий, не ведущих к их дальнейшей интенсификации. Эволюционное соревнование проигрывают как системы, интенсифицирующие взаимодействия недостаточно быстро, так и делающие это слишком быстро, с перерасходом ресурсов.
4. «Эффект потряхивания» эволюционирующих систем. Представим себе пластиковый поднос с лежащим на нем магнитом и беспорядочно рассыпанными железными опилками. При потряхивании подноса опилки выстраиваются на нем в определенную структуру, воспроизводящую силовые линии магнита.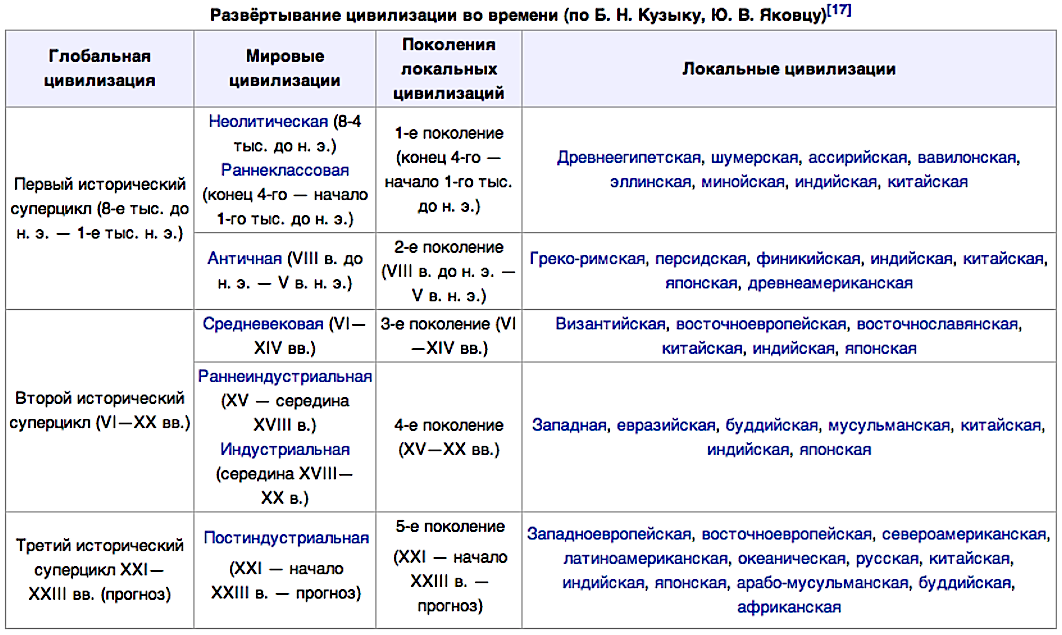
Применительно к эволюции речь идет о «потряхивании» эволюционирующих систем. Роль магнитного поля, создающего постоянное давление на опилки, которое не приводит в «мирное» время к видимым последствиям, здесь играют взаимодействия, создающие постоянное давление на эволюционирующие системы. Роль же «потряхивателя» играют время от времени происходящие на Земле катастрофы, которые, начиная с Жоржа Кювье (1815), фигурируют в концепциях эволюционного катастрофизма.
Коротко говоря, катастрофы активируют эволюционные самосборки. В стрессовых (катастрофических) условиях эволюционирующая система дестабилизируется, становится лабильной, расширяется размах возникающих мутаций (новаций), пока система не выйдет из кризиса.
Стимулирующие эволюцию катастрофы происходят и по внутренним причинам. Известно, что социальные кризисы, как правило, приводят к большим переменам: кризис вызывает стрессовое давление на членов сообщества, стимулирующее эволюционные ментальные и поведенческие самосборки, во множестве которых из-за наличия в эволюции стохастической компоненты присутствуют не только способствующие устранению корней кризиса, но и направленные «в разные стороны».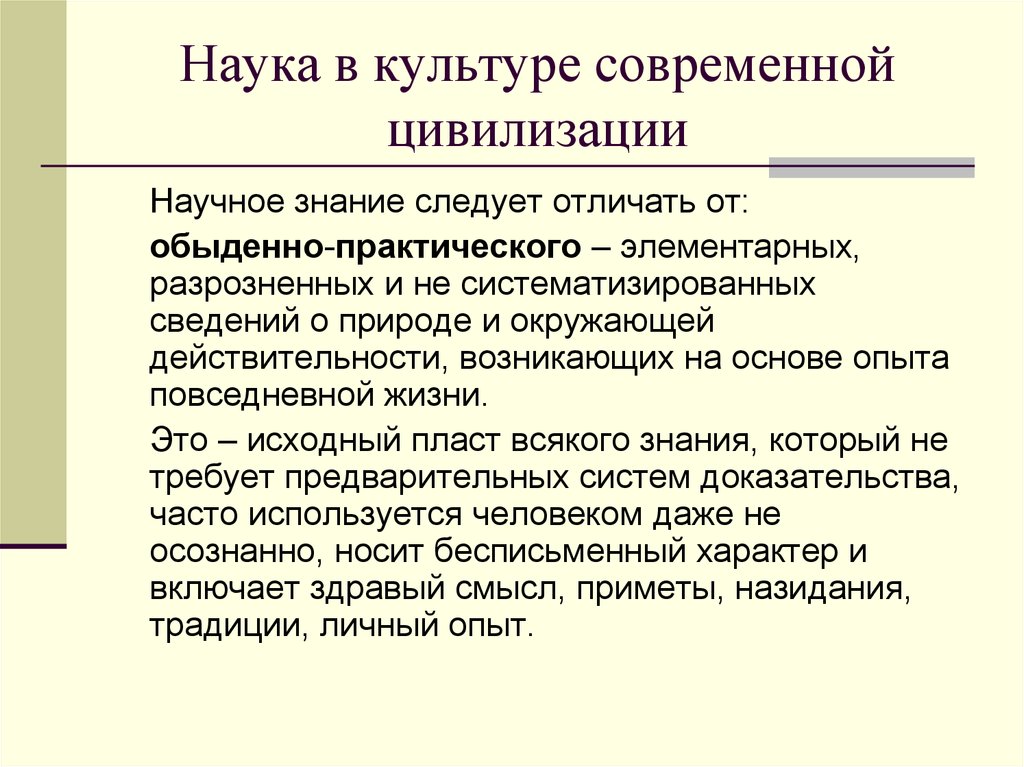 Именно поэтому такие кризисы стимулируют не только переход к очередной социально-экономической формации, но и возникновение новых направлений в искусстве, науке и т.д.
Именно поэтому такие кризисы стимулируют не только переход к очередной социально-экономической формации, но и возникновение новых направлений в искусстве, науке и т.д.
Феномен «катастрофного шума»
Катастрофы и стрессовые ситуации вообще – необходимая составляющая существования эволюционирующих систем (скажем, социумов). Она обеспечивает в соответствии с эволюционным принципом минимакса их эволюции некоторую оптимальную скорость, а тем самым и выживание. В отсутствие катастроф (стрессовых ситуаций) скорость эволюции падает, что приводит к загниванию и последующей гибели эволюционирующих систем. Так что в жизни социумов в норме должен присутствовать на некотором оптимальном уровне, задаваемом эволюционным принципом минимакса, «катастрофный шум».
Если реальный уровень «катастрофного шума» выше или ниже оптимального, эволюция социума тормозится, если существенно выше или ниже – социум гибнет.
Интересно рассмотреть феномен «катастрофного шума» применительно к науке.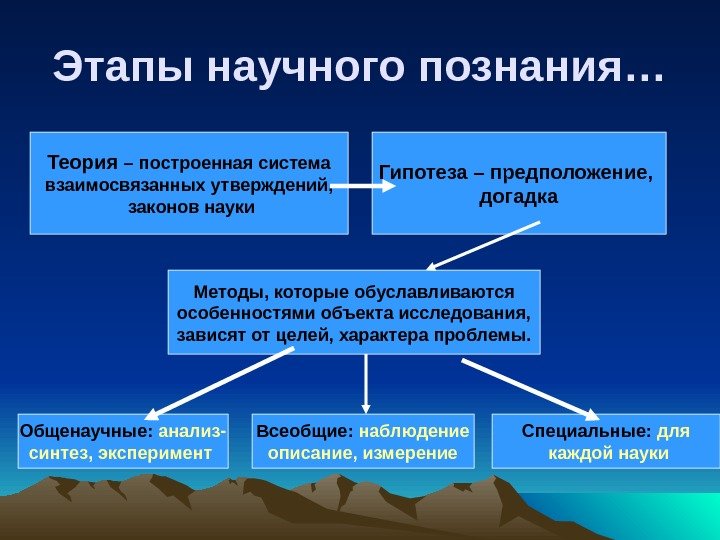 Приходим к выводу, что в жизни науки, как и в жизни социума, должен присутствовать «катастрофный шум», то есть в норме часть научных исследований должна иметь катастрофические последствия, однако их уровень не должен быть выше или ниже некоего оптимального уровня, в принципе не поддающегося вычислению.
Приходим к выводу, что в жизни науки, как и в жизни социума, должен присутствовать «катастрофный шум», то есть в норме часть научных исследований должна иметь катастрофические последствия, однако их уровень не должен быть выше или ниже некоего оптимального уровня, в принципе не поддающегося вычислению.
Если запретить все опасные научные исследования, то цивилизация погибнет от чрезмерного снижения уровня «катастрофного шума». Если разрешить все опасные исследования, то есть предоставить ученым полную свободу творчества, то цивилизация погибнет от превышения этого уровня. Если ликвидировать науку как таковую, то и тогда цивилизация погибнет – вследствие торможения (неускорения) ее эволюции в результате исчезновения этого мощного двигателя эволюции.
Существенно, что оптимальный уровень «катастрофного шума», который (оптимальный уровень) все решает в судьбе человечества, – как, надо полагать, и в судьбе любой другой цивилизации во Вселенной, если таковые существуют, – в принципе не поддается расчету.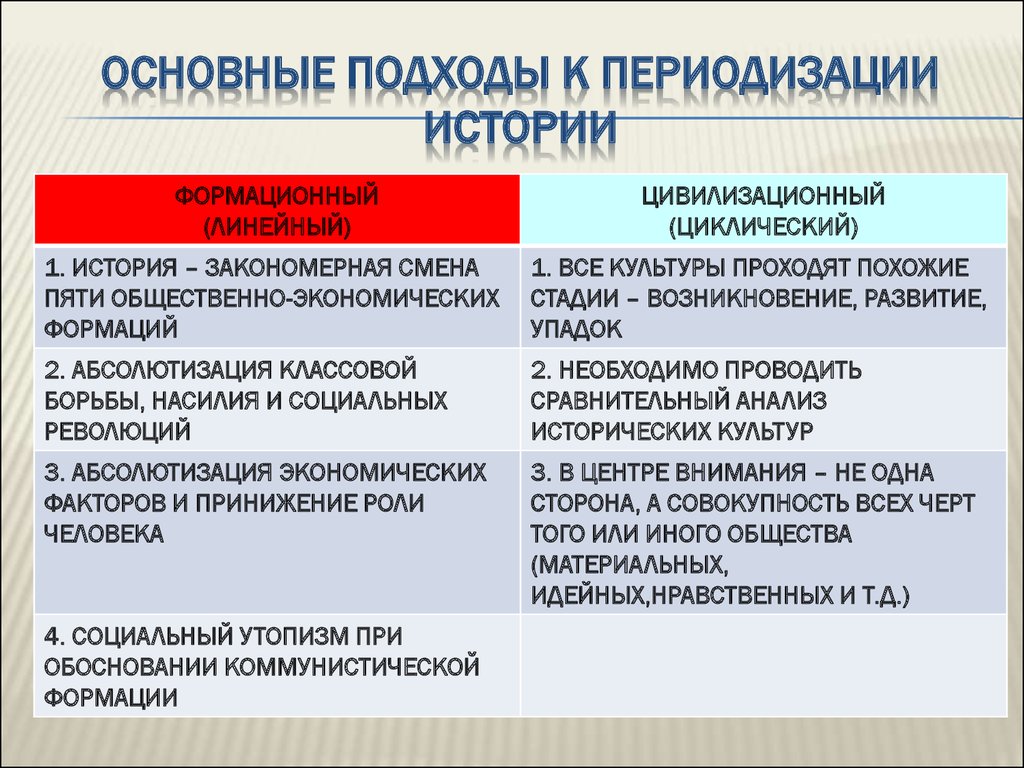
Сказанное означает, что фундаментальное противоречие науки в принципе неустранимо. В том смысле, что угроза гибели цивилизации по вине ученых останется с человечеством «навсегда». То есть до ее натуральной гибели из-за науки или до ее гибели по какой-либо иной причине вроде падения астероида.
Еще раз. Мы знаем, что научные исследования необходимо контролировать с тем, чтобы обеспечить некий оптимальный уровень их катастрофичности. Однако мы не знаем, какой уровень катастрофичности всей совокупности научных исследований является оптимальным.
Не знаем мы и того, какими практическими соображениями следует руководствоваться, принимая решения по конкретным научным исследованиям. Это не известно не только автору этих строк, но, как я понимаю, и никому другому.
Насколько мне известно, единственное практическое соображение такого рода, которое, к слову сказать, сегодня достаточно широко применяется в мире, – это так называемый принцип предосторожности (Precautionary Principle), принятый в 1992 году на Конференции ООН по окружающей среде и развитию.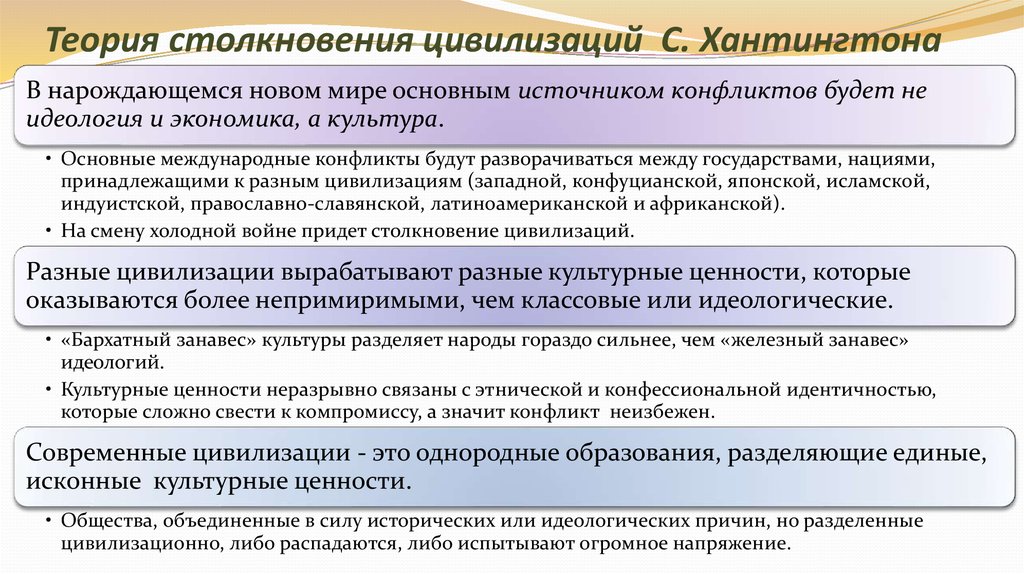 Согласно ему, если существует угроза нанесения серьезного или необратимого ущерба окружающей среде, то недостаточная научная обоснованность оценок угрозы не должна использоваться как основание отложить реализацию мер, направленных на ее предотвращение.
Согласно ему, если существует угроза нанесения серьезного или необратимого ущерба окружающей среде, то недостаточная научная обоснованность оценок угрозы не должна использоваться как основание отложить реализацию мер, направленных на ее предотвращение.
Представляется очевидным, что повсеместное следование принципу предосторожности приведет к неконтролируемому снижению уровня «катастрофного шума» в жизни цивилизации, что может вызвать опасное для ее существования торможение эволюции.
Гибель не по вине науки
Все сказанное выше не означает, конечно, что все мы должны надеть белые тапочки и ползти к ближайшему кладбищу. По сути дела, такова, как здесь описано, вся наша повседневная жизнь. В том смысле, что она вся протекает в тумане неопределенности и непредсказуемости результатов наших действий и нашего будущего. Мы всего достигаем опытным путем, набивая синяки и шишки и проклиная или прославляя судьбу. Так что руки опускать никак нельзя, человечество должно продолжать работу по предупреждению опасных научных исследований и их последствий.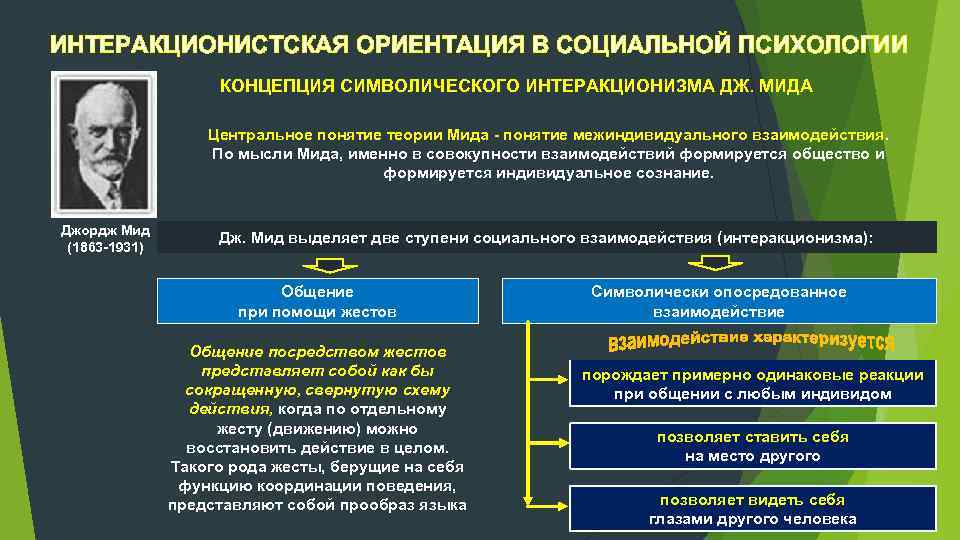 Необходимо контролировать научные исследования, опытным путем нащупывая оптимальный уровень катастрофичности всей совокупности научных исследований.
Необходимо контролировать научные исследования, опытным путем нащупывая оптимальный уровень катастрофичности всей совокупности научных исследований.
Контролирование опасных научных исследований – очень сложная и масштабная задача, которая, полагаю, постепенно выдвинется в жизни цивилизации на первый план.
На науку сегодня расходуется все возрастающая доля бюджета стран. И все большая часть бюджета науки будет со временем приходиться на работу системы контроля над наукой, скажем, в форме предлагаемой нами системы комиссий по защите от науки (КЗОН). Не исключено, что в будущем во избежание преждевременной гибели цивилизации по вине науки на обеспечение оптимального уровня безопасности научных исследований будет расходоваться больше средств, чем на сами научные исследования. Возможно, в разы больше.
Действия, направленные на контролирование науки, постепенно уже становятся и, полагаю, во все большей степени будут становиться неотъемлемой частью жизни цивилизации.
Наука: Наука и техника: Lenta.ru
Многие ученые, занимающиеся проблемой поиска внеземных цивилизаций, уверены, что рано или поздно человечество вступит в контакт с инопланетянами, обитающими где-то в Млечном Пути. К сожалению, специалисты не могут предсказать, как они будут выглядеть и как отнесутся к людям, но зато можно спрогнозировать уровень их технологического развития. «Лента.ру» рассказывает о последних исследованиях, в которых ученые попытались предугадать примерный портрет инопланетной цивилизации, которая когда-нибудь вступит с нами в контакт.
Все решают технологии
Любая цивилизация, достигшая такого технологического уровня, что для нее осуществимы межзвездные перелеты, должна стать заметной для астрофизиков. Но «молчание» космоса, которое легло в основу парадокса Ферми, намекает на то, что в окрестностях Солнечной системы развитых цивилизаций не существует. Пока еще ученые не нашли ни одного значимого признака того, что человечество не одиноко в Млечном Пути.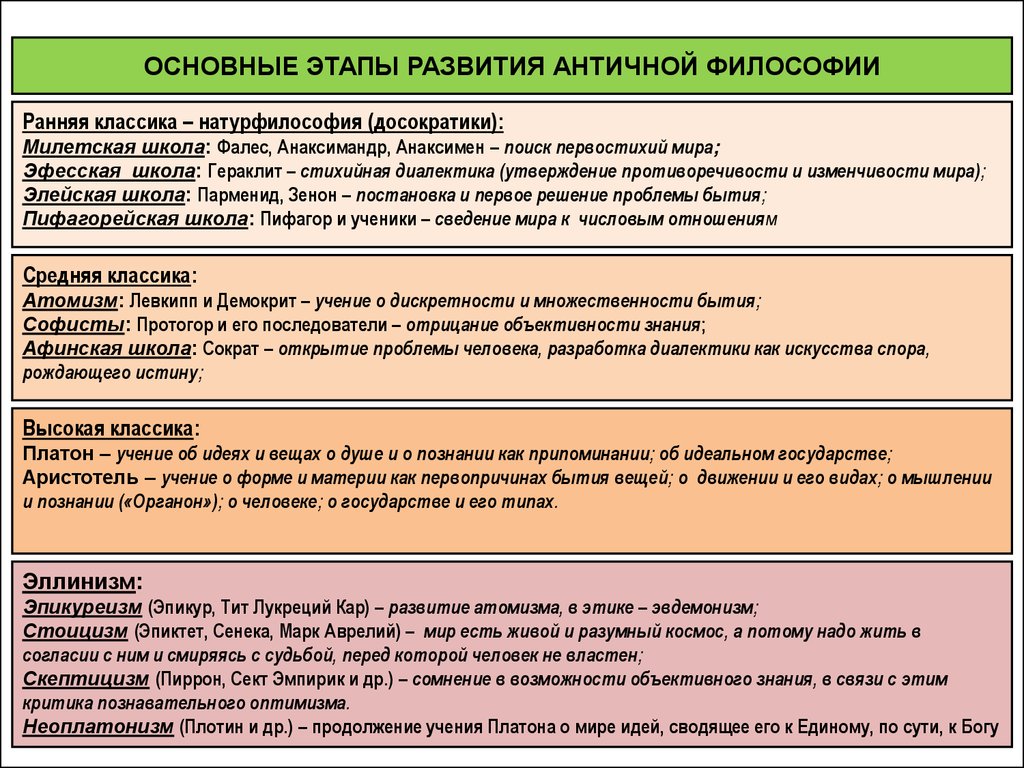
Прежде всего нужно понимать, что именно следует искать. Ученых интересуют цивилизации, потенциально способные контактировать, а значит, они должны оставлять техносигнатуры — признаки присутствия технологий, которые видны с большого расстояния и которые невозможно скрыть. С помощью статистического анализа можно спрогнозировать, что человечество заметит в первую очередь. Если предположить, что в Млечном Пути действительно существует кто-то, кроме человечества, и эти кто-то находятся на разных этапах технологического развития, то можно даже приблизительно определить, с кем именно мы столкнемся в первую очередь. Это необязательно будет непосредственный контакт, но мы можем убедиться в существовании внеземной цивилизации с помощью астрономических наблюдений.
Сфера Дайсона, состоящая из множества колец
Изображение: Wikipedia
Разумно предположить, что характер контакта в значительной степени зависит от технологических возможностей иной цивилизации. Этот же фактор определит само отношение человечества к собратьям по разуму: одно дело, когда мы общаемся с теми, кто находится на той же ступени развития, а другое — когда мы находим цивилизацию намного старше нас самих.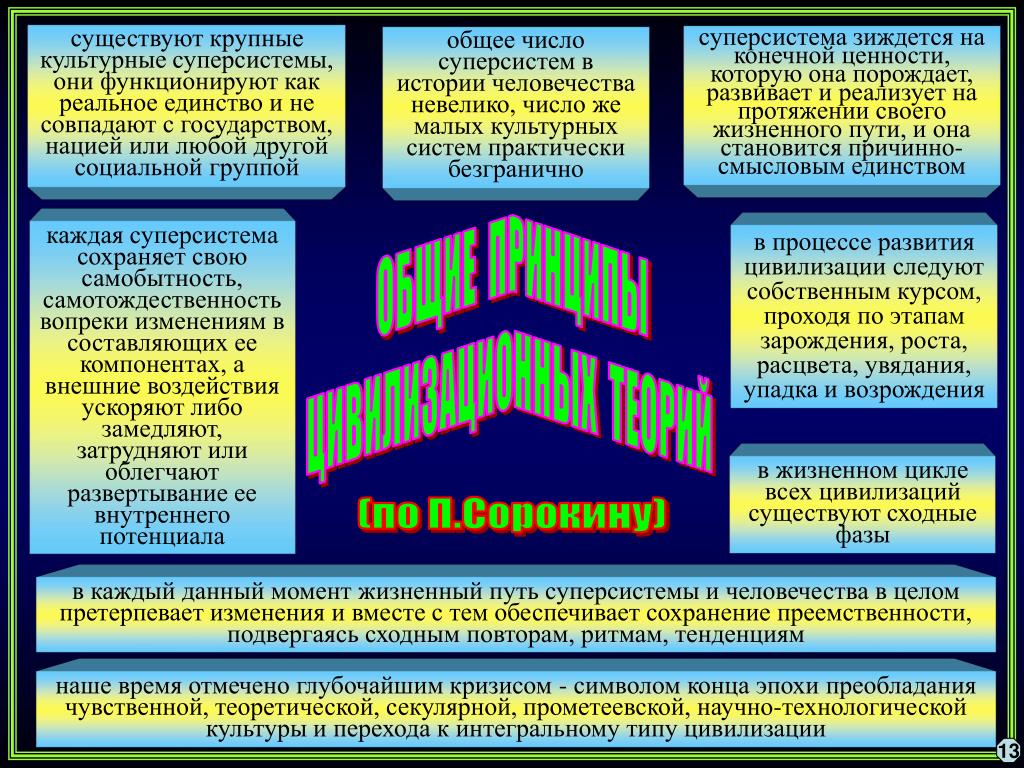 Чем дольше существует разумная жизнь, тем большими технологическими возможностями она скорее всего обладает, в том числе и возможностями по установлению контакта.
Чем дольше существует разумная жизнь, тем большими технологическими возможностями она скорее всего обладает, в том числе и возможностями по установлению контакта.
Остается только понять, с кем человечество столкнется с большей вероятностью. Согласно теоретическим моделям, даже если наивно предположить, что в Млечном Пути полно молодых цивилизаций, а старые и древние встречаются редко, вероятность контакта пропорциональна возрасту цивилизации. Именно поэтому сосредоточенное внимание на поисках технологий, аналогичных нашим, не приведет к успеху.
Космические пирамиды
Ученые пришли к консенсусу в том, что сам успех SETI зависит от того, насколько инопланетные цивилизации долговечны, причем долговечны именно в технологическом смысле. Техносигнатуры должны существовать тысячи или даже миллионы лет. Может быть, даже сама породившая их цивилизация исчезнет, подобно тому, как исчезла древнеегипетская культура, построившая Великие пирамиды. Например, инопланетяне могли оставить после себя межзвездные маяки или запустить зонды, которые продолжают бороздить космос. Такие зонды гипотетически способны к репликации, то есть созданию копий самих себя, и могут распространяться по всей Галактике.
Такие зонды гипотетически способны к репликации, то есть созданию копий самих себя, и могут распространяться по всей Галактике.
Под SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) понимаются любые исследования, направленные на поиск внеземного разума и вступление с ним в контакт. Ученые занимались SETI с 1959 года, пытаясь выявить радиосигналы на длине волны 21 сантиметр и частотой 1420 мегагерц. Считается, что любая технологически развитая цивилизация будет пытаться установить контакт именно на этой частоте, однако до сих пор поиски не увенчались успехом, хотя были просканированы тысячи звезд. В настоящее время проекты SETI, как правило, финансируются за счет частных средств, а исследователи сохраняют оптимизм и считают, что контакт удастся установить в ближайшие десятилетия.
Авторы исследования, опубликованного в репозитории препринтов arXiv, подразделили возможные типы техносигнатур по длительности их существования. Тип А может достигнуть возраста тысячи лет, что сравнимо с временем технологического развития земной цивилизации. Тип В способен просуществовать так же долго, как биологический вид, — около миллиона лет. Наконец, тип С существует как минимум миллиард лет.
Тип В способен просуществовать так же долго, как биологический вид, — около миллиона лет. Наконец, тип С существует как минимум миллиард лет.
Самые долговечные техносигнатуры необязательно могут быть построены цивилизациями высокого уровня. Например, разумные виды, только что освоившие полеты за пределами планеты, могут оставить космический мусор, загрязнить атмосферу стойкими поллютантами либо послать межзвездные зонды на химических ракетных двигателях. Люди пока еще не произвели техносигнатуры типа А, если рассматривать радиосигналы или следы промышленной активности в атмосфере Земли, но зонды «Вояджеры», «Пионеры» и «Новые горизонты» способны в далеком будущем стать техносигнатурами типа В и даже С. К типу С также относятся более экзотические объекты, как, например, маяки или мегаструктуры вроде сферы Дайсона.
Вымершие и процветающие
Любая техносигнатура, которую мы можем обнаружить, статистически должна была просуществовать очень долго — около миллиона лет. Мы можем также натолкнуться на более молодые техносигнатуры, но только при условии, что они широко распространены в Млечном Пути. Поэтому рациональнее ожидать, что если мы сможем наблюдать признаки существования иной цивилизации, то технологически она сильно будет отличаться, и ее уровень развития будет намного выше нашей. Более того, значительная часть потенциально обнаруживаемых техносигнатур в Млечном Пути скорее всего принадлежит цивилизациям, которые уже вымерли. Значит, контакт с «инопланетянами» будет больше напоминать археологию, только вместо лопаты — телескопы, способные разглядеть следы уже потухшей деятельности.
Поэтому рациональнее ожидать, что если мы сможем наблюдать признаки существования иной цивилизации, то технологически она сильно будет отличаться, и ее уровень развития будет намного выше нашей. Более того, значительная часть потенциально обнаруживаемых техносигнатур в Млечном Пути скорее всего принадлежит цивилизациям, которые уже вымерли. Значит, контакт с «инопланетянами» будет больше напоминать археологию, только вместо лопаты — телескопы, способные разглядеть следы уже потухшей деятельности.
Материалы по теме:
Авторы подчеркивают, что для успешного поиска инопланетян нужно отказаться от антропоцентризма и отдать предпочтение выявлению мегаструктур, маяков и межзвездных зондов, которые могла создать цивилизация второго типа по Кардашеву или даже развитый искусственный интеллект, оставшийся после своих создателей. Такие признаки встречаются намного реже техносигнатур типа А, но их проще обнаружить именно за счет их долговечности.
Стоит помнить, что для развитой цивилизации, которая существует тысячелетия, уже неприемлемы переходные сигнатуры (загрязнение атмосферы и изменения климата), поскольку они ограничивают время ее жизни.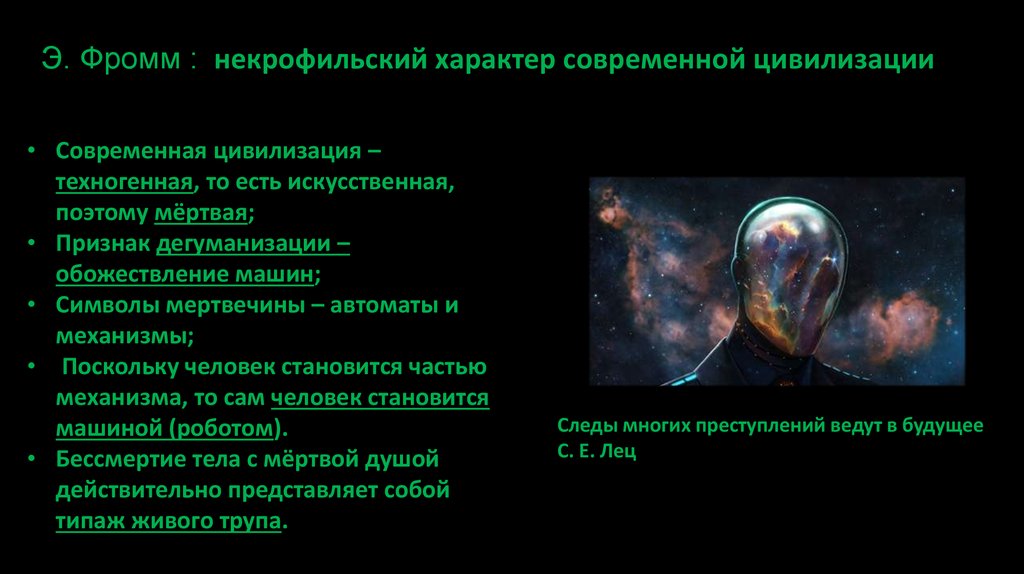 Выход в космос, освоение межпланетных маршрутов, постройка гигантских сооружений, способных вместить сотни, тысячи или даже миллионы живых существ, является логичным шагом для инопланетян, которые собираются просуществовать еще очень долго. Поэтому остается довольно высокий шанс, что человечество вступит в контакт с еще живой цивилизацией, которая сумела выжить и достичь невероятных технологических высот.
Выход в космос, освоение межпланетных маршрутов, постройка гигантских сооружений, способных вместить сотни, тысячи или даже миллионы живых существ, является логичным шагом для инопланетян, которые собираются просуществовать еще очень долго. Поэтому остается довольно высокий шанс, что человечество вступит в контакт с еще живой цивилизацией, которая сумела выжить и достичь невероятных технологических высот.
Космический интернет
Классические поиски SETI, которые направлены на выявление знакомых нам технологий, например узкополосных радиосигналов и оптических лазерных импульсов, за 60 лет наблюдений не увенчались успехом. Хотя нельзя сказать, что инопланетяне не могут использовать эти средства коммуникации, следует признать, что высокотехнологическая цивилизация может использовать другой тип космической связи. Квантовая коммуникация предпочтительна с точки зрения безопасности и эффективности. Искать в небе световые «маяки», которые хорошо заметны, но практически бесполезны сами по себе, может быть пустой затеей. Скорее всего, инопланетяне посылают друг другу узконаправленные сигналы, которые вряд ли возможно перехватить случайно, если только они не направлены прямо на Землю.
Скорее всего, инопланетяне посылают друг другу узконаправленные сигналы, которые вряд ли возможно перехватить случайно, если только они не направлены прямо на Землю.
Мир-Кольцо — еще одно гипотетическое астроинженерное сооружение
Изображение: Wikipedia
Однако, по мнению Майкла Хиппке (Michael Hippke), человечество уже могло зафиксировать слабый сигнал технологически развитой цивилизации, освоившей квантовые коммуникации, просто существующий подход не способен их распознать. Инопланетяне могут сознательно выбрать скрытый канал связи, чтобы остаться незамеченными для более примитивных разумных существ. Кроме того, межзвездная квантовая сеть может возникнуть в результате достижения продвинутыми цивилизациями «квантового превосходства» и будет служить таким экзотическим целям, как распределенные квантовые вычисления. Кроме того, квантовые каналы связи защищены от «прослушивания» и способны передавать больше информации за единицу времени, чем обычные. Поэтому естественно ожидать, что цивилизация, с которой мы сможем установить контакт, будет использовать квантовые технологии.
Правда, чтобы поймать квантовые сигналы, нужно иметь квантовые приемники — а их пока не существует. В то же время Хиппке полагает, что и имеющегося оборудования достаточно, чтобы отыскать в свете звезд признаки квантового запутывания фотонов, пусть и с разрушением содержащейся в них информации. Возможно, стоит нам использовать новый подход, и Вселенная перестанет молчать, хотя поиски квантовых сигналов будут очень трудоемкими.
Опасный сигнал
Физик Стивен Хокинг предупреждал, что искать инопланетян — глупая затея, поскольку мы не знаем точно, будут ли они дружелюбными. Популяризатор науки Митио Каку уверен, что Земле следует оставаться в тени, потому что риск слишком велик. Тот факт, что гипотетическая цивилизация будет технологически более продвинутой, несет для нас потенциальную угрозу, даже если сами инопланетяне не будут намеренно враждебными. Никто не знает точно, какими социальными, экономическими и экзистенциальными последствиями обернется для нас такой контакт.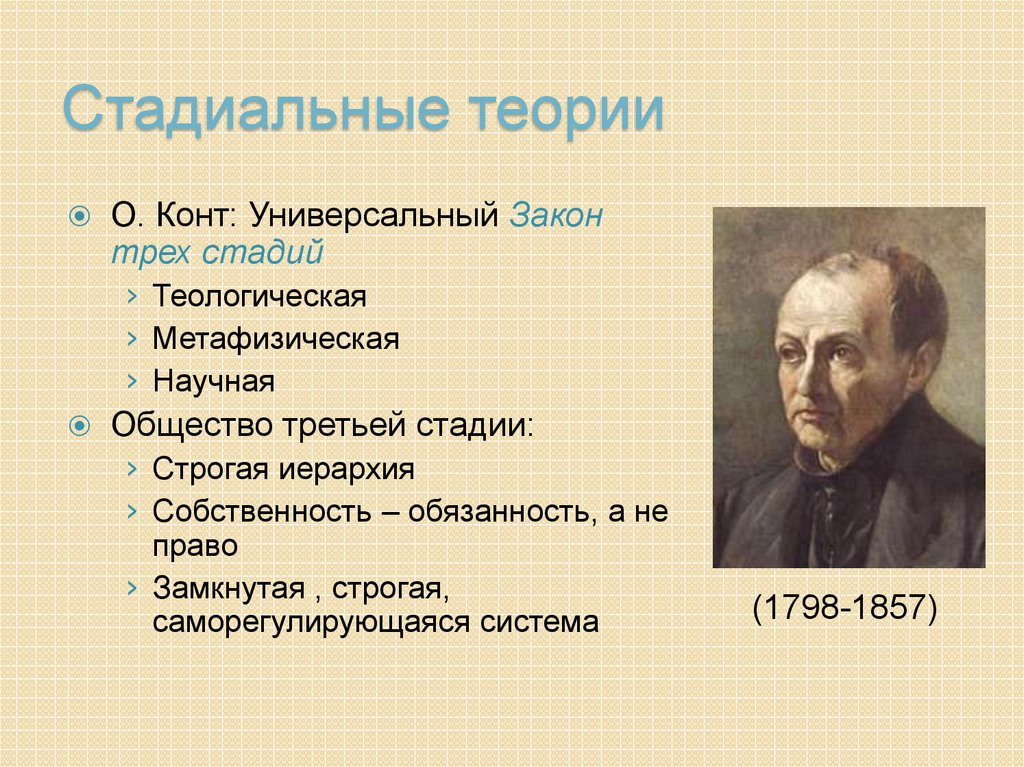 Также не известно, какую роль сыграют чужие технологии. Встреча с внеземным зондом, случайно попавшим в Солнечную систему, может ограничиться наблюдениями на расстоянии, а может закончиться катастрофой, если такой зонд будет способен «размножаться».
Также не известно, какую роль сыграют чужие технологии. Встреча с внеземным зондом, случайно попавшим в Солнечную систему, может ограничиться наблюдениями на расстоянии, а может закончиться катастрофой, если такой зонд будет способен «размножаться».
Антенная решетка Аллена, используемая для SETI
Фото: Wikipedia
Если речь идет об искусственном интеллекте, то ситуация может стать еще опаснее. Философ Ник Бостром прогнозирует, что в будущем человечество сможет построить машинный суперинтеллект, который во всем будет превосходить мозг человека. Это влечет за собой новые угрозы, которые, по мнению некоторых специалистов, являются принципиально непреодолимыми: человек по определению не сможет сдержать суперинтеллект. Предполагая, что развитые инопланетяне уже пересекли эту черту, мы получаем пугающую картину, что любая старая и технологически развитая цивилизация, с которой человечество скорее всего встретится, на самом деле управляется или даже полностью состоит из ИИ.
По другому пессимистическому сценарию, называемому SETI-атакой, опасным может быть даже радиосигнал, в котором закодировано вредоносное сообщение или инструкции по созданию враждебно настроенных систем.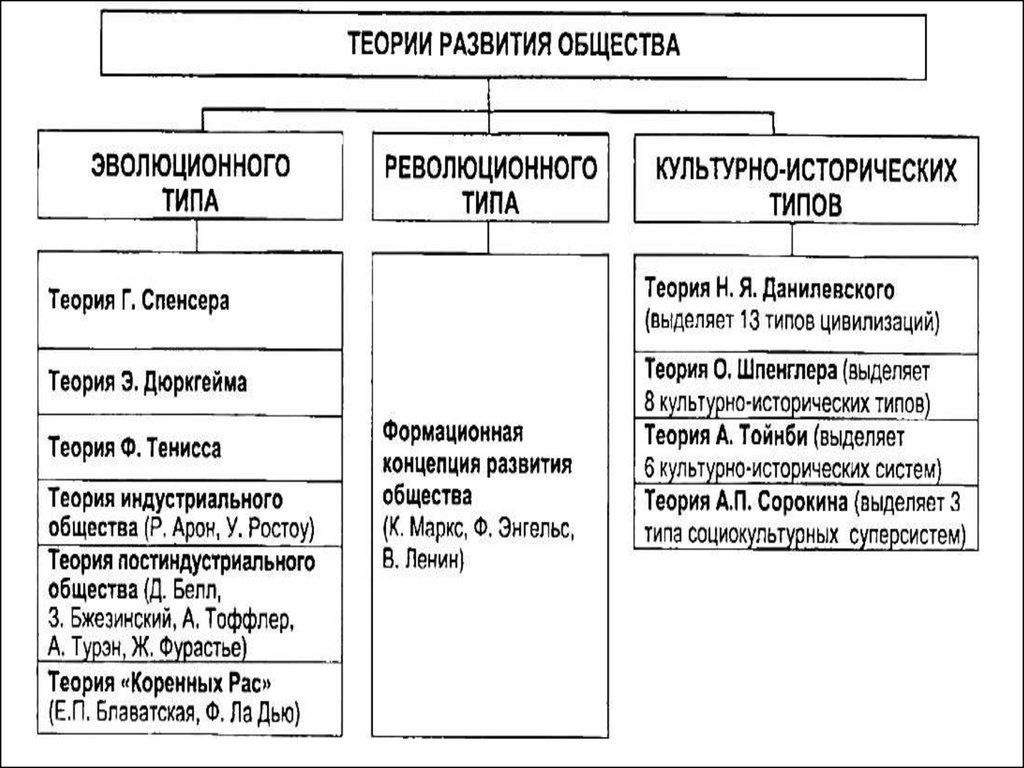 Подобный сценарий описал астроном и космолог Фред Хойл в своем научно-фантастическом романе «Андромеда».
Подобный сценарий описал астроном и космолог Фред Хойл в своем научно-фантастическом романе «Андромеда».
В любом случае экстраполировать человеческое поведение на чужеродный разум было бы ошибкой. К сожалению, в области поиска внеземного разума остается еще слишком много неизвестных, и пока что лишь писатели-фантасты комфортно чувствуют себя, придумывая различные сценарии контакта.
ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЦИВИЛИЗАЦИЙ (ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД)
Земная
цивилизация — порождение
человеческого разума и рук
человека. Но исследование путей
эволюции, приведших к ее появлению,
вызывает целый ряд непростых
вопросов. Имела ли
цивилизация биологические
предпосылки? Другими словами, могла
ли она возникнуть на другой
биологической основе, если бы не
появился человек? И есть ли у него
соперники, которые способны в
процессе дальнейшей эволюции
занять место человека? Необходим ли
неуклонный рост энергии,
производимой людьми, для
продолжения прогресса, или он
приведет к гибели всего живого в
результате беспредельного
увеличения производства? Как,
повышая уровень жизни растущего
населения Земли, прекратить
загрязнение окружающей среды и
опасные изменения климата?
Так изменялся энергетический обмен живых организмов в ходе биологической эволюции и на начальной стадии человеческой цивилизации.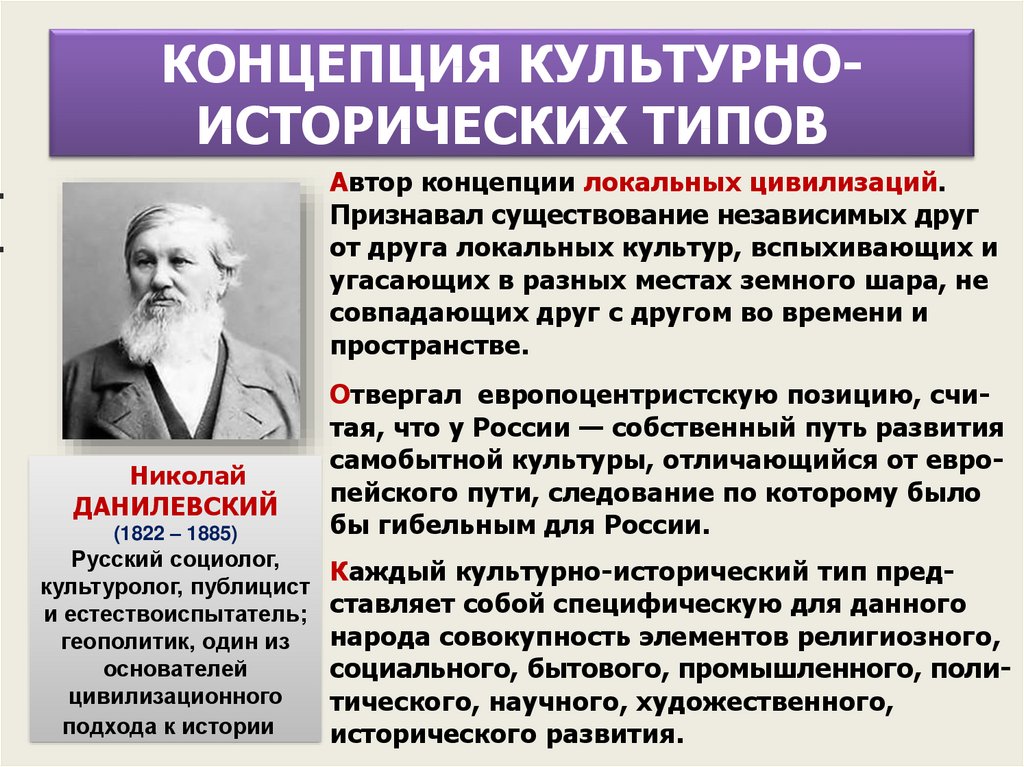
Изменение величины коэффициента энцефализации у животных в процессе биологической эволюции: 1 — рыбы, 2 — земноводные, 3 — рептилии, 4 — млекопитающие, 5 — птицы, A — целурозавры, B — дельфины, C — вороны, D — попугаи, E — человек.
Представители класса рептилий — ископаемые целурозавры — в процессе эволюции могли бы, возможно, сформировать головной мозг, не уступающий человеческому. И если бы они не вымерли 70 миллионов лет назад, на Земле сейчас была бы совсем другая цивилизация.
‹
›
Открыть в полном размере
Чтобы ответить на
поставленные вопросы, следует
прежде всего рассмотреть ход
биологической эволюции. Наличие
эволюционного прогресса в живой
природе не вызывает сомнений:
палеонтологические данные
свидетельствуют, что жизнь
развивалась от простых форм к все
более сложным и совершенным.
Значительно труднее решить вопрос:
что лежит в основе этого прогресса
и как его количественно оценить?
Одна из таких
оценок была дана в 20-30-х годах
крупнейшим русским биологом
академиком А. Н. Северцовым. Из этих
Н. Северцовым. Из этих
оценок уже в наше время родилась
теория, согласно которой в ходе
прогрессивной эволюции происходит
усиление энергетического обмена
животных, измеряемого по скорости
потребления кислорода.
Исследования показали, что
удельный (на килограмм массы)
кислородный обмен в процессе
эволюции от простейших до
млекопитающих и птиц возрастает в
сотни раз.
Энергетическая
мера эволюционного процесса
Это позволяет
количественно оценивать его
скорость в реальных величинах -
ваттах за миллион лет. Разумеется,
узнать, каков был энергетический
обмен у животных, вымерших сотни
миллионов лет назад, невозможно.
Поэтому мы поступили иначе: данные
о ныне живущих организмах разных
видов пересчитали на момент
зарождения этих видов в
соответствующую геологическую
эпоху. Получилось, что в кембрии
(570-500 миллионов лет назад) скорость
эволюции составляла
приблизительно 0,005 милливатта на
грамм массы за миллион лет, в
ордовике (500-440 млн.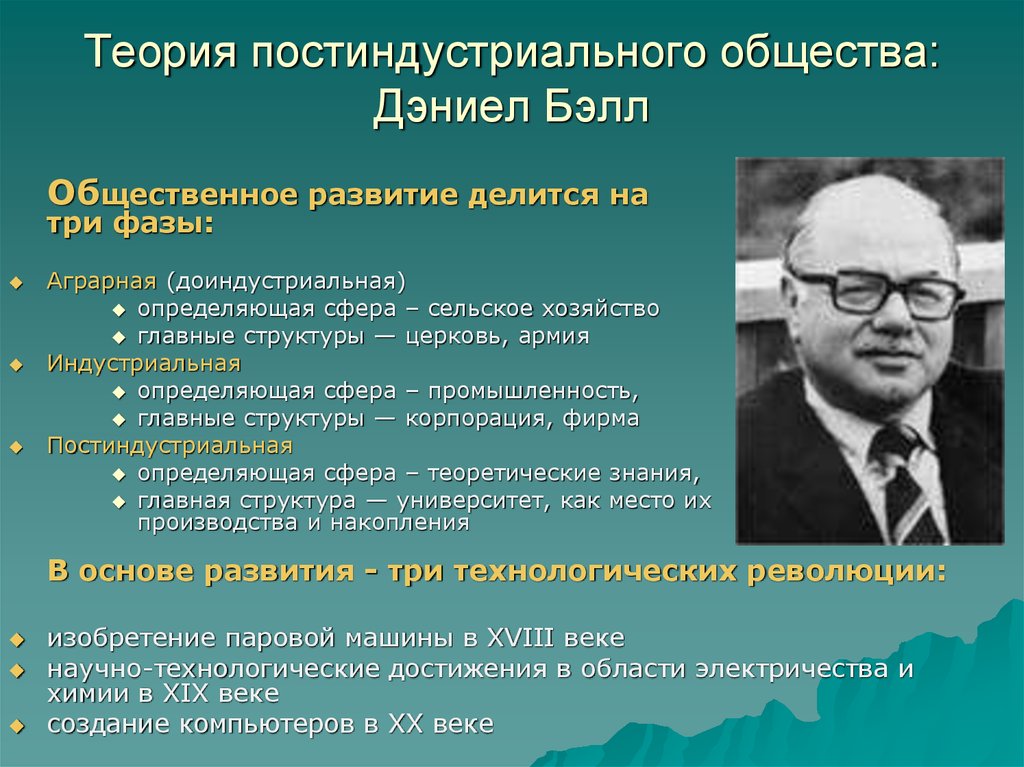 лет) — 0,011, в
лет) — 0,011, в
девоне (410-350 млн. лет) — 0,014, в карбоне
(350-270 млн. лет)- 0,024, в триасе (230-195 млн. лет)
— 0,076, в юрском периоде (195-135 млн. лет)
— 0,099, в меловом (110-70 млн. лет) — 0,192 и в
плейстоцене (7-2 млн. лет назад) — 0,269
мВт/г·миллион лет. Хотя значения
энергии определены недостаточно
точно, они показывают, что биоэнергетический
прогресс шел с нарастающей
скоростью. Усиление
энергетического обмена было
чрезвычайно полезным для выживания
животных в их борьбе за
существование.
Биологическая
эволюция и возникновение
цивилизации
Возможно ли было
дальнейшее усиление
энергетического обмена животных,
или эволюция достигла своего
предела в классе птиц и
прекратилась? Это вопрос далеко не
праздный: температура тела
млекопитающих равна 36-38°С, а птиц -
40-41°С. Дальнейшее усиление
энергетического обмена и
сопутствующее ему
повышение температуры тела
невозможно — это привело бы к
свертыванию (денатурации) ряда
белков и гибели организма.
Существует «тепловой барьер»,
перешагнуть который простым
повышением уровня кислородного
обмена невозможно. Природа, однако,
нашла другой путь — возникновение
цивилизации, появление сознания.
Человечество
научилось использовать не только
энергию, заключенную в пище, но и
энергию горючих материалов, рек,
ветра и Солнца, а в последние
десятилетия и атомную энергию.
Расчеты показали, что первобытный
человек получал с пищей и
расходовал не более 2000 килокалорий
за сутки, с началом использования
огня потребление энергии
увеличилось до 5000 Ккал/сутки, а
сейчас в развитых странах оно
превышает 200 000 Ккал/сутки.
Появление
человеческой цивилизации
оказалось необходимым шагом
эволюции, так как позволило,
преодолев «тепловой барьер»,
наращивать потребление энергии
живыми системами. Так что
возникновение цивилизации -
неизбежный результат прогресса, и,
если бы не появился человек, на его
месте, возможно, оказался бы другой
вид.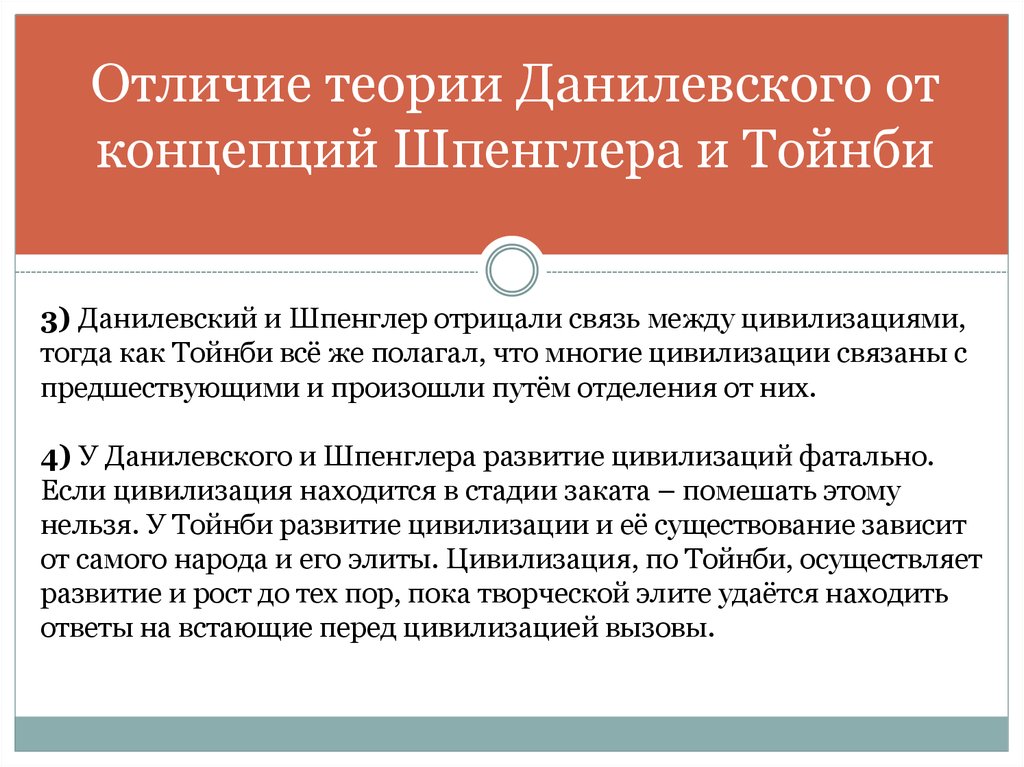 Об этом заставляют думать и
Об этом заставляют думать и
данные о возрастании объема мозга в
разных классах и типах животных.
Изменение
размеров мозга в процессе
эволюции
В сравнительных
исследованиях используют так
называемый коэффициент
энцефализации — удельную массу
мозга животного в расчете на один
грамм массы его тела. Расчет, по
палеонтологическим данным,
показал, что в процессе эволюции
млекопитающих средняя величина
этого коэффициента в эоцене была
равна 0,026, в плейстоцене — 0,055, а у
современных видов составляет 0,115.
Коэффициент
энцефализации в разных классах
позвоночных животных и в отдельных
его отрядах сильно различается. В
классе млекопитающих, например,
представители отряда
насекомоядных имеют наименьший
коэффициент энцефализации,
представители отрядов приматов и
китообразных — наибольший (у
дельфинов — 0,54). В классе птиц
наименьший коэффициент
энцефализации имеют страусы и
куриные, наибольший — попугаи (0,34),
врановые (0,33) и совы.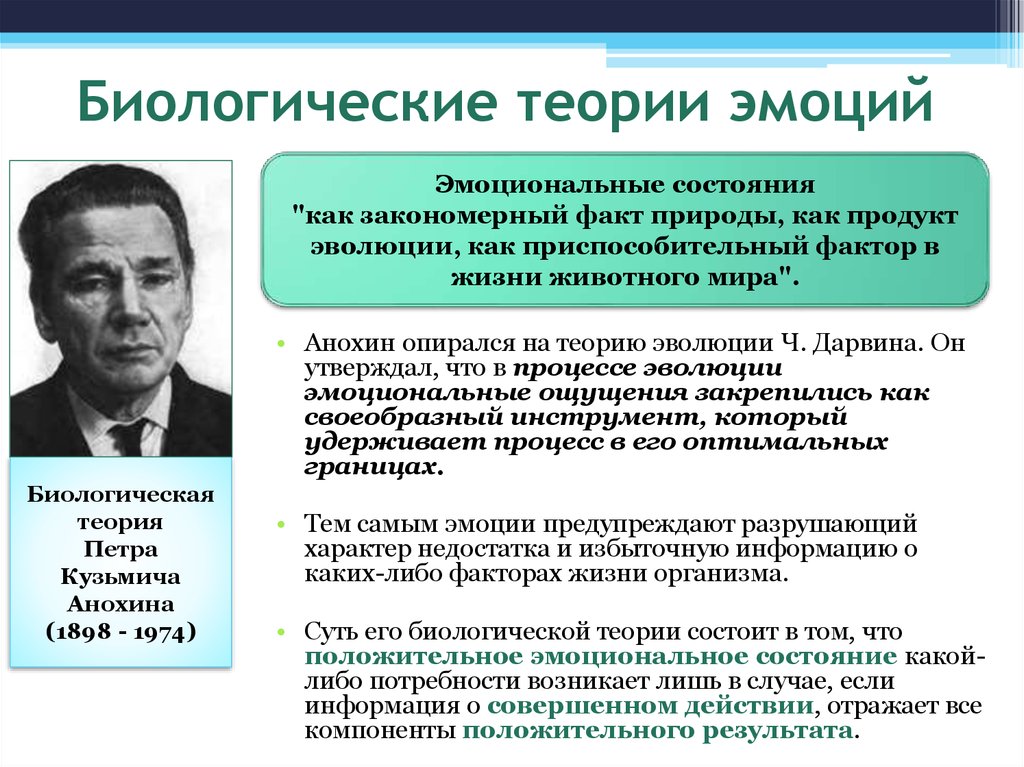 Но особенно
Но особенно
этот коэффициент велик, конечно, у
человека — 0,77. Человек сильно
обогнал другие виды и практически
полностью перекрыл возможности для
появления на Земле иных
цивилизаций. Но все могло быть и
по-другому, так как, видимо, первыми
среди позвоночных на путь увеличения
массы мозга встали представители
класса рептилий — динозавры, по не
совсем ясным причинам вымершие
около 70 миллионов лет тому назад.
Коэффициент энцефализации
небольших (массой 70 — 80 кг) хищных
динозавров из инфраотряда
целурозавров близок к показателям
для современных млекопитающих и
равен приблизительно 0,126. Не
исключено, что эта группа
динозавров могла бы еще миллионы
лет тому назад сформировать мозг,
сопоставимый с человеческим, и, кто
знает, сегодня на Земле
существовала бы совсем иная
цивилизация.
Таким образом,
процесс возникновения цивилизации
пошел задолго до появления
человека и продолжается до
настоящего времени.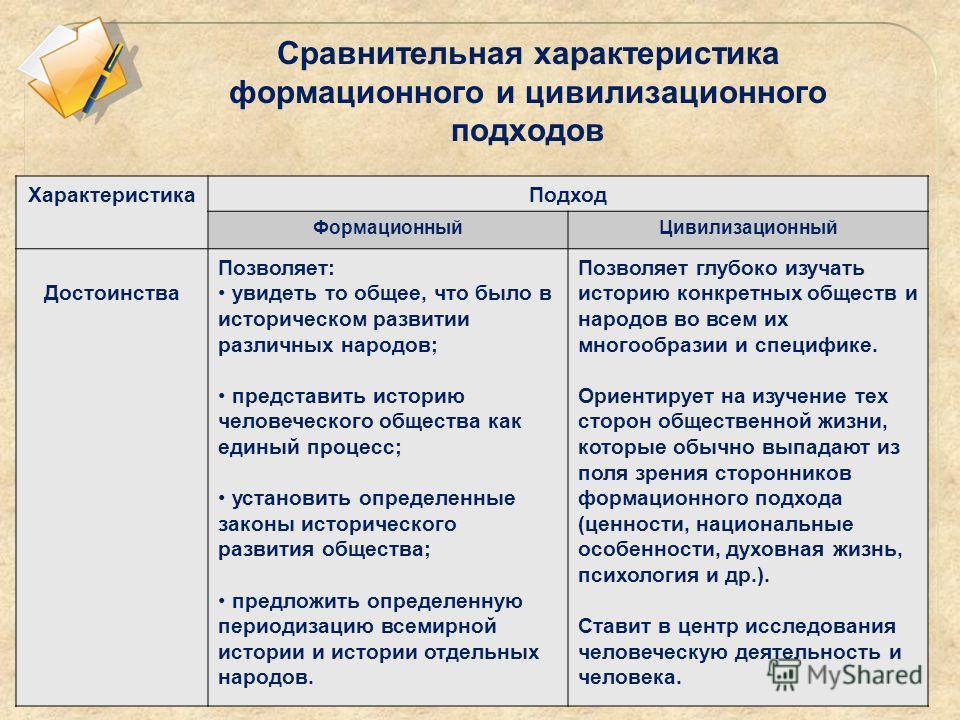 Исчезновение
Исчезновение
человечества (по собственной
глупости или по иной причине) не
остановит его, пока на Земле
сохраняются живые организмы и
продолжается биологическая
эволюция.
Развитие
человечества сопровождается
постоянным ростом уровня жизни,
который требует все больше энергии.
По расчетам известного российского
астрофизика И. С. Шкловского,
количество производимой энергии за
последние 200 лет удваивалось каждые
20 лет и в 80-х годах составляло
примерно 61012 Вт. При таких темпах
через 200 лет оно дойдет до 31015 Вт, а это уже один
процент поступающей на Землю
энергии Солнца. Дальнейшее
увеличение производства энергии
приведет к заметному нагреву
планеты и, вполне вероятно, к таким
изменениям климата, что жизнь на
Земле станет невозможной.
Преодолеть этот «тепловой
барьер» можно, видимо, только
выведя в космическое пространство
энергоемкие производства.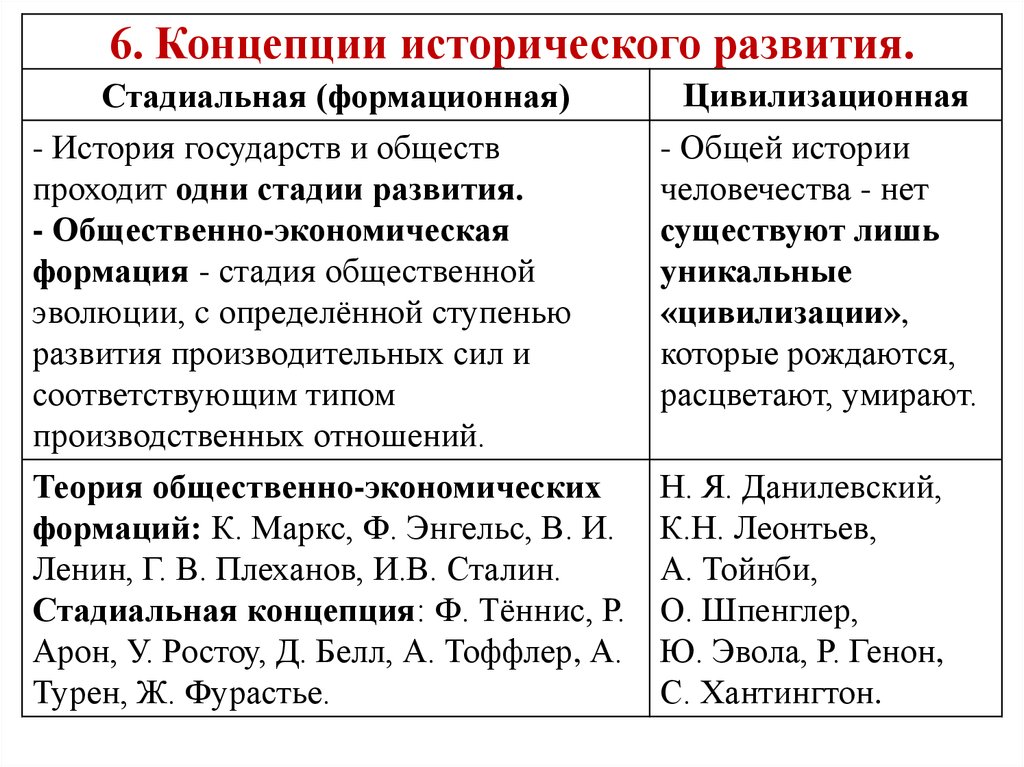
Задача эта
трудная, в настоящее время
нереальная, но сегодня появилась
надежда решить ее уже в обозримом
будущем. В начале марта этого года
Национальное управление по
аэронавтике США (НАСА) сообщило, что
запущенный 6 января 1997 года на
окололунную орбиту робот-разведчик
«Проспектор» обнаружил на Луне
воду. Она хранится в виде льда,
количество которого по разным
оценкам составляет от 10 миллионов
до 100 миллиардов тонн. Его
достаточно, чтобы на целое столетие
обеспечить водой несколько тысяч
человек. Эксперты НАСА считают, что
первое совершенно автономное
внеземное поселение на Луне может
быть построено уже в 2013 году. Очень
может быть, что именно такие
внеземные города станут
индустриальными центрами нашей
земной цивилизации.
В основе
биологического прогресса и
развития человечества лежат
глубокие термодинамические
закономерности. Следует их понять и
по возможности использовать.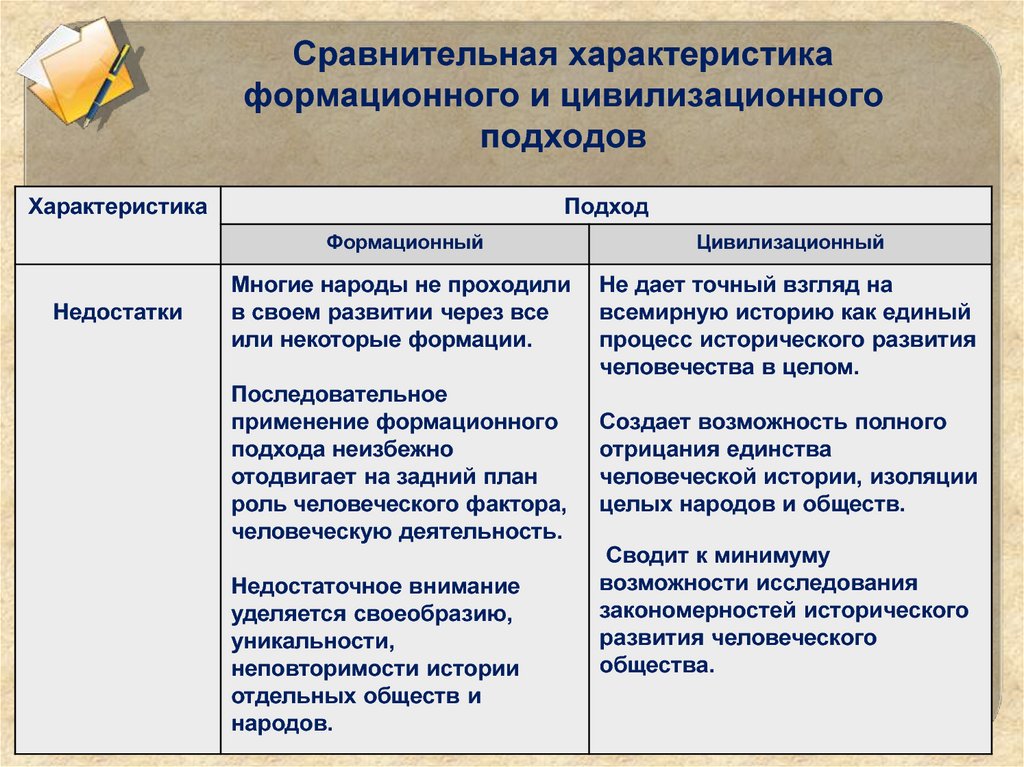 Не
Не
следует обольщаться надеждой, что
все как-нибудь обойдется — законы
природы неумолимы.
Известный физик предположил, что нашу вселенную могли создать в лаборатории
18 октября 2021
15:22
Ольга Мурая
Довольно трудно представить, что Вселенная была рождена из великого «ничто». Откуда же взялся мир, каким мы его знаем?
Иллюстрация NASA, ESA, HEIC, STScI/AURA.
Известный физик-теоретик из США Ави Лёб опубликовал статью, в которой всерьёз предполагает возможность существования цивилизаций, гораздо более развитых, чем человеческая.
Американский астрофизик Ави Лёб (Avi Loeb) привлёк внимание общественности, опубликовав в журнале Scientific American статью со смелым предположением: что, если наша Вселенная была создана в лаборатории?
Ави Лёб — безусловно неординарная личность.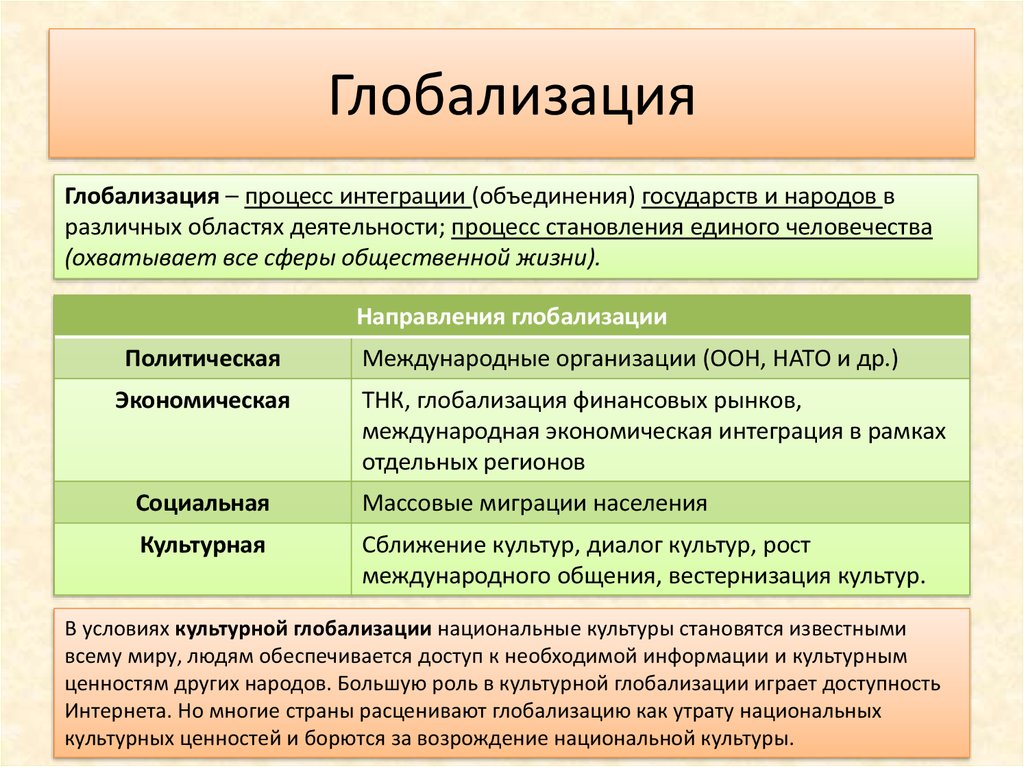 Руководитель Института теории и вычислений Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, член Совета президента США по науке и технологиям уже не раз поражал как научное сообщество, так и широкий круг любителей астрономии своим неординарным подходом к исследованию космоса и места человека в нём.
Руководитель Института теории и вычислений Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, член Совета президента США по науке и технологиям уже не раз поражал как научное сообщество, так и широкий круг любителей астрономии своим неординарным подходом к исследованию космоса и места человека в нём.
В этот раз астрофизик предложил рассмотреть с новой точки зрения загадку сотворения мира.
Даже далёкие от науки люди знают, что наша вселенная была рождена в ходе Большого взрыва. Но что же было до него? Что спровоцировало это рождение всего из ничего?
В научной литературе ранее озвучивалось множество разных предположений о происхождении космоса. Так, Вселенная могла появиться в результате флуктуации вакуума или из-за коллапса материи внутри чёрной дыры. А может быть, расширение и сжатие Вселенной носит циклический характер. Ещё есть антропный принцип, несколько весьма любопытных выводов теории струн и гипотеза мультивселенной. А вот с бесконечным разнообразием вселенных всё не так просто.
Лёб в своей статье рассуждает о наименее изученной из существующих гипотез происхождения всего того, что мы наблюдаем: наша вселенная могла быть создана в лаборатории развитой технологической цивилизации.
«Поскольку наша вселенная имеет плоскую геометрию с нулевой чистой энергией, развитая цивилизация могла бы разработать технологию, которая создала бы дочернюю вселенную из ничего посредством квантового туннелирования», пишет он.
Звучит это предположение, безусловно, захватывающе.
Эта гипотеза происхождения мира объединяет религиозные представления о творце со светскими представлениями о квантовой гравитации.
Лёб предполагает, что некая передовая цивилизация могла создать технологию «производства» дочерних вселенных. В таком случае можно предположить, что и в нашей вселенной может появиться достаточно развитая цивилизация, способная породить новую «плоскую» вселенную.
Подобная система напоминает биологическую и так же, как биологическая, гипотетически позволяет разным поколениям высокоразвитых цивилизаций «передавать генетический материал» далее в этом бесконечном цикле создания.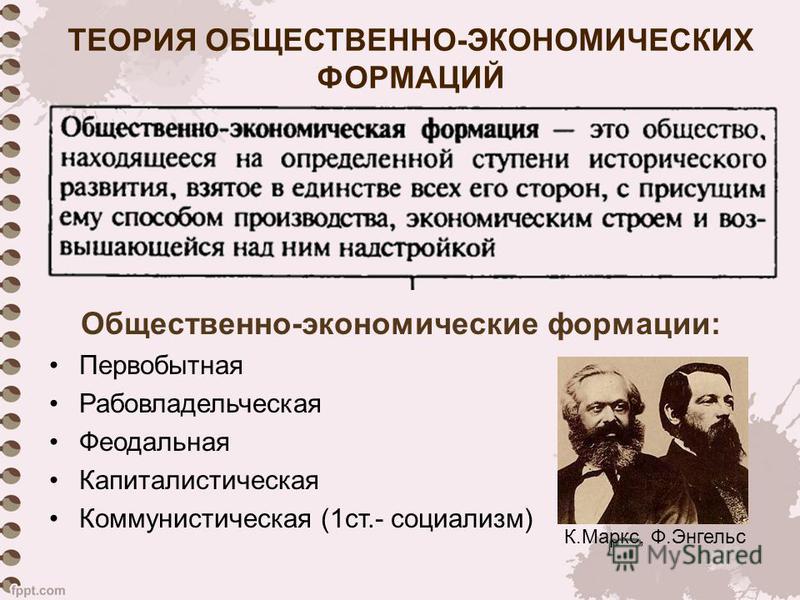
С этой точки зрения автор статьи предлагает оценивать технологический уровень цивилизаций не по тому, сколько энергии они используют, как это было предложено в 1964 году Николаем Кардашёвым.
Вместо этого Лёб предлагает измерять уровень развития цивилизации её способностью воспроизводить астрофизические условия, которые привели к её существованию. Кстати, в 2018 году учёные Земли фактически воспроизвели Большой взрыв в ультрахолодном веществе.
По такой оценочной космической шкале человеческая цивилизация относится к классу C, так как мы пока ещё не можем воссоздать условия, пригодные для жизни на нашей планете в случае смерти нашего солнца.
Возможно, наше положение в этом рейтинге даже ниже, поскольку мы бездумно разрушаем естественную среду обитания на Земле, ускоряя изменение климата. По такому принципу человечество вполне можно отнести уже к классу D.
Цивилизация класса B, в свою очередь, может регулировать условия в своей среде обитания так, чтобы быть независимой от своей звезды-хозяина (в нашем случае, Солнца).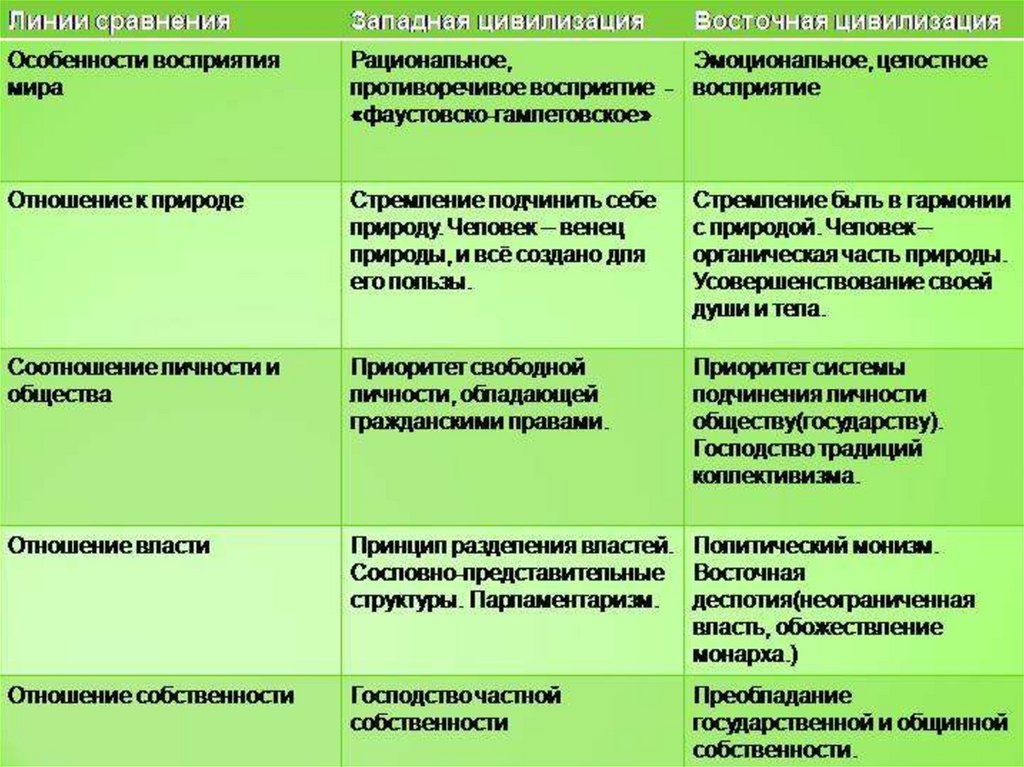 Цивилизация, относящаяся к классу А, способна воссоздать космические условия, которые привели к её существованию, а именно создать в лаборатории дочернюю вселенную.
Цивилизация, относящаяся к классу А, способна воссоздать космические условия, которые привели к её существованию, а именно создать в лаборатории дочернюю вселенную.
Поэтому Лёб заключает, что человечеству важно позволить себе предположение, что где-то во Вселенной есть цивилизации, гораздо более развитые, чем наша.
При этом рассуждения учёного остаются теоретическими и слабо подтверждёнными какими-либо исследованиями. Что, впрочем, всегда отличало футурологов.
Сегодня физики усердно трудятся над поиском тёмной энергии и тёмной материи, строят сложные теоретические модели, разбираются с загадками строения самых малых составляющих нашего мира. Трудятся, не покладая рук, чтобы получить хотя бы крупицу информации о великой тайне создания Вселенной.
При этом скудные данные, которые получают учёные в ходе кропотливых многолетних исследований, из года в год привлекают меньше общественного внимания, чем громкие заявления некоторых учёных в СМИ.
Однако нельзя отрицать и того факта, что такие «мечтатели» как Лёб вносят большой вклад в развитие научной мысли.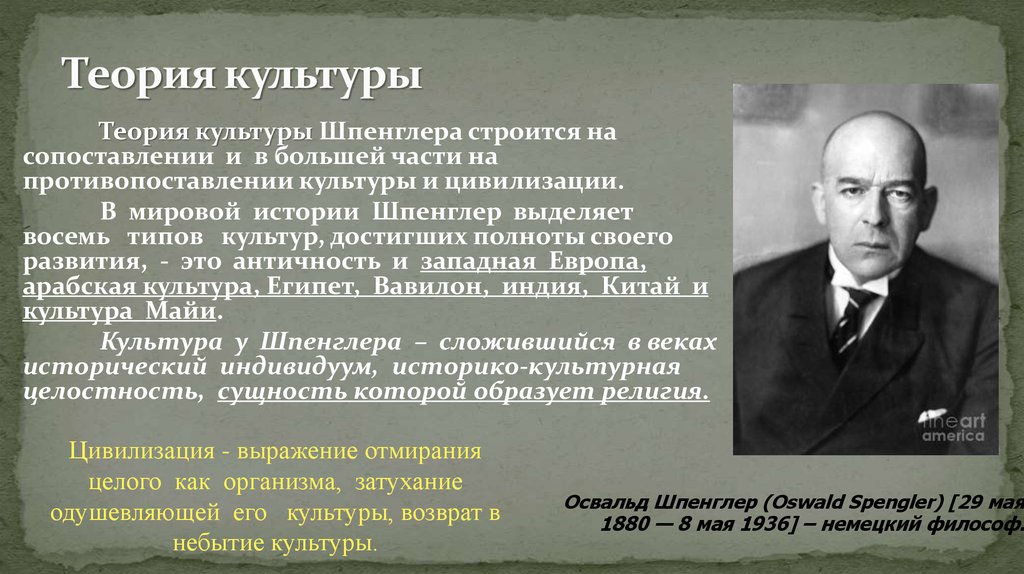 Ведь бывает и такое, что одна смелая идея прокладывает дорогу для больших научных и технологических свершений.
Ведь бывает и такое, что одна смелая идея прокладывает дорогу для больших научных и технологических свершений.
Поэтому идеи Ави Лёба хоть и не относятся к области чистой науки, однако могут сослужить добрую службу в качестве вдохновения для дальнейших научных достижений.
Ранее мы рассказывали о проекте Лёба, посвящённому поиску инопланетных цивилизаций. Писали мы и о более ранних исследованиях учёного: поиске чёрных дыр, возникших в первые минуты после Большого взрыва, и предположении о том, что тёмная материя может иметь электрический заряд.
Больше новостей из мира науки вы найдёте в разделе «Наука» на медиаплатформе «Смотрим».
наука
теория
Вселенная
мнение
астрофизика
общество
новости
Глава 10: Научная революция. Западная цивилизация: краткая история
В семнадцатом веке изменения в том, как образованные европейцы понимали мир природы, ознаменовали появление узнаваемой современной научной точки зрения.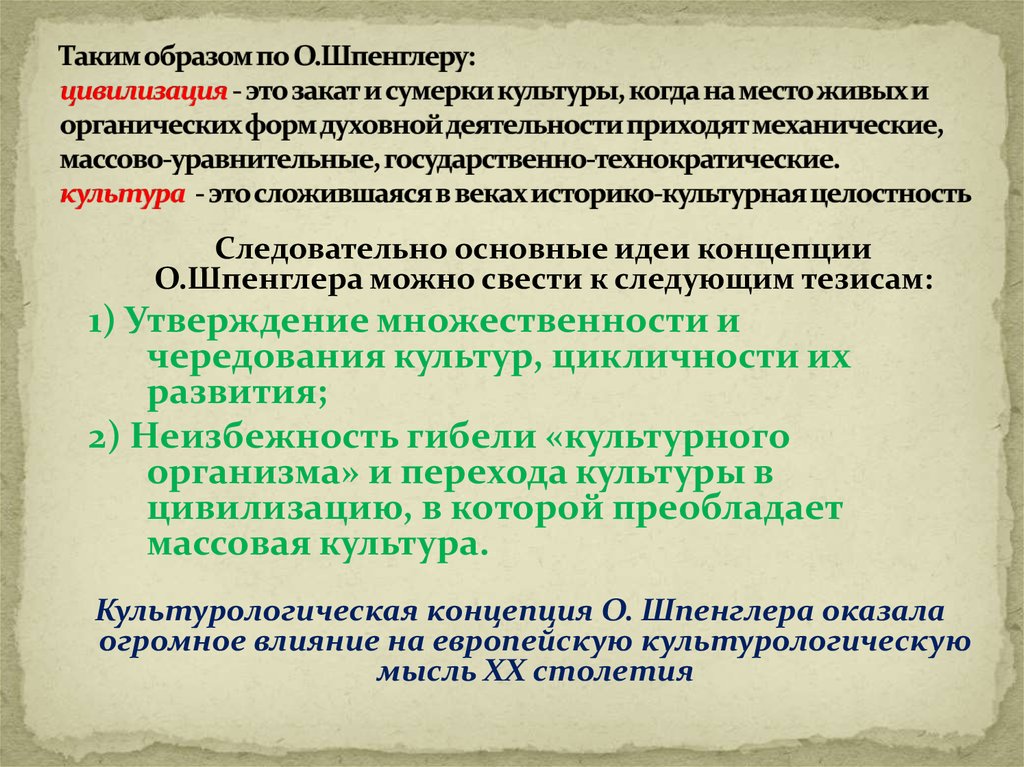 В то время практическое влияние этого сдвига было относительно незначительным, но долгосрочные последствия были огромными. Впервые в Европе возникла культура, в которой эмпирические наблюдения служили основой для логических предположений о том, как действуют законы природы, что давало возможность для широкого круга научных открытий.
В то время практическое влияние этого сдвига было относительно незначительным, но долгосрочные последствия были огромными. Впервые в Европе возникла культура, в которой эмпирические наблюдения служили основой для логических предположений о том, как действуют законы природы, что давало возможность для широкого круга научных открытий.
Более тысячи лет европейцы оглядывались назад в поисках понимания мира природы. Они полагались на Аристотеля и отчеты других древних авторов, чтобы объяснить, как функционирует Вселенная, как работает физика и как человеческое тело саморегулируется. Эти учения были дополнены христианской наукой, которая стремилась найти руку Бога в мире природы. Было заметно отсутствие эмпирических исследований: наблюдения с нейтральной и объективной точки зрения за природными явлениями и использования этих наблюдений в качестве основы для информированных экспериментов в отношении их причин и действия.
Европейцы Средневековья и раннего Нового времени никогда не развивали эмпирическую научную культуру, потому что цель науки никогда не заключалась в том, чтобы открыть истину, а в том, чтобы описать ее. Другими словами, практически каждый досовременный человек уже знал, как устроен мир: они знали это из мифов, из учений древних авторитетов и из религии. В некотором смысле все ответы уже были получены, и поэтому эмпирические наблюдения считались излишними. В то время для обозначения «науки» использовался термин «натурфилософия», раздел философии, посвященный наблюдению и каталогизации природных явлений, по большей части без попыток объяснить эти наблюдения без ссылок на древние авторитеты и Библию.
Другими словами, практически каждый досовременный человек уже знал, как устроен мир: они знали это из мифов, из учений древних авторитетов и из религии. В некотором смысле все ответы уже были получены, и поэтому эмпирические наблюдения считались излишними. В то время для обозначения «науки» использовался термин «натурфилософия», раздел философии, посвященный наблюдению и каталогизации природных явлений, по большей части без попыток объяснить эти наблюдения без ссылок на древние авторитеты и Библию.
Научная революция выросла из гуманизма эпохи Возрождения. Ученые-гуманисты к концу шестнадцатого века все больше недовольны некоторыми древними авторами, поскольку эти авторы на самом деле не все объясняли. Хотя древние авторы писали, например, об астрономии, они не могли адекватно объяснить наблюдаемое движение звезд и планет. Точно так же с появлением новых переводов классических произведений стало ясно, что древние ученые активно обсуждали и даже отвергали учения таких деятелей, как Аристотель.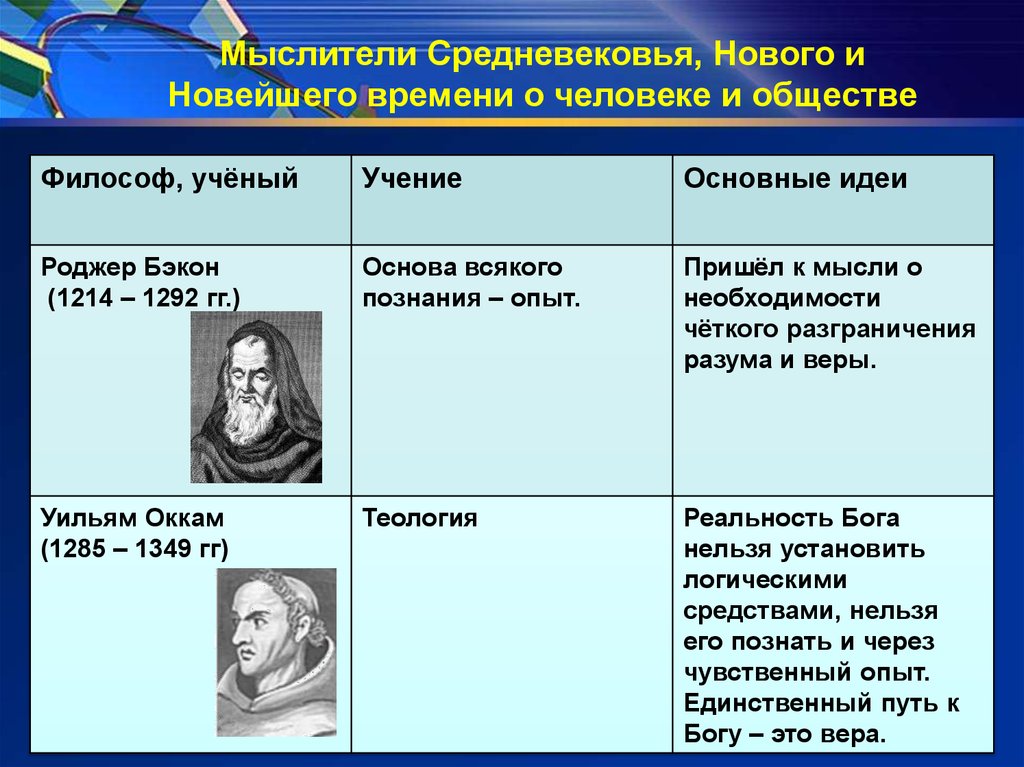 Это наводило на мысль, что вполне законно подвергать сомнению даже самые фундаментальные древние идеи.
Это наводило на мысль, что вполне законно подвергать сомнению даже самые фундаментальные древние идеи.
Даже для ученых, которые уважали и уважали древних авторов, большая часть древней астрономии была основана на некоторых довольно сомнительных предположениях, таких как идея о том, что Земля находится на вершине гигантского моря, которое время от времени выплескивается, вызывая землетрясения. Таким образом, первые крупные открытия Революции были связаны с астрономией, поскольку ученые начали проводить свои собственные наблюдения и выдвигать теории для объяснения того, что они видели в небе. Этот процесс известен как индуктивное рассуждение: начиная с разрозненных фактов, затем работая над теорией, объясняющей их. Это противоположно дедуктивным рассуждениям, которые начинают с известной теории, а затем пытаются доказать, что наблюдения ей соответствуют. Классическим примером последнего было принятие идеи о том, что Земля является центром Вселенной, как данность, а затем попытка придать смысл наблюдаемым движениям небесных тел с помощью подробных объяснений.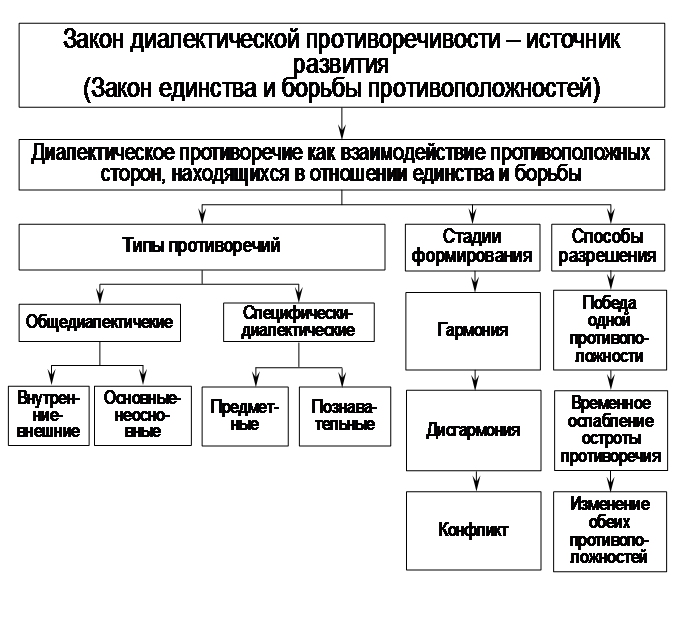
Следует отметить, что дедуктивное рассуждение по-прежнему является важной частью «настоящей» науки, поскольку оно допускает доказательства: например, в математике можно начать с известного принципа, а затем использовать его для доказательства более сложных формул. Сама математика сыграла ключевую роль в научной революции, поскольку многие мыслители настаивали на том, что математика была частью божественного языка, который существовал отдельно от самой Библии, но был почти так же важен, как и сама Библия. Бог спроектировал Вселенную таким образом, что математика давала возможность реальной научной достоверности. Тесная связь между математикой, физикой и инженерией очевидна в работах таких людей, как Да Винчи, Галилей и Исаак Ньютон, которые сочетали в себе глубокое понимание математики и ее практического применения.
При этом было бы неправильно утверждать, что научная революция породила совершенно объективную, узнаваемо «современную» форму науки. Ученые раннего Нового времени надеялись понять тайны Вселенной.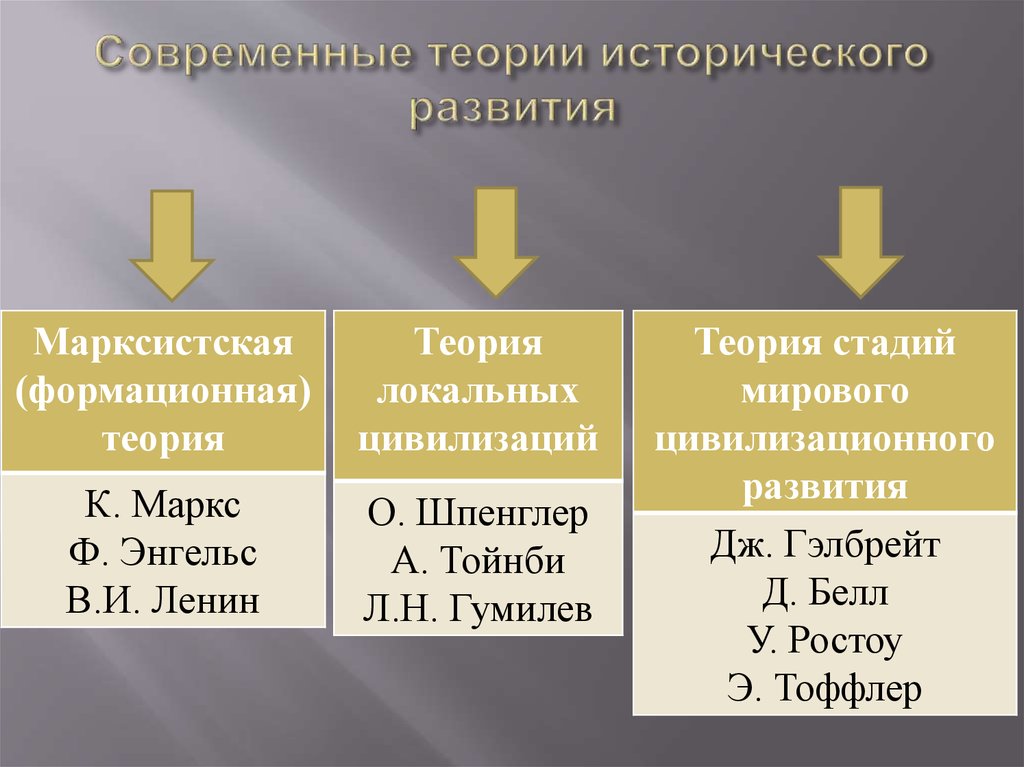 Исаак Ньютон был ученым, но также и алхимиком, посвятившим много времени и усилий попыткам выяснить, как «трансмутировать» неблагородные металлы, такие как свинец, в золото. Точно так же многие мыслители сильно интересовались работами древнего (и, как оказалось, вымышленного) философа и мага по имени Гермес Трисмагист, Гермеса «Трижды Блаженного», который якобы открыл ряд магических формул, объясняющих вселенная. Между тем, что мы могли бы считать магией и духовностью, с одной стороны, и «настоящей» наукой, с другой, было много пересечений.
Исаак Ньютон был ученым, но также и алхимиком, посвятившим много времени и усилий попыткам выяснить, как «трансмутировать» неблагородные металлы, такие как свинец, в золото. Точно так же многие мыслители сильно интересовались работами древнего (и, как оказалось, вымышленного) философа и мага по имени Гермес Трисмагист, Гермеса «Трижды Блаженного», который якобы открыл ряд магических формул, объясняющих вселенная. Между тем, что мы могли бы считать магией и духовностью, с одной стороны, и «настоящей» наукой, с другой, было много пересечений.
Это видно не только по Ньютону, но и по другим ученым той эпохи – многие были астрономами и астрологами, столько же были математиками и инженерами, а также алхимиками. Дело здесь в том, что, в конечном счете, даже несмотря на то, что магии не существует, интерес к открытиям, вызванный идеей исследования тайн Вселенной, все же привел к подлинному научному открытию.
Главной фигурой в кодификации и популяризации нового эмпирического индуктивного процесса был Фрэнсис Бэкон (1561–1626), английский дворянин. Бэкона лучше всего помнят за «создание» научного метода: выдвижение гипотезы для объяснения наблюдаемых данных, но затем попытка опровергнуть гипотезу, а не попытка заставить факты ее доказать. Таким образом, лучшее, на что можно было надеяться, — это весьма правдоподобная, еще не опровергнутая теория, а не надуманная, уязвимая теория, нуждающаяся в искусственной защите. Со временем научный метод стал включать в себя следующее требование: результаты эксперимента должны постоянно давать одни и те же результаты, чтобы гипотеза считалась жизнеспособной.
Бэкона лучше всего помнят за «создание» научного метода: выдвижение гипотезы для объяснения наблюдаемых данных, но затем попытка опровергнуть гипотезу, а не попытка заставить факты ее доказать. Таким образом, лучшее, на что можно было надеяться, — это весьма правдоподобная, еще не опровергнутая теория, а не надуманная, уязвимая теория, нуждающаяся в искусственной защите. Со временем научный метод стал включать в себя следующее требование: результаты эксперимента должны постоянно давать одни и те же результаты, чтобы гипотеза считалась жизнеспособной.
Бэкон предпринял радикальный шаг, чтобы порвать даже с одержимостью эпохи Возрождения античной наукой, заявив, что древние знания о мире природы почти бесполезны и что современные ученые должны вместо этого реконструировать свои знания о мире на основе эмпирических наблюдений. Бэкон был своего рода пророком движения, а не сам ученым — он был уволен с поста лорд-канцлера короля Якова I после получения взяток, а умер, поймав холодный набивной снег в дохлую курицу, как какое-то непродуманное биологический эксперимент.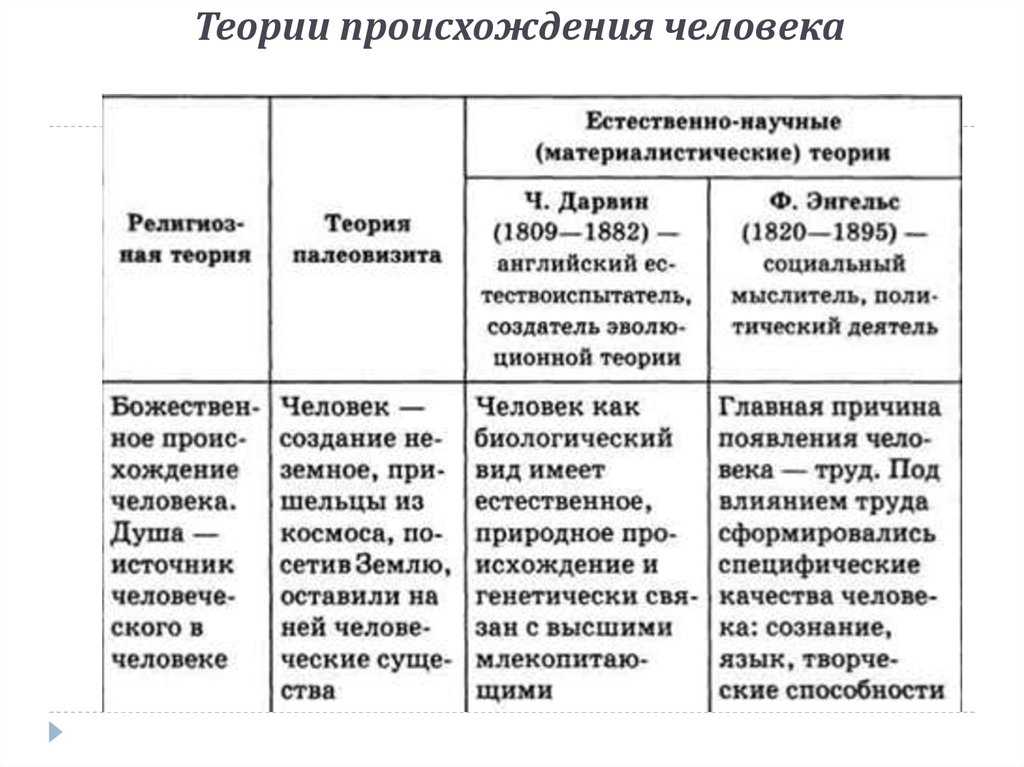 Несмотря на это, он кодифицировал новую методологию и мировоззрение самой научной революции.
Несмотря на это, он кодифицировал новую методологию и мировоззрение самой научной революции.
Астрономия
Самыми влиятельными древними источниками научных знаний были Птолемей, греческий астроном и математик, и Аристотель. Оба утверждали, что Земля находится в центре Вселенной, состоящей из гигантской хрустальной сферы, усеянной звездами. Эта сфера медленно вращалась, в то время как солнце, луна и планеты были подвешены над землей внутри сферы и также вращались вокруг Земли. Птолемей, живший спустя столетия после Аристотеля, разработал аристотелевскую систему и утверждал, что существует не одна, а около восьмидесяти сфер, одна внутри другой, что объясняет тот факт, что различные небесные тела не все движутся в одном направлении или в одном направлении. с той же скоростью. Идея о том, что Земля находится в центре Вселенной, известна как геоцентризм .
Проиллюстрирована геоцентрическая Вселенная с Солнцем и планетами, вращающимися вокруг Земли.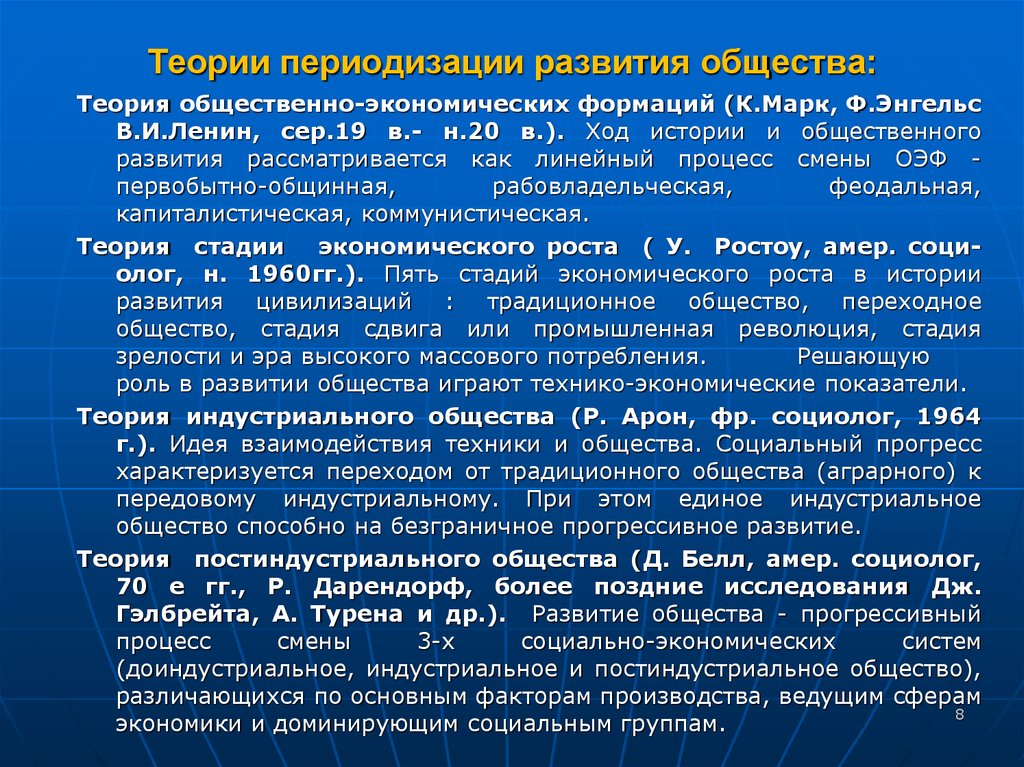 Интересно, что приведенная выше иллюстрация была создана в 1660 году, через несколько десятилетий после того, как Галилей популяризировал тот факт, что геоцентризм совершенно неточен.
Интересно, что приведенная выше иллюстрация была создана в 1660 году, через несколько десятилетий после того, как Галилей популяризировал тот факт, что геоцентризм совершенно неточен.
В этой модели Вселенной Земля отличалась от других небесных тел. Земля была несовершенной, хаотичной и изменчивой, тогда как небеса были совершенными и однородными. Таким образом, христианские мыслители восприняли аристотелевскую модель отчасти потому, что она так хорошо подходила для христианской теологии: Бог и ангелы находились снаружи самой отдаленной хрустальной сферы в состоянии полного совершенства, в то время как люди и дьявол находились внутри или внутри в состоянии полного совершенства. случай Сатаны, несовершенный мир. В этой христианизированной версии древнегреческой модели вселенной возникла концепция о том, что Бог и рай находятся «в небе», а ад — «под землей». Когда астрономы научной революции начали обнаруживать аномалии на небе, это полностью противоречило тому, как большинство ученых людей думали и думали о существенных характеристиках Вселенной.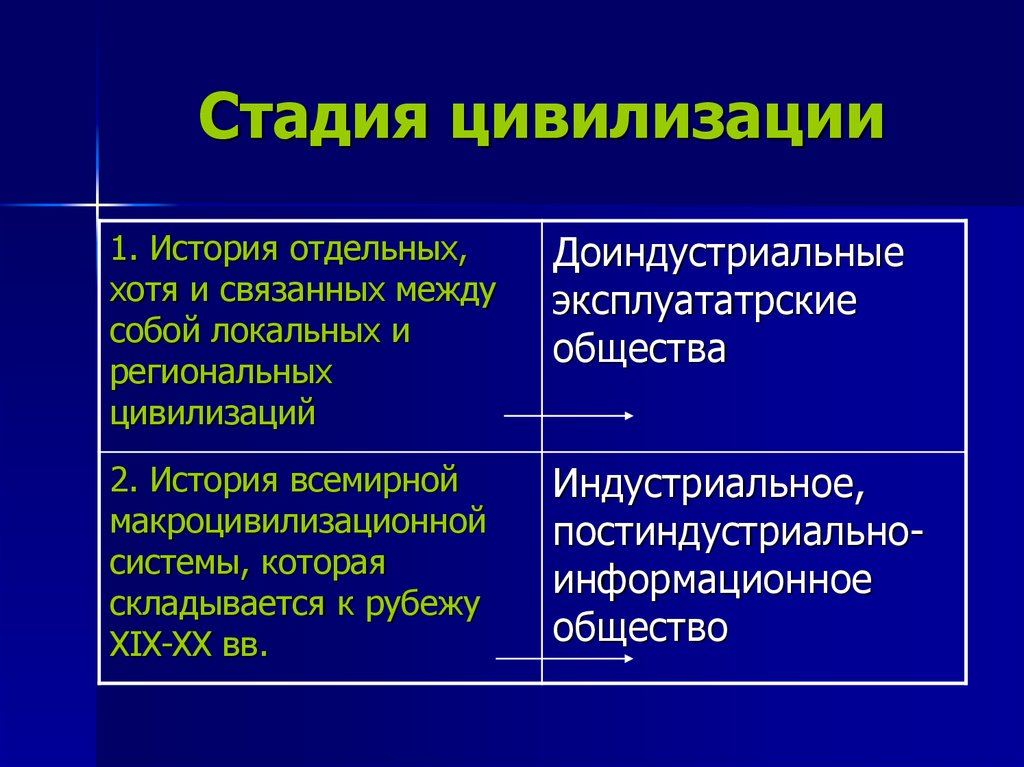
Проблема с этой моделью в том, что она не соответствовала наблюдаемым траекториям звезд и особенно планет, которые не следуют по правильным круговым орбитам. Средневековые астрономы пытались объяснить эти различия с помощью все более изощренных предостережений и модификаций идеи простых идеальных орбит, постулируя существование чрезвычайно сложных траекторий, предположительно проходимых различными небесными объектами. Польский священник Николай Коперник (1473–1543) был первым, кто заявил в книге, опубликованной незадолго до его смерти, что вся система соответствовала бы действительности, если бы Солнце находилось в центре орбит вместо Земли: эта концепция называется гелиоцентризмом. Он сохранил идею хрустальных сфер, а также использовал расчеты Птолемея в своей работе, но тем не менее его работа была первой, в которой была предложена концепция гелиоцентрической Вселенной. Сам Коперник был типичным человеком эпохи Возрождения; он был врачом, опытным художником, бегло говорил по-гречески и, конечно же, астрономом.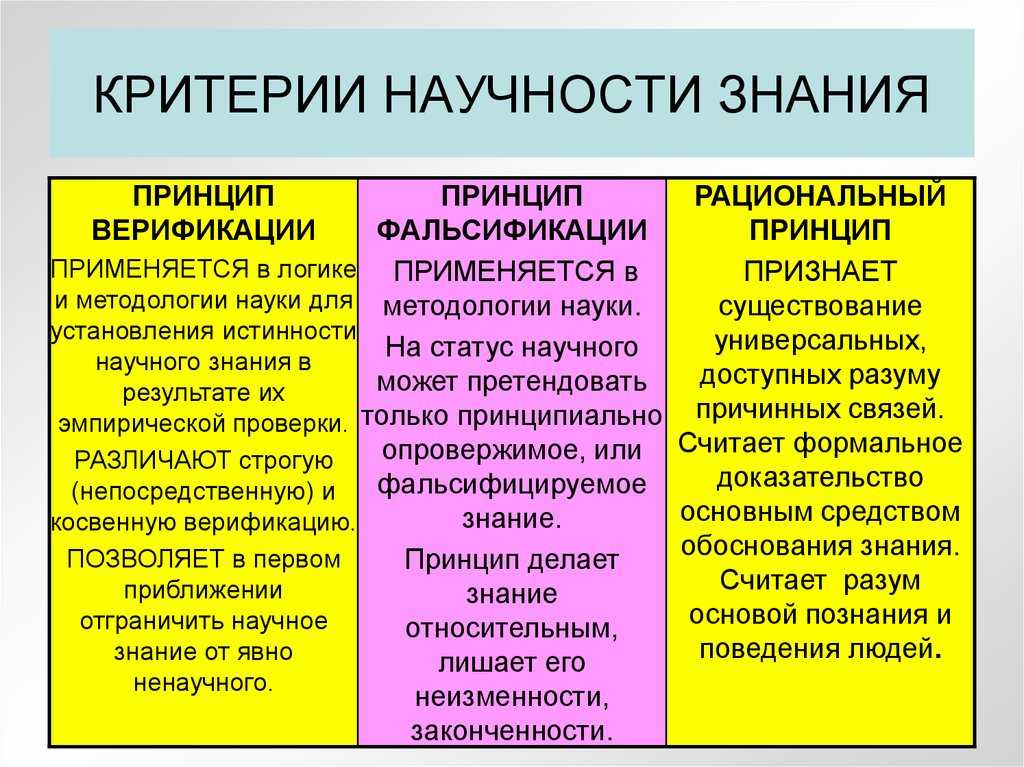
Теория Коперника была малоизвестна за пределами астрономических кругов, и большинство астрономов выражали тревогу и скептицизм по поводу идеи гелиоцентризма. Датский астроном по имени Тихо Браге (1546–1601) попытался опровергнуть гелиоцентрическую теорию, опубликовав обширную работу по астрономическим наблюдениям и соответствующим математическим данным, которые пытались продемонстрировать, что Земля действительно находится в центре Вселенной, но небесные тела следуют за ней. чудовищно сложные орбиты. Он провел двадцать лет, внимательно наблюдая за небом из своего замка на острове недалеко от Копенгагена. Основное значение работы Браге для потомков заключалось в том, что она предоставила множество данных для более поздних астрономов, хотя его основной аргумент оказался неточным.
Немецкий астроном Иоганн Кеплер (1571–1630), который в конце своей жизни был помощником Браге, в конечном итоге использовал данные Браге, чтобы опровергнуть вывод Браге, продемонстрировав, что данные фактически доказывают, что Солнце действительно находится в центре Вселенная.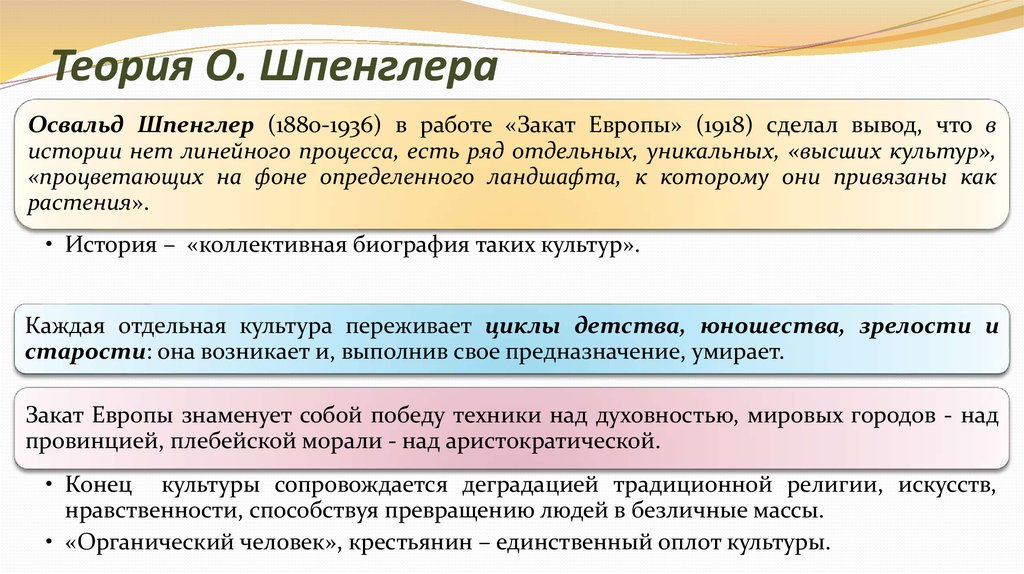 Кеплер также заметил, что от Солнца исходит какая-то сила, которая, казалось, удерживает планеты на орбитах; основываясь на недавней работе другого ученого о магнитах, Кеплер пришел к выводу, что причиной, вероятно, была какая-то форма магнетизма (на самом деле, Кеплер заметил роль гравитации в космосе). Интересно, что Кеплер делал свою работу, занимая должность официального имперского математика императора Священной Римской империи Рудольфа II, который упустил из виду тот факт, что Кеплер был протестантом, потому что он (Рудольф) так интересовался наукой — и это было на фоне Тридцатилетняя война, не меньше!
Кеплер также заметил, что от Солнца исходит какая-то сила, которая, казалось, удерживает планеты на орбитах; основываясь на недавней работе другого ученого о магнитах, Кеплер пришел к выводу, что причиной, вероятно, была какая-то форма магнетизма (на самом деле, Кеплер заметил роль гравитации в космосе). Интересно, что Кеплер делал свою работу, занимая должность официального имперского математика императора Священной Римской империи Рудольфа II, который упустил из виду тот факт, что Кеплер был протестантом, потому что он (Рудольф) так интересовался наукой — и это было на фоне Тридцатилетняя война, не меньше!
В конце концов, самым значительным публицистом гелиоцентризма был итальянец Галилео Галилей (1564 – 1642). Галилей построил телескоп на основе услышанного им описания и был рад обнаружить ранее неизвестные аспекты небесных тел, такие как тот факт, что луна и солнце не имеют гладких, совершенных поверхностей и что у Юпитера есть свои спутники. Он публично продемонстрировал свой телескоп и быстро стал известен среди образованной элиты Европы. Его первая крупная публикация, Звездный вестник в 1610 году убедительно продемонстрировал, что небеса полны ранее неизвестных объектов (например, лун Юпитера) и что планеты и луны кажутся «несовершенными» так же, как и Земля.
Его первая крупная публикация, Звездный вестник в 1610 году убедительно продемонстрировал, что небеса полны ранее неизвестных объектов (например, лун Юпитера) и что планеты и луны кажутся «несовершенными» так же, как и Земля.
В 1632 году он опубликовал работу « Диалог », в которой использовал работу более ранних астрономов и свои собственные наблюдения для поддержки гелиоцентрического взгляда на вселенную; эта работа быстро стала гораздо более известной, чем работы Коперника или Кеплера. Диалог состоял из двух воображаемых собеседников, один из которых отстаивал гелиоцентризм, другой — геоцентризм. Сторонник гелиоцентризма побеждает во всех спорах, а его партнер по дебатам, «Глупый» ( Simplicio ) сбит с толку. Опубликовав свою работу, Галилей подорвал идею о том, что небеса совершенны, что земля находится в центре и, следовательно, что древние знания надежны. Мало что могло быть более разрушительным.
Инквизиция судила Галилея в 1633 году, отчасти потому, что его бывший покровитель, папа Урбан VIII, считал, что Галилей издевался над ним лично, назвав мнимого защитника птолемеевского воззрения Глупым.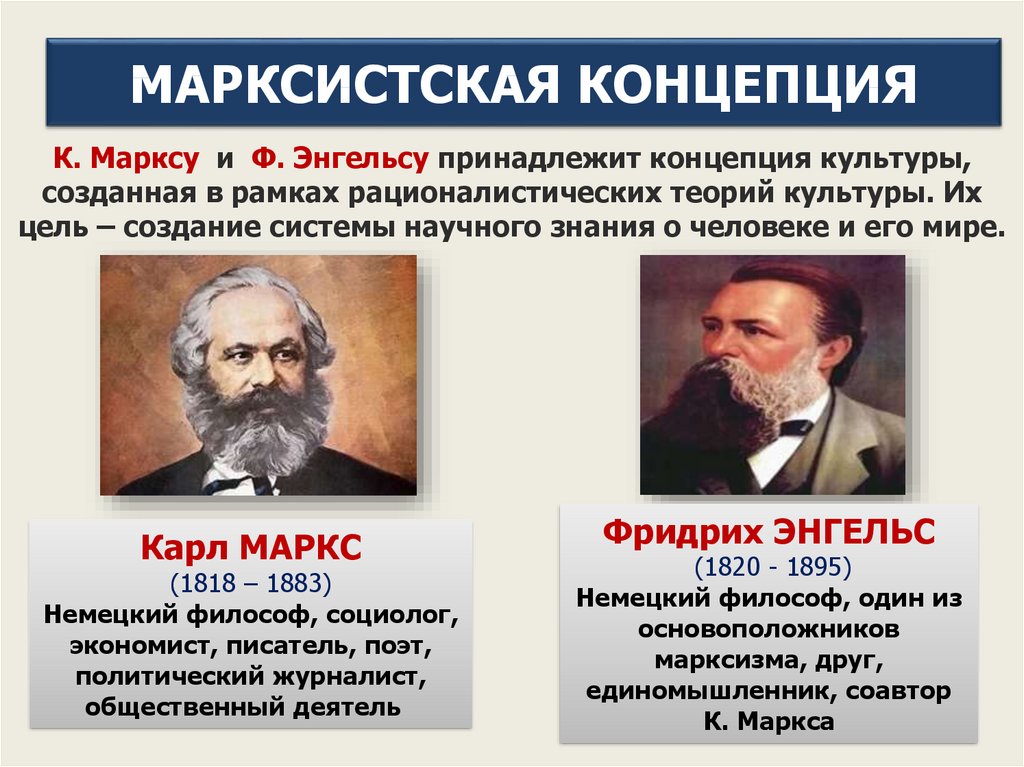 В частности, Галилея обвиняли в поддержке осужденной доктрины гелиоцентризма, а не в ереси как таковой. Галилей был вынужден отречься, и его книга была помещена на католическую Индекс запрещенных книг, где она оставалась до 1822 года. Большая часть объяснения этого преследования может быть найдена в том факте, что его работа была опубликована на фоне религиозной войны, охватившей тогда Европу; католическая церковь не была толерантным институтом в семнадцатом веке.
В частности, Галилея обвиняли в поддержке осужденной доктрины гелиоцентризма, а не в ереси как таковой. Галилей был вынужден отречься, и его книга была помещена на католическую Индекс запрещенных книг, где она оставалась до 1822 года. Большая часть объяснения этого преследования может быть найдена в том факте, что его работа была опубликована на фоне религиозной войны, охватившей тогда Европу; католическая церковь не была толерантным институтом в семнадцатом веке.
Галилея меньше помнят за его работу в области физики, но его работа там была так же важна, как и его астрономия. Через шесть лет после того, как «Диалог» был включен в Индекс, он опубликовал еще одну работу, Две новые науки о движении и механике , которые предоставили теорию и математические формулы инерции и аспектов гравитации. Эти теории опровергли аристотелевскую физику, которая утверждала, что объекты остаются в движении только при наличии прямого импульса; Галилей экспериментально продемонстрировал принципы инерции и ускорения и приступил к математическому определению их действия.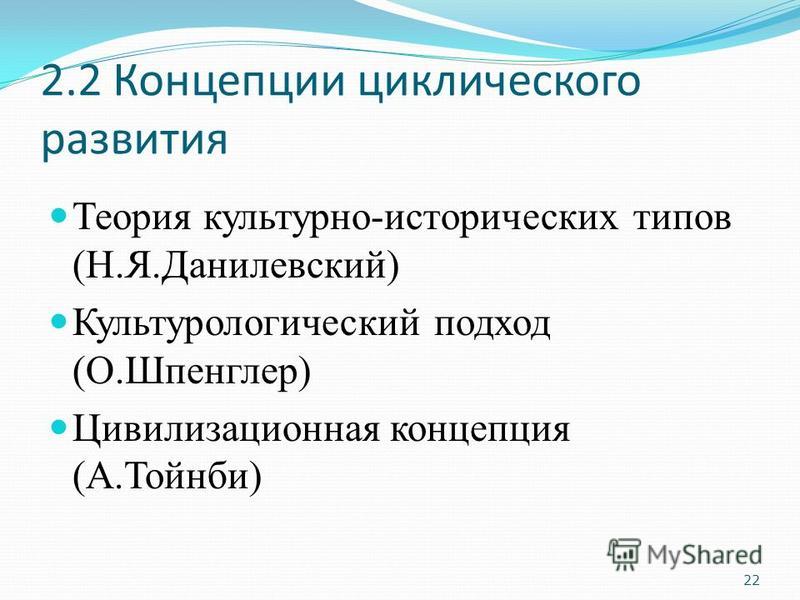
Исаак Ньютон
Пожалуй, самой важной фигурой научной революции был сэр Исаак Ньютон, английский математик (1642–1727). Проще говоря, Ньютон был гением. Он был председателем профессора математики в Кембриджском университете в возрасте 27 лет и еще при жизни был известен как один из величайших умов своего времени. В 1687 году он опубликовал Математические принципы натуральной философии , в котором постулируется единый универсальный закон гравитации, который в равной степени применим к огромным объектам, таким как планета Земля, и к крошечным объектам, которые едва могут быть обнаружены человеческими органами чувств. Вся система физики была начерчена и описана точными и точными математическими формулами в «Математических принципах». Это была одна из величайших научных работ всех времен: ее важность заключалась не только в том, чтобы быть «правильной», но и в том, что она предоставила всеобъемлющую систему, которая могла бы заменить работы таких древних авторов, как Аристотель. Вслед за Ньютоном к таким фигурам, как Аристотель и Птолемей, все чаще относились так, как они относятся сегодня: к важным личностям в истории мысли, особенно философии, но не к источникам точной научной информации.
Вслед за Ньютоном к таким фигурам, как Аристотель и Птолемей, все чаще относились так, как они относятся сегодня: к важным личностям в истории мысли, особенно философии, но не к источникам точной научной информации.
Ньютон был одним из величайших интеллектуалов всех времен. Он правильно рассчитал относительную массу земли и воды, сделал вывод, что электрические импульсы как-то связаны с нервной системой, и понял, что все цвета являются частью более широкого спектра света. Он лично спроектировал и построил новый и более эффективный вид телескопа и написал основополагающий документ современной науки оптики.
Трактат Ньютона о свойствах света, основополагающий документ оптики.
Лично Ньютон был скрягой без чувства юмора. Хотя он был известен еще при жизни, в конечном счете будучи посвященным в рыцари королем Вильгельмом и служившим председателем первого британского научного общества, он лишь неохотно публиковал свою работу, и то только после того, как опасался, что его самопонятные «соперники» украдут ее, если он не делал. Кроме того, всю свою жизнь он был совершенно целомудренным и имел то, что можно снисходительно назвать «неприятным» темпераментом.
Кроме того, всю свою жизнь он был совершенно целомудренным и имел то, что можно снисходительно назвать «неприятным» темпераментом.
Медицина
В то время как астрономия и физика развивались семимильными шагами в период научной революции, другие научные дисциплины, такие как медицина и биология, развивались гораздо медленнее. В то время существовало множество общепринятых представлений и предубеждений, особенно против работы с человеческими трупами, которые мешали широкомасштабным экспериментам. Вместо этого большинство врачей продолжали полагаться на работу греческого врача Галена, который во II веке н. э. разработал аристотелевскую идею четырех «соков», которые якобы управляли здоровьем: кровь, слизь, желтая желчь и черная желчь. Согласно этой теории, болезнь была результатом избытка одного юмора и недостатка другого — отсюда многовековая практика обескровливания больного в надежде уменьшить «лишнюю» кровь.
В то время как вера в гумор продолжала господствовать в отсутствие более убедительных теорий, в анатомии произошли важные успехи. Итальянский врач Андреас Везалий (1514–1564) опубликовал труд по анатомии на основе трупов. Другой врач, Уильям Гарвей (1578–1657), убедительно продемонстрировал, что кровь течет по телу, перекачивая ее сердцем, а не вытекая из печени, как считалось ранее. Вскоре после его смерти другие врачи использовали новое изобретение, микроскоп, для обнаружения капилляров, соединяющих артерии с другими тканями. Врачи все чаще стали рассматривать человеческое тело и как объект, записанный в Книгу Природы.
Итальянский врач Андреас Везалий (1514–1564) опубликовал труд по анатомии на основе трупов. Другой врач, Уильям Гарвей (1578–1657), убедительно продемонстрировал, что кровь течет по телу, перекачивая ее сердцем, а не вытекая из печени, как считалось ранее. Вскоре после его смерти другие врачи использовали новое изобретение, микроскоп, для обнаружения капилляров, соединяющих артерии с другими тканями. Врачи все чаще стали рассматривать человеческое тело и как объект, записанный в Книгу Природы.
Одна из иллюстраций Везалия, в данном случае мускулатура человека.
Многие медицинские достижения были бы невозможны без достижений эпохи Возрождения в других областях. Художественные приемы эпохи Возрождения сделали возможными точные и точные анатомические рисунки, а печать обеспечила быстрое распространение работ по медицине по Европе после их первоначальной публикации. Таким образом, ученые и врачи смогли внести свой вклад в растущий объем работ, что привело к более широкому пониманию того, как работает тело.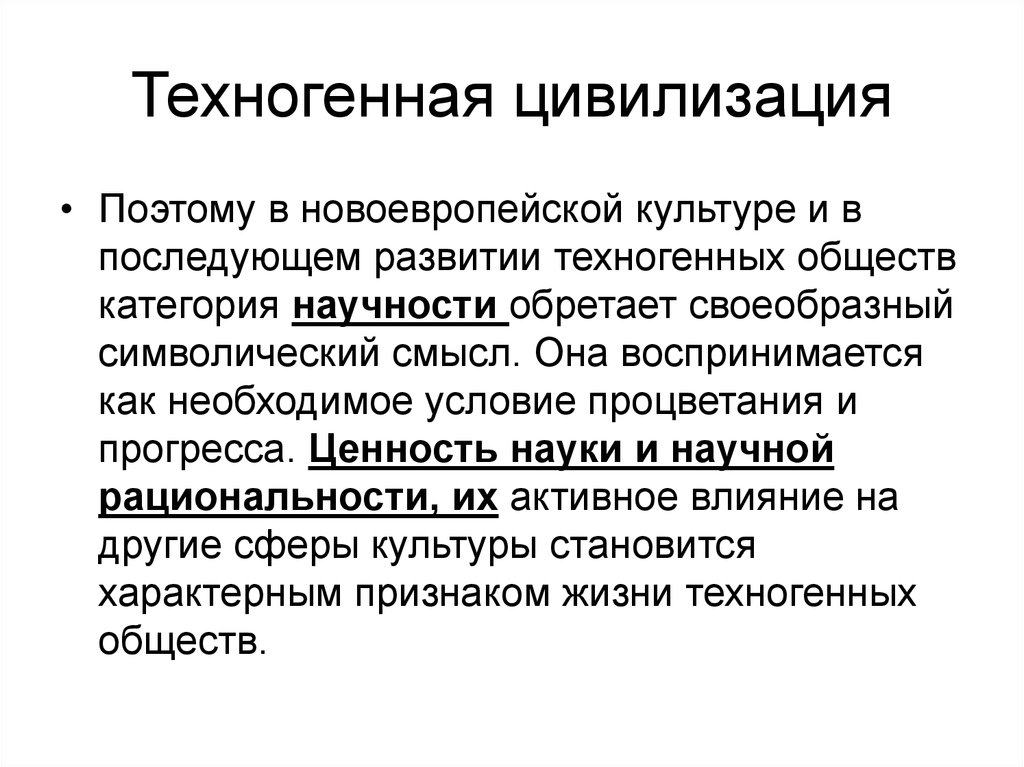 Несмотря на то, что концепция юмора (а также другие идеи, такие как миазмы, вызывающие болезни) оставалась преобладающей, врачи теперь имели лучшее представление о том, как устроено тело и что на самом деле делают его составные части.
Несмотря на то, что концепция юмора (а также другие идеи, такие как миазмы, вызывающие болезни) оставалась преобладающей, врачи теперь имели лучшее представление о том, как устроено тело и что на самом деле делают его составные части.
К несчастью для здоровья человечества, новое понимание анатомии не привело к пониманию заражения. Голландский ученый Антони Ван Левенгук (1632-1723) изобрел микроскоп, и в 1670-х годах ему удалось идентифицировать то, что позднее было названо бактериями. К сожалению, он не сделал вывод, что бактерии вызывают болезни; только в 1860-х годах французский врач и ученый Луи Пастер установил окончательное доказательство связи между микробами и болезнями.
Женщины
Часто упускаемым из виду аспектом научной революции было участие женщин (в основном аристократов). Дворянки часто сотрудничали со своими мужьями или отцами — например, именно муж и жена Лавуазье во Франции изобрели предпосылки современной химии в восемнадцатом веке. В некоторых случаях, например, у раннего энтомолога Марии Сибиллы Мериан, женщины действовали самостоятельно и проводили эксперименты и экспедиции: Мериан совершила исследовательскую поездку в Южную Америку и провела новаторскую работу по изучению жизненных циклов различных видов насекомых.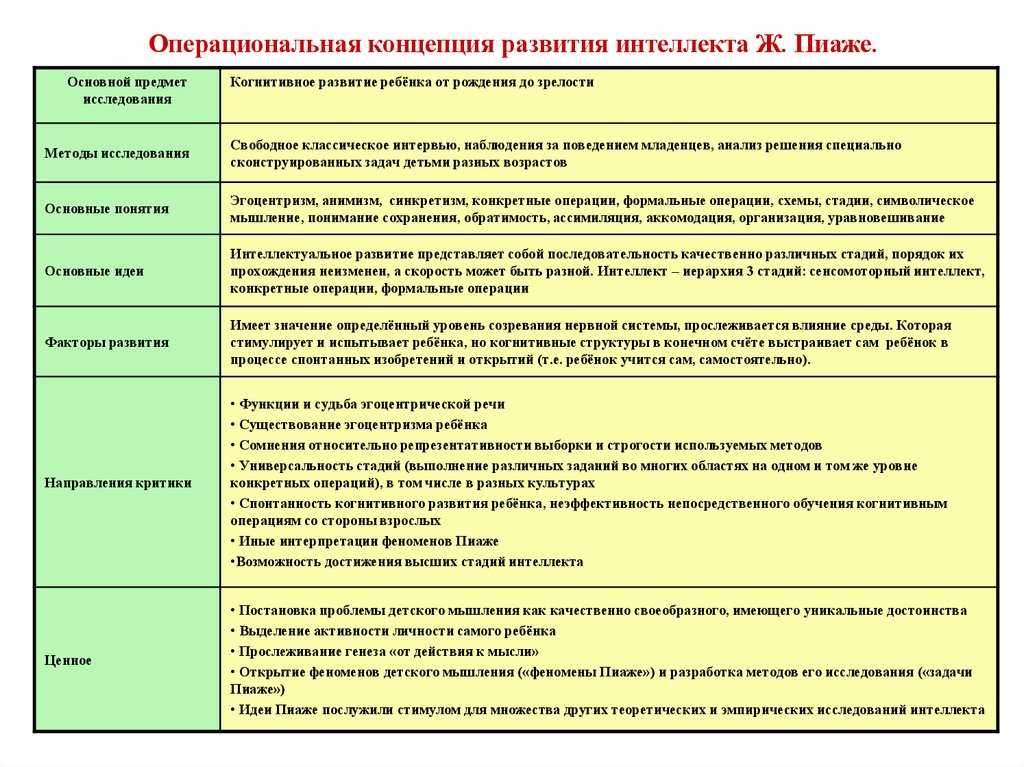 Другие сделали важные медицинские открытия, например, когда графиня Чинкон (жена испанского губернатора Перу в начале семнадцатого века) обнаружила, что хинин эффективен при лечении малярии.
Другие сделали важные медицинские открытия, например, когда графиня Чинкон (жена испанского губернатора Перу в начале семнадцатого века) обнаружила, что хинин эффективен при лечении малярии.
Одна из иллюстраций Мериан, изображающая жизненный цикл бабочек и мотыльков.
Несколько мужчин-теоретиков также поддерживали протофеминистские взгляды. Французский ученый Франсуа Пулен де ла Барр (1647–1725) пришел к выводу, что эмпирические наблюдения показали, что обычай мужского доминирования в европейском обществе был всего лишь обычаем. Ничто в отношении беременности или деторождения не делало женщин изначально непригодными для участия в общественной жизни. Де ла Барр применил аналогичный аргумент к неевропейским народам, утверждая, что существуют лишь косметические различия между теми, кто позже будет назван «расами». Его работа была почти беспрецедентной в своем эгалитарном видении, предвосхищая идеи человеческого универсализма, которые по-настоящему достигли зрелости только в девятнадцатом веке и стали доминирующими взглядами только в двадцатом.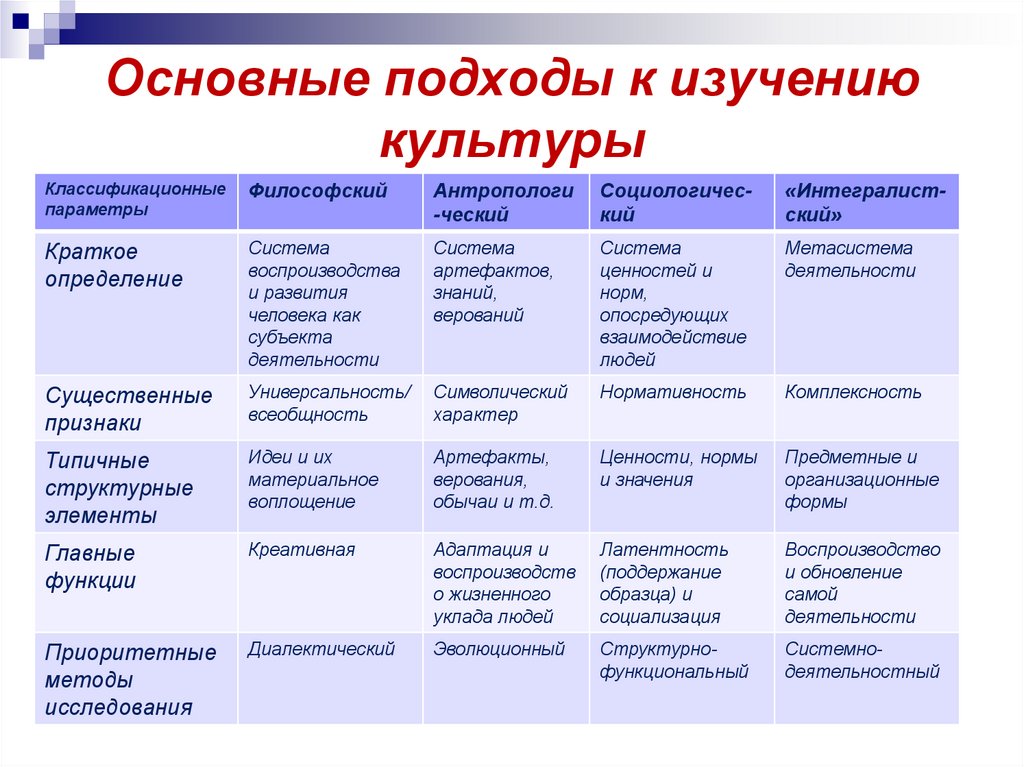
Несмотря на наличие высококвалифицированных и образованных женщин-ученых, неформальные правила запрещали им вступать в научные общества или занимать должности в университетах. В общем, одна из самых очевидных неудач научной революции в преодолении социальных предрассудков заключалась в заметной тенденции ученых-мужчин использовать новую науку для укрепления, а не для ниспровержения сексистских стереотипов. Анатомические рисунки обратили внимание на то, что у женщин бедра были шире, чем у мужчин, что якобы «предназначило» их для выполнения основной детородной функции. Точно так же они (неточно) изображали женщин с меньшими черепами, что предположительно подразумевает более низкий интеллект. В областях, в которых женщины в прошлом играли очень важную социальную роль, например, в акушерстве, мужчины-ученые и врачи все чаще оттесняли их в сторону, настаивая на доминируемом мужчинами «научном» превосходстве техники.
Утверждения научной революции о женской анатомии в конечном итоге создали псевдонаучную (то есть эмпирически ложную, но претендующую на научную истину) теорию половых различий, которая на самом деле была хуже в своем взгляде на способности женщин, чем более ранние идеи.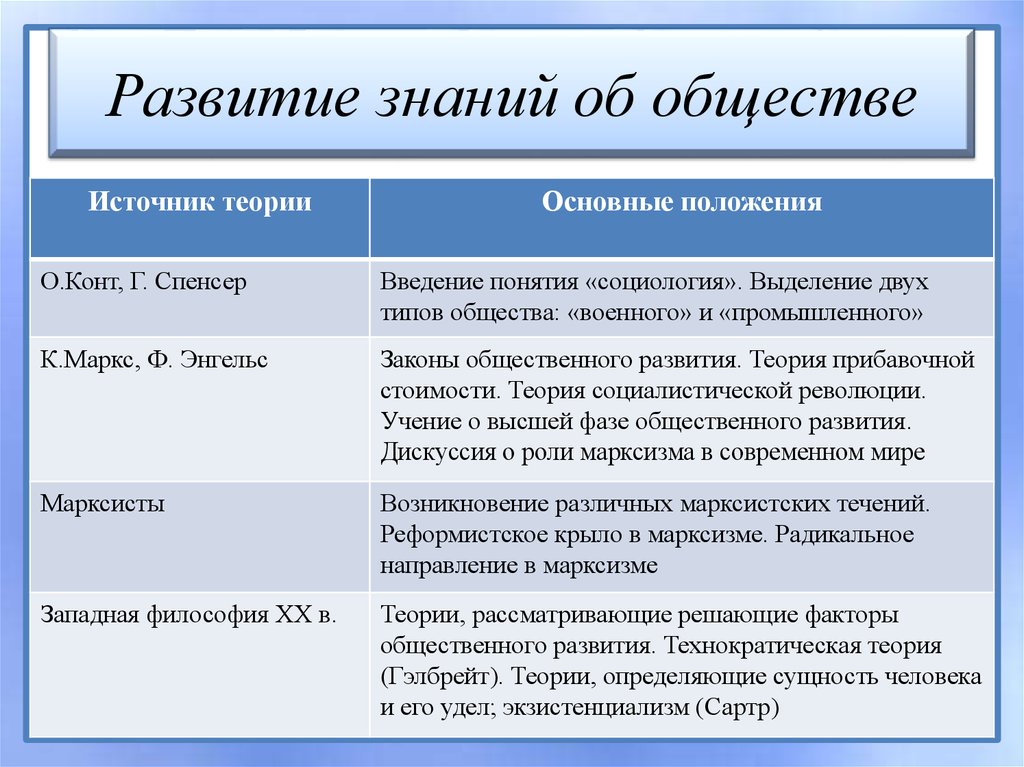 Женщины не были, согласно новым теориям, просто низшими версиями мужчин, они были биологически созданы, чтобы быть полной противоположностью: глупыми, чрезмерно эмоциональными и, прежде всего, неспособными к рациональному мышлению. Даже старая вера в то, что сексуальное удовольствие для обоих партнеров необходимо для продолжения рода, была отброшена (хотя эта вера атрофировалась только в конце восемнадцатого века), а женщины превратились в пассивные вместилища, чье удовольствие не имело значения. Женщины якобы не были биологически способны к участию в политической жизни или к интеллектуальным достижениям. Подводя итог, можно сказать, что в отличие от прорывов в астрономии, доказавших, что Земля не находится в центре космоса, оказалось легче ниспровергнуть все представление о Вселенной, чем разрушить сексуальные роли и стереотипы.
Женщины не были, согласно новым теориям, просто низшими версиями мужчин, они были биологически созданы, чтобы быть полной противоположностью: глупыми, чрезмерно эмоциональными и, прежде всего, неспособными к рациональному мышлению. Даже старая вера в то, что сексуальное удовольствие для обоих партнеров необходимо для продолжения рода, была отброшена (хотя эта вера атрофировалась только в конце восемнадцатого века), а женщины превратились в пассивные вместилища, чье удовольствие не имело значения. Женщины якобы не были биологически способны к участию в политической жизни или к интеллектуальным достижениям. Подводя итог, можно сказать, что в отличие от прорывов в астрономии, доказавших, что Земля не находится в центре космоса, оказалось легче ниспровергнуть все представление о Вселенной, чем разрушить сексуальные роли и стереотипы.
Научные учреждения и культура
Многие события ранней научной революции произошли в католических странах, таких как Италия, но со временем центр научного развития сместился на север и запад.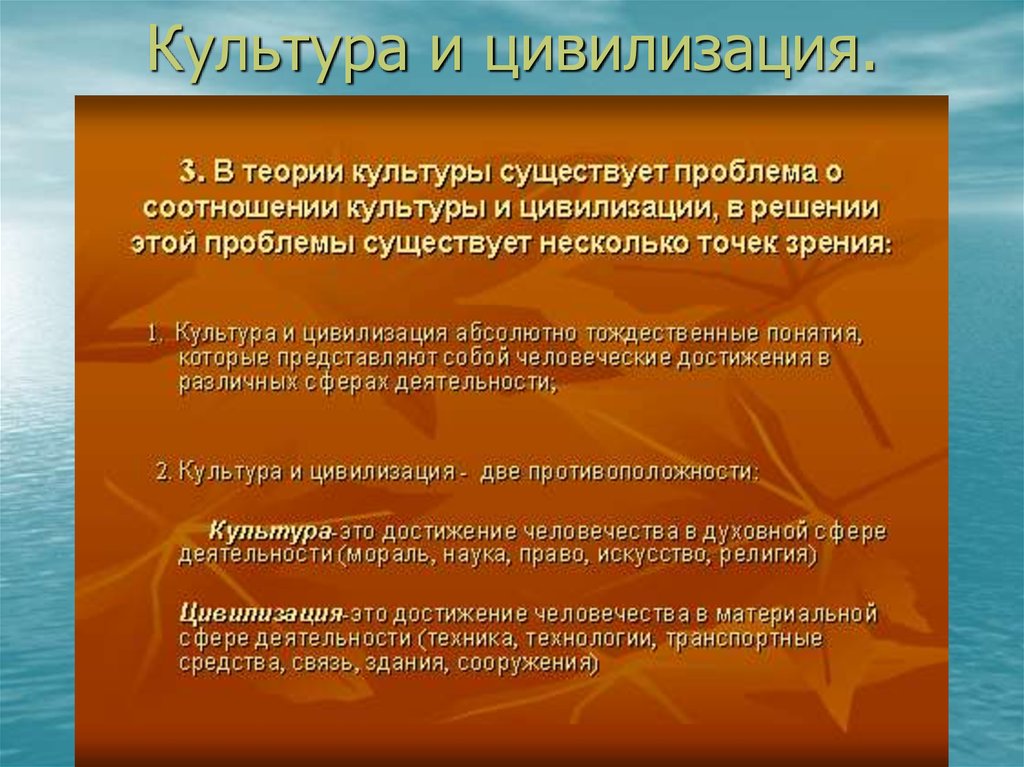 Хотя многие протестанты, в том числе и сам Лютер, поначалу так же враждебно относились к новым научным идеям, как и католики, в долгосрочной перспективе протестантские правительства оказались более терпимыми к идеям, которые, казалось, нарушали буквальную истину Библии. Это было связано не столько с присущей протестантизму терпимостью, сколько с тем фактом, что протестантские институты были менее могущественными и распространенными, чем римская церковь в католических странах.
Хотя многие протестанты, в том числе и сам Лютер, поначалу так же враждебно относились к новым научным идеям, как и католики, в долгосрочной перспективе протестантские правительства оказались более терпимыми к идеям, которые, казалось, нарушали буквальную истину Библии. Это было связано не столько с присущей протестантизму терпимостью, сколько с тем фактом, что протестантские институты были менее могущественными и распространенными, чем римская церковь в католических странах.
В частности, в Нидерландах и Англии можно было открыто публиковать и/или отстаивать научные идеи, не опасаясь негативной реакции; в случае с Ньютоном можно было стать известным. В целом протестантские правительства и элиты были более открыты для идеи, что Бог может открывать Себя в самой природе, а не только в Священном Писании, и поэтому они с пониманием относились к благочестию научных исследований. В конечном счете, эта повышенная терпимость и поддержка науки привели бы к тому, что центр научных инноваций находился бы на северо-западе Европы, а не в самом сердце раннего Возрождения в Италии.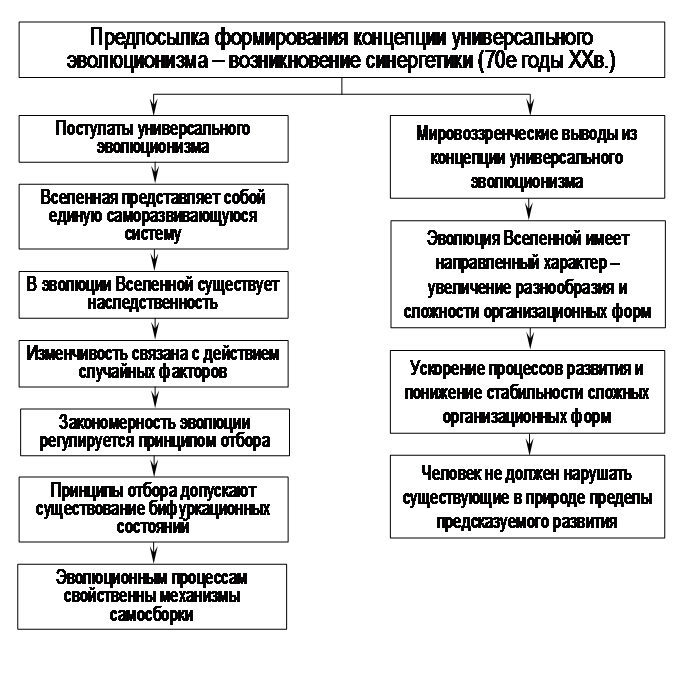
Учитывая это, нельзя было недооценивать Францию как место открытий, отчасти благодаря космополитизму Парижа и традиционной силе французских королей, державших папство на расстоянии вытянутой руки. Королевская академия наук во Франции была открыта в том же году, что и родственная ей организация, Королевское общество, в Англии (1662 г.). Оба финансировали научные усилия, которые были «полезны» в смысле обслуживания кораблей и военных приложений, а также те, которые носили более чисто экспериментальный характер, например, в астрономии. Английское Королевское общество уделяло особое внимание военным приложениям, особенно оптике и баллистике, установив образец финансируемой государством науки на службе войны, которая продолжается и по сей день.
Английское и французское научные общества были важными частями развития более крупной «Республики науки», предшественницы современной «академии». Ученые мужчины (и некоторые женщины) со всей Европы посещали лекции, переписывались и проводили свои собственные научные эксперименты.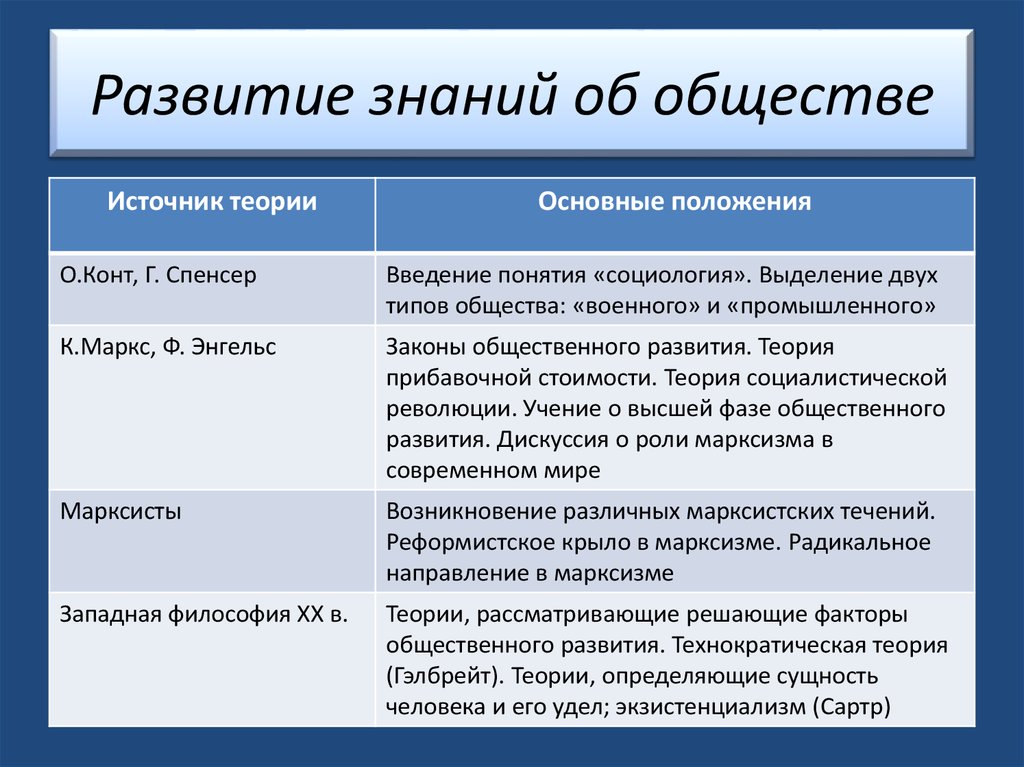 Ньютон был президентом Королевского общества, которое опубликовало «Философские труды Королевского общества» — предшественника академических журналов, которые и сегодня остаются основой науки.
Ньютон был президентом Королевского общества, которое опубликовало «Философские труды Королевского общества» — предшественника академических журналов, которые и сегодня остаются основой науки.
Обложка первого тома Philosophical Transactions, возможно, первого официального академического журнала в истории.
Значение Республики Науки невозможно переоценить, потому что непрерывный обмен идеями и проверка фактов между экспертами позволили науке развиваться постепенно и непрерывно. Другими словами, ни один ученый не должен был «начинать с нуля», потому что он или она уже опирались на работу ученых прошлого. Вместо того, чтобы наука требовала изолированного гения, такого как да Винчи, теперь любой умный и самодисциплинированный человек мог надеяться внести значимый вклад в научную область. Ньютон прямо признавал важность этого постепенного роста знаний, когда подчеркивал: «Если я и видел дальше, то потому, что стоял на плечах гигантов».
Научная Республика также положила начало отказу от использования латыни в качестве официального языка науки в научной европейской культуре. Научные эссе часто писались на родном языке такими учеными, как Кеплер и Галилей, отчасти потому, что они хотели отличить свою работу от церковной доктрины (которая, конечно, традиционно писалась на латыни). Первоначально Ньютон писал на латыни, чтобы его могли прочитать его сверстники на континенте, но его более поздние работы были на английском языке. В течение восемнадцатого века латынь неуклонно снижалась как практический язык обучения, заменяясь основными местными языками, особенно французским и английским.
Научные эссе часто писались на родном языке такими учеными, как Кеплер и Галилей, отчасти потому, что они хотели отличить свою работу от церковной доктрины (которая, конечно, традиционно писалась на латыни). Первоначально Ньютон писал на латыни, чтобы его могли прочитать его сверстники на континенте, но его более поздние работы были на английском языке. В течение восемнадцатого века латынь неуклонно снижалась как практический язык обучения, заменяясь основными местными языками, особенно французским и английским.
Философское влияние науки
Одним из следствий научных открытий шестнадцатого века стало растущее убеждение, что сама Вселенная действует в соответствии с регулярными, предсказуемыми, «механическими» законами, которые можно описать с помощью математики. Эта точка зрения соответствовала той, в которой Бог мог рассматриваться как великий ученый или часовщик: божественный разум, который создал совершенную вселенную, а затем привел ее в движение. Таким образом, в этом смысле новые научные открытия никоим образом не подорвали тогдашней религиозной веры, несмотря на то, что они противоречили некоторым конкретным местам Библии.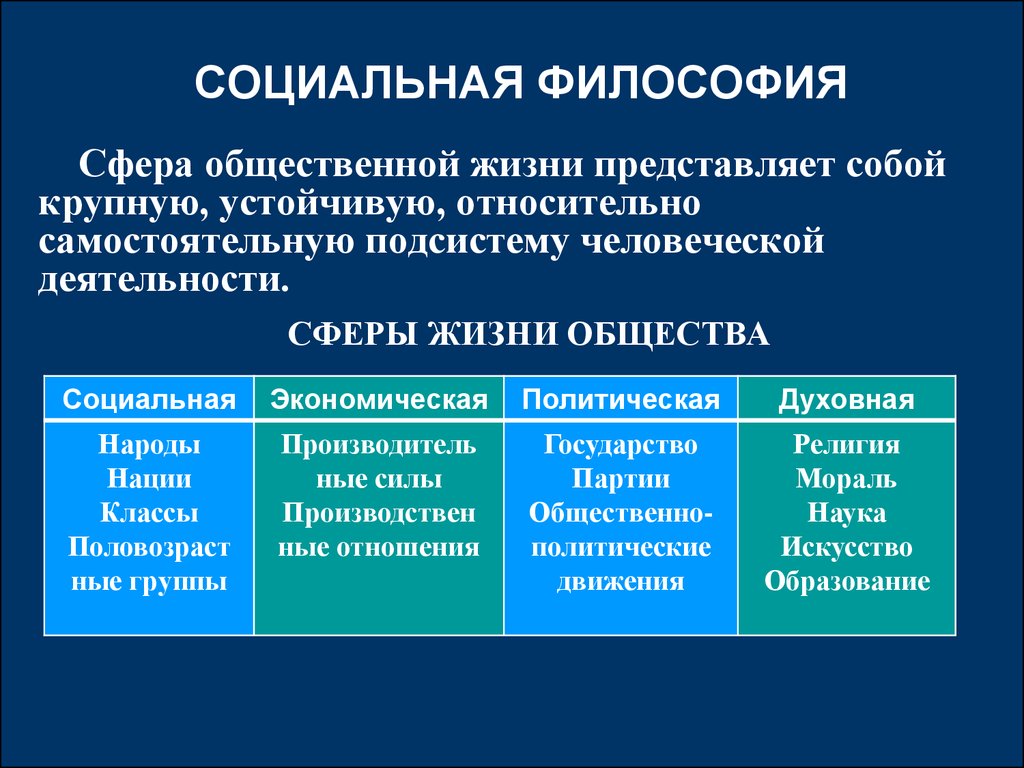 Этот вид религиозного мировоззрения стал известен как деизм и его сторонники деисты, люди, которые верили, что Бог не вмешивается в повседневную жизнь, а вместо этого просто приводит вселенную в движение, а затем отстраняются, чтобы посмотреть.
Этот вид религиозного мировоззрения стал известен как деизм и его сторонники деисты, люди, которые верили, что Бог не вмешивается в повседневную жизнь, а вместо этого просто приводит вселенную в движение, а затем отстраняются, чтобы посмотреть.
Некоторые мыслители, прежде всего французский философ Рене Декарт (1596–1650), пытались применить этот новый логический взгляд к самой теологии. Декарт пытался подвергнуть веру и сомнение тщательной логической критике, задаваясь вопросом, в чем он может быть абсолютно уверен, как в качестве отправной точки философии. Он пришел к выводу, что единственное, что он действительно знал, это то, что он сомневался, что есть что-то, мыслящее и действующее скептически, что, в свою очередь, подразумевает, что существует вещь, способная мыслить. Это привело к его известному утверждению: «Я мыслю, следовательно, существую». Далее Декарт вывел из этого существующего мыслящего существа ряд логических «доказательств», чтобы «доказать», что существует Сам Бог как первоисточник мысли. Это было философское применение не только нового механического и математического мировоззрения, но и дедуктивного мышления. Декарт лично придерживался мнения, что Бог был доброжелательной и разумной силой творения, но тем, кто не опустился до того, чтобы вмешиваться во вселенную.
Это было философское применение не только нового механического и математического мировоззрения, но и дедуктивного мышления. Декарт лично придерживался мнения, что Бог был доброжелательной и разумной силой творения, но тем, кто не опустился до того, чтобы вмешиваться во вселенную.
Возможно, самым важным культурным изменением, произошедшим в результате Революции, был тот простой факт, что наука приобрела растущий культурный авторитет. Результаты новой науки были очевидны; Галилей восхитил зрителей, позволив им использовать свой телескоп не только для того, чтобы смотреть на небо, но и на здания в Риме, тем самым доказав, что его изобретение работает. Возможность того, что наука могла и фактически уже опровергла заявления, сделанные в Библии, заложила основу для совершенно нового подхода к знанию, который угрожал постоянным разрывом с религиозной парадигмой. Другими словами, научные достижения непреднамеренно привели к росту скептицизма в отношении религии, иногда вплоть до откровенного атеизма: отрицания самой идеи существования Бога.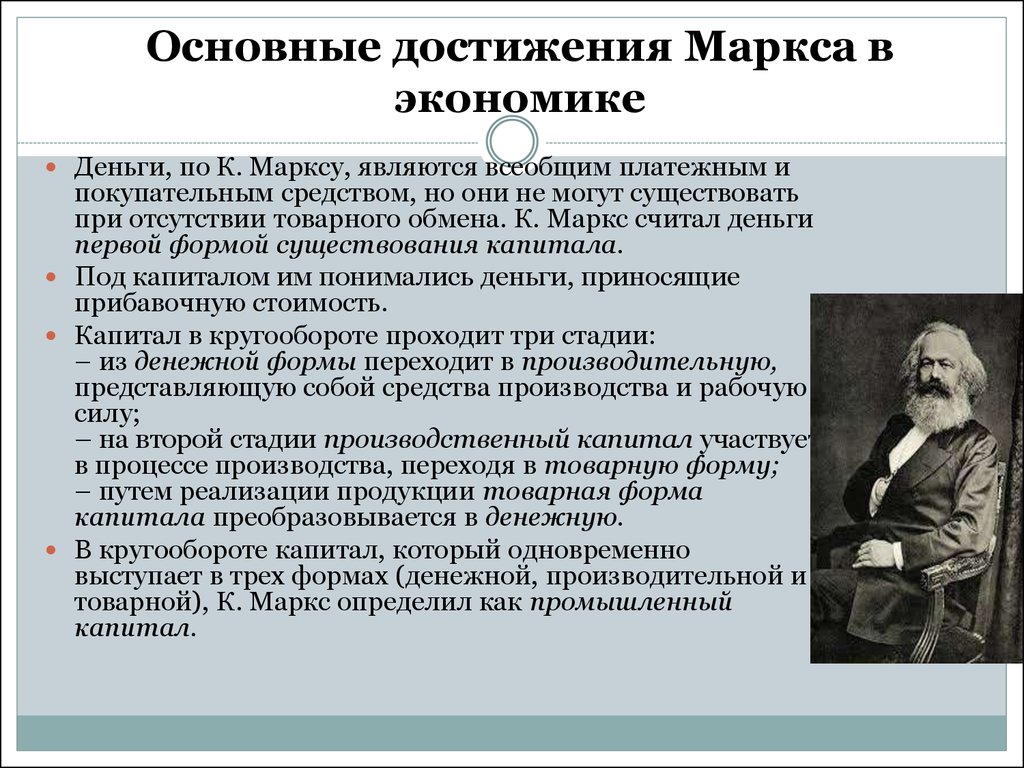
Самой радикальной фигурой в этом отношении был Барух Спиноза (1632 – 1677), сефардский еврей, родившийся и выросший в Амстердаме в Нидерландах. Спиноза воспринял прозрения той эпохи и искренне применил их к самой религии, утверждая, что вселенная естественных, физических законов синонимична Богу, а сама идея человекоподобного Бога с личностью и намерениями суеверна, недоказуема, и абсурдно. Он был отлучен от самого иудаизма, когда ему было всего двадцать четыре года, но продолжал публиковать свои работы, в процессе закладывая основу для тех, кто позже был известен как «свободомыслящие» — люди, которые могли быть или не быть настоящими атеистами, но которые, безусловно, отвергли авторитет священных писаний и церквей.
Работа Спинозы была настолько противоречивой, что он был осужден как атеист не только еврейской общиной, но и католической церковью, и различными протестантскими церквями. Одна из вещей в его мысли, которая привела в бешенство практически всех, заключалась в том, что Спиноза утверждал, что не существует таких вещей, как «дух» или «душа» — вся вселенная — это просто материя, и единственный способ по-настоящему узнать о ее функционировании — это сочетать эмпирический эксперимент с математикой. Этот «материализм», как его называли в то время, был настолько близок к откровенному атеизму, что почти неотличим от него.
Этот «материализм», как его называли в то время, был настолько близок к откровенному атеизму, что почти неотличим от него.
Другой стороной скептицизма была своего рода циничная версия религиозной веры, которая обходилась без эмоциональной связи с Богом и сводила ее к простому акту духовной страховки: французский математик Блез Паскаль (1623 – 1662), изобретатель поля вероятности, постулируемой «пари Паскаля». В «Пари» Паскаль утверждал, что либо Бог существует, либо его нет, и каждый человек может выбирать, признавать Его или нет. Если Он существует, и человек признает Его, тогда он спасен. Если Он существует, и кто-то отвергает Его, то он проклят. Если Его нет и Его не признают, ничего не происходит, а если Его нет и Его не признают, тоже ничего не происходит. Таким образом, можно также каким-то образом поклоняться Богу, поскольку отрицательных последствий нет, если Он не существует, но есть (т.е. вечность мучений в аду), если Он существует.
Паскаль столь же скептически относился к существовавшим в его время правительствам.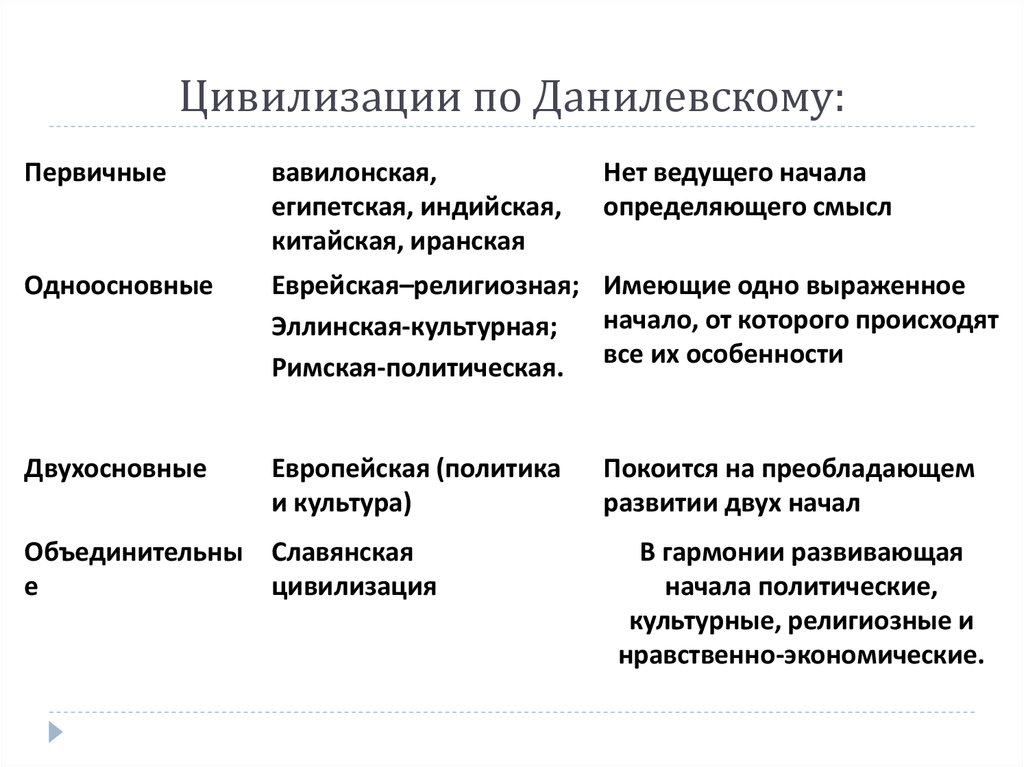 Он отмечал, что «мы не видим ни справедливости, ни несправедливости, которые не меняют своей природы с изменением климата. Три градуса широты переворачивают всю юриспруденцию; меридиан решает правду. Фундаментальные законы меняются через несколько лет владения… странное правосудие, граничащее с рекой! Истина по эту сторону Пиренеев, заблуждение по другую». Другими словами, в царских указах и законах не было фиксированных, вечных или данных Богом; они были произвольными обычаями, навязанными государством.
Он отмечал, что «мы не видим ни справедливости, ни несправедливости, которые не меняют своей природы с изменением климата. Три градуса широты переворачивают всю юриспруденцию; меридиан решает правду. Фундаментальные законы меняются через несколько лет владения… странное правосудие, граничащее с рекой! Истина по эту сторону Пиренеев, заблуждение по другую». Другими словами, в царских указах и законах не было фиксированных, вечных или данных Богом; они были произвольными обычаями, навязанными государством.
Научная революция, хотя она и привела к многим важным прорывам и открытиям, была связана не только с самими открытиями, но и с культурным и интеллектуальным сдвигом. Например, это не сопровождалось заметными технологическими достижениями, за некоторыми исключениями, такими как телескопы. Наоборот, ее важность заключалась в том, что, во-первых, образованные люди пришли к выводу, что устройство Вселенной можно открыть путем исследования и экспериментов, а во-вторых, что сама Вселенная устроена по рациональному принципу. Эти выводы, в свою очередь, привели к монументальному движению философии и мысли восемнадцатого века: Просвещению.
Эти выводы, в свою очередь, привели к монументальному движению философии и мысли восемнадцатого века: Просвещению.
Цитаты изображений (Wikimedia Commons):
Геоцентрическая иллюстрация — общественное достояние
Наука и развитие — обзор
ScienceDirect
ЗарегистрироватьсяВойти
PlusДобавить в Mendeley
Маркус А. Инальвез, Уэсли М. Шрам, в Международной энциклопедии социальных и поведенческих наук (второе издание), 2015 г.
Введение
Ориентации макроуровня в социологии науки и в социологии международного развития и социальных изменений указывают на связь между наукой и развитием, поскольку национальный экономический рост и научный потенциал (т. инновации и научные открытия) эмпирически связаны друг с другом (Castells, 2000; Grammig, 2002; Malmgren et al., 2010; Schofer, 2004; Schofer et al., 2000). Например, производство научных знаний и технологическое развитие почти всегда монополизированы экономически сильными странами, такими как Большая семерка и страны Организации экономического сотрудничества и развития (Bradshaw et al. , 19).93; Кастельс, 2000 г.; Гереффи и Фонда, 1992 г.; Мигдаль, 1988; Сернау, 2012). Страны Африки (за исключением Южной Африки), Азии (за исключением Японии, Сингапура, Южной Кореи и Тайваня, а в последнее время — Китая и Индии) и Латинской Америки (за исключением Аргентины, Бразилии и Мексики). почти всегда были потребителями, но никогда производителями знаний, инноваций и технологий; бенефициарами программ и инициатив по передаче технологий, но редко благотворителями. Однако, когда знания, инновации и технологии перемещаются или экспортируются для перемещения с производственных площадок в развитых странах на испытательные полигоны в развивающихся странах, чаще всего эти пакеты западных знаний оказываются в значительной степени неэффективными, нечувствительными и несовместимыми с местных потребностей и слишком часто приводили к зависимому и неравномерному развитию стран на периферии глобальной экономической системы (Брэдшоу, 19).88; Грэммиг, 2002).
, 19).93; Кастельс, 2000 г.; Гереффи и Фонда, 1992 г.; Мигдаль, 1988; Сернау, 2012). Страны Африки (за исключением Южной Африки), Азии (за исключением Японии, Сингапура, Южной Кореи и Тайваня, а в последнее время — Китая и Индии) и Латинской Америки (за исключением Аргентины, Бразилии и Мексики). почти всегда были потребителями, но никогда производителями знаний, инноваций и технологий; бенефициарами программ и инициатив по передаче технологий, но редко благотворителями. Однако, когда знания, инновации и технологии перемещаются или экспортируются для перемещения с производственных площадок в развитых странах на испытательные полигоны в развивающихся странах, чаще всего эти пакеты западных знаний оказываются в значительной степени неэффективными, нечувствительными и несовместимыми с местных потребностей и слишком часто приводили к зависимому и неравномерному развитию стран на периферии глобальной экономической системы (Брэдшоу, 19).88; Грэммиг, 2002).
Данные макроуровня Программы развития ООН показывают, что в странах с высоким уровнем человеческого развития в среднем около 2335 ученых, техников и инженеров на миллион человек.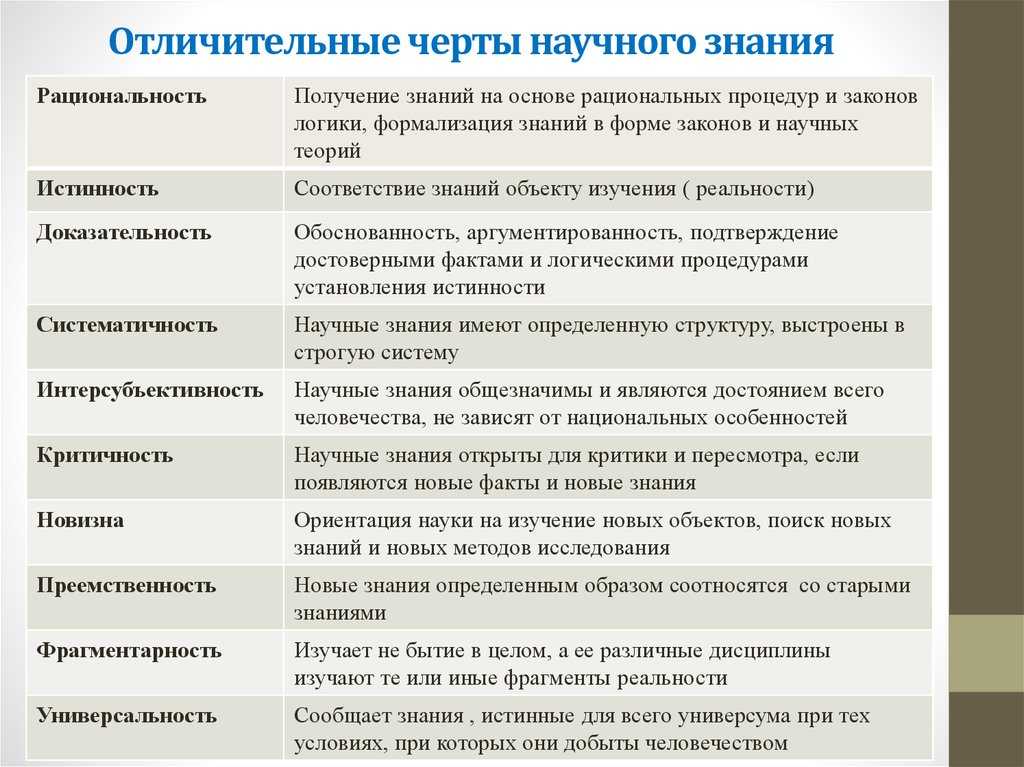 Страны со средним уровнем человеческого развития имеют в среднем около 588 ученых, техников и инженеров на миллион, в то время как оценки для стран с низким уровнем человеческого развития отсутствуют (UNDP, 2003). Косвенно эти цифры указывают на то, что наука и техника являются незаменимыми инструментами национальной конкурентоспособности и гегемонии. Действительно, география научно-технического потенциала оказывает большое влияние на центры и сети глобального общества (Castells, 2000). С целью выработки современного взгляда на науку и развитие, учитывающего изменения и сдвиги, вызванные новыми информационными и коммуникационными технологиями (ИКТ), в этой статье делается попытка объяснить, почему развивающиеся страны (т. е. страны с низким уровнем дохода или периферийные страны) настолько запутались в погоне за «западным способом познания», который называется наукой. Для достижения этой цели представлены несколько теоретических точек зрения: модернизация, мировые системы зависимости, институциональные, глобальные системы, постколониальная и реагентская.
Страны со средним уровнем человеческого развития имеют в среднем около 588 ученых, техников и инженеров на миллион, в то время как оценки для стран с низким уровнем человеческого развития отсутствуют (UNDP, 2003). Косвенно эти цифры указывают на то, что наука и техника являются незаменимыми инструментами национальной конкурентоспособности и гегемонии. Действительно, география научно-технического потенциала оказывает большое влияние на центры и сети глобального общества (Castells, 2000). С целью выработки современного взгляда на науку и развитие, учитывающего изменения и сдвиги, вызванные новыми информационными и коммуникационными технологиями (ИКТ), в этой статье делается попытка объяснить, почему развивающиеся страны (т. е. страны с низким уровнем дохода или периферийные страны) настолько запутались в погоне за «западным способом познания», который называется наукой. Для достижения этой цели представлены несколько теоретических точек зрения: модернизация, мировые системы зависимости, институциональные, глобальные системы, постколониальная и реагентская.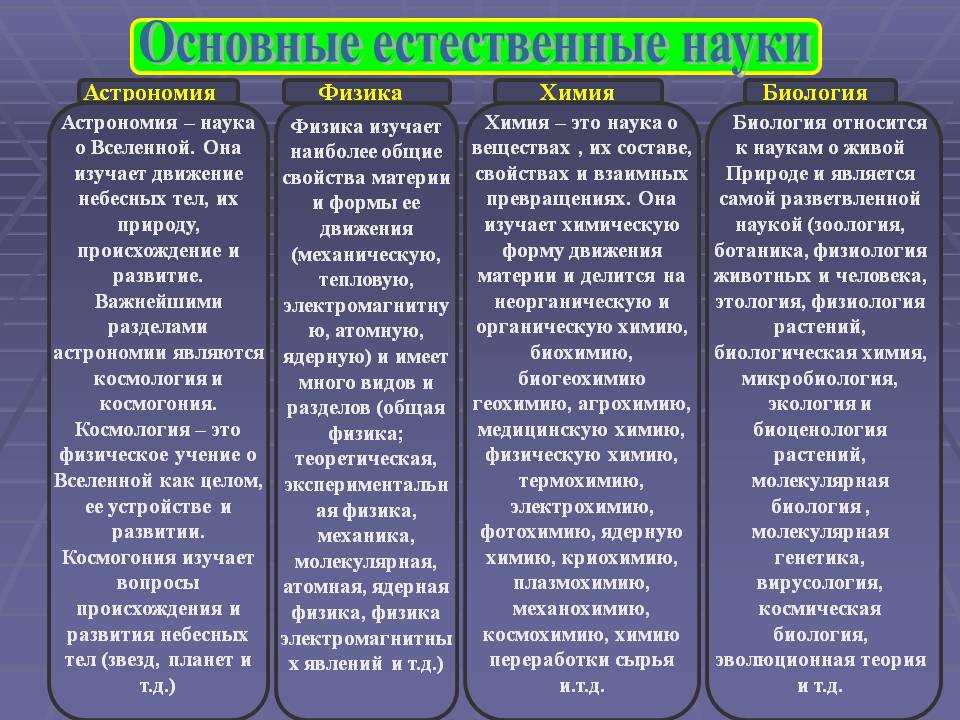 Цель состоит в том, чтобы показать, как каждая точка зрения рассматривает природу науки. Ближе к концу авторы предлагают точку зрения, учитывающую изменения и перекалибровку логики (т. 2001).
Цель состоит в том, чтобы показать, как каждая точка зрения рассматривает природу науки. Ближе к концу авторы предлагают точку зрения, учитывающую изменения и перекалибровку логики (т. 2001).
Просмотреть главуКнига покупок
Прочитать главу полностью
URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780080970868850205
W. Shrum, in International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences,200
2 Развитие
Концепция развития включает в себя несколько аспектов преобразования, в том числе создание богатства (то есть быстрый и устойчивый экономический рост) и его распределение таким образом, чтобы приносить пользу широкому кругу людей, а не небольшой элита (то есть сокращение социального неравенства). Культурная трансформация (признание и сопутствующая ценность местных традиций и наследия) также рассматривалась как важный аспект процесса с начала XIX века. 80-е годы. Существует общее мнение, что развитие во второй половине двадцатого века — это не просто повторение процесса индустриализации, который был характерен для Европы и Северной Америки в восемнадцатом и девятнадцатом веках.
80-е годы. Существует общее мнение, что развитие во второй половине двадцатого века — это не просто повторение процесса индустриализации, который был характерен для Европы и Северной Америки в восемнадцатом и девятнадцатом веках.
В исследованиях развития преобладают три теоретические точки зрения со многими вариациями: модернизация, зависимость и институциональная. Один из способов различения этих теорий заключается в их позиции относительно того, как отношения, внешние по отношению к стране, влияют на процесс изменений. Поскольку научные институты и заявления о знаниях имеют внешнее происхождение, каждая из этих точек зрения рассматривает науку и технологию как важную часть процесса развития с очень разными оценками затрат и выгод.
2.1 Модернизация
Самый старый подход, иногда называемый теорией модернизации, фокусировался на переходе от традиционного, сельского, сельскохозяйственного общества к современной, городской, индустриальной форме. Преобразования внутри страны (такие как формальное образование, рыночная экономика и демократические политические структуры) подчеркиваются, в то время как внешние отношения не имеют значения. Тем не менее, наука была исключением из этого правила, доступной для использования развивающимися странами посредством передачи технологий 9.0008 из западных источников. Эта идея основывалась на двух предположениях. Одной из них была «твердость» технологических артефактов — их предполагаемая независимость от людей и культуры, их кажущаяся способность производить определенные эффекты «несмотря ни на что». фундаментальная наука ведет к (б) практическим знаниям в области прикладной науки и, наконец, к (в) технологическим приложениям, таким как новые продукты. Оглядываясь назад, можно сказать, что оба эти предположения были упрощенными в любом контексте, но в развивающихся странах они были особенно проблематичными.
Тем не менее, наука была исключением из этого правила, доступной для использования развивающимися странами посредством передачи технологий 9.0008 из западных источников. Эта идея основывалась на двух предположениях. Одной из них была «твердость» технологических артефактов — их предполагаемая независимость от людей и культуры, их кажущаяся способность производить определенные эффекты «несмотря ни на что». фундаментальная наука ведет к (б) практическим знаниям в области прикладной науки и, наконец, к (в) технологическим приложениям, таким как новые продукты. Оглядываясь назад, можно сказать, что оба эти предположения были упрощенными в любом контексте, но в развивающихся странах они были особенно проблематичными.
Предположение о «жесткости» было заменено обобщением, что использование, эффекты и даже значения технологических артефактов зависят от контекста использования. Во-первых, эффективные технологии, от автомобилей до внутренней сантехники, обычно не существуют отдельно, а встроены в системы, обеспечивающие инфраструктуру (дороги, очистка сточных вод), которой часто не хватает.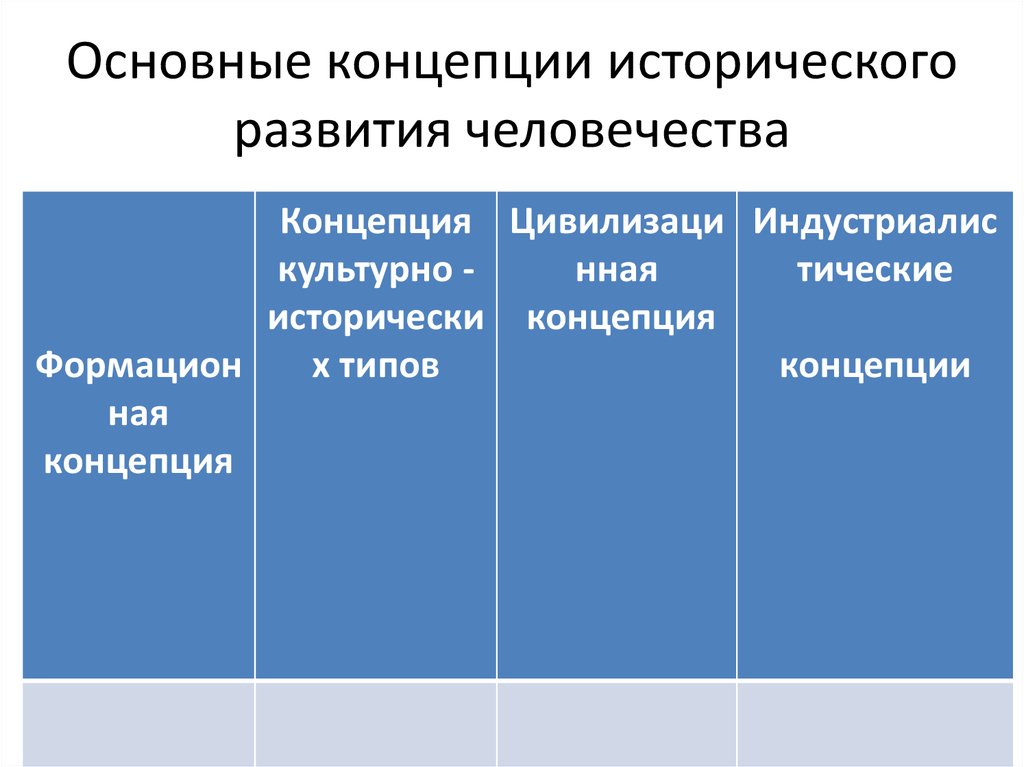 Во-вторых, предоставление таких артефактов, как здания и компьютеры, намного проще, чем их обслуживание, требующее как ресурсов, так и знаний. В-третьих, внедрение новой технологии влечет за собой множество последствий — положительных и отрицательных, краткосрочных и долгосрочных, экономических и экологических. Многие из этих последствий непредсказуемы, даже в тех редких случаях, когда предпринимаются попытки такого предвидения.
Во-вторых, предоставление таких артефактов, как здания и компьютеры, намного проще, чем их обслуживание, требующее как ресурсов, так и знаний. В-третьих, внедрение новой технологии влечет за собой множество последствий — положительных и отрицательных, краткосрочных и долгосрочных, экономических и экологических. Многие из этих последствий непредсказуемы, даже в тех редких случаях, когда предпринимаются попытки такого предвидения.
Пример с Зеленой революцией показателен. В 1960-х годах повсеместная нехватка продовольствия, рост населения и прогнозируемый голод в Индии побудили крупные международные фонды инвестировать усилия в исследования и передачу технологий для повышения производительности сельского хозяйства и модернизации технологий. В результате появились новые сорта кукурузы, пшеницы и риса. Эти современные сорта обещали более высокие урожаи и быстрое созревание, но не без других факторов и условий. Скорее, они были частью «пакета», для которого требовались удобрения, а также средства защиты растений, такие как пестициды, гербициды и фунгициды, а иногда даже ирригация и механизация. Кроме того, семена для этих сортов приходилось закупать каждый год заново.
Кроме того, семена для этих сортов приходилось закупать каждый год заново.
Последствия Зеленой революции до сих пор обсуждаются, и нет сомнений, что многие из них были положительными. Голод в Индии удалось предотвратить за счет повышения урожайности, но преимущества технологии требовали капитальных вложений, которые были доступны только более богатым фермерам. Внедрение новой технологии не только увеличило зависимость от поставщиков ресурсов, но и, как утверждалось, увеличило неравенство, нанеся ущерб мелкому фермеру — одному из предполагаемых бенефициаров технологии. Фактическая сложность результатов раскрывается одной из самых сложных оценок: современные сорта семян действительно достигают мелких фермеров, увеличивают занятость и снижают цены на продовольствие, но выгоды меньше, чем ожидалось, потому что бедняки все чаще становятся безземельными рабочими или почти безземельными фермами. рабочие (Липтон и Лонгхерст 1989).
Что важно для вопроса об отношениях между наукой и развитием, так это то, что продукты и практика Зеленой революции были технологиями, основанными на исследованиях.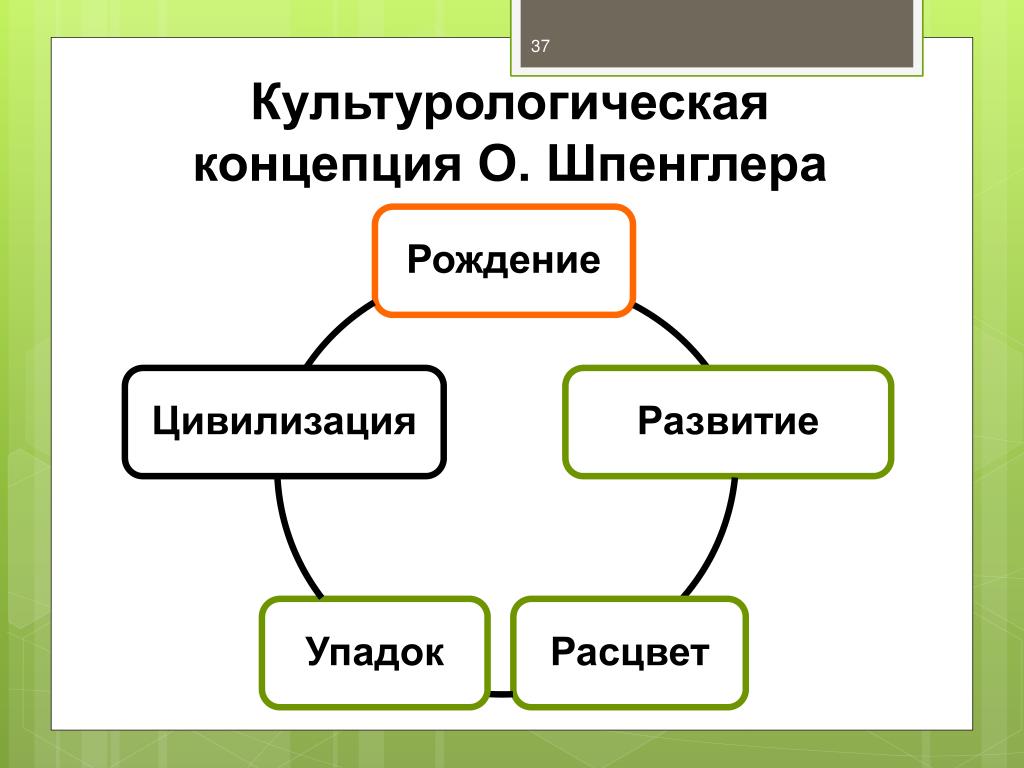 Эта технология часто разрабатывалась в международных исследовательских институтах, финансируемых многосторонними агентствами, такими как Всемирный банк, и двусторонними донорами, такими как Агентство США по международному развитию. Поскольку совокупные ресурсы этих доноров превосходят ресурсы многих бедных стран, их приоритеты в области развития и исследований оказывают широкое глобальное влияние на природу науки в целях развития. Самая крупная и наиболее заметная из этих организаций образует глобальную исследовательскую сеть, Консультативную группу по международным сельскохозяйственным исследованиям (КГМСХИ), которая выросла с 4 до 13 центров в течение XIX века.70-х годов, поскольку поддержка доноров увеличилась в четыре раза. Влияние этой сети доноров и международных агентств стало очевидным в начале 1990-х годов, когда забота об окружающей среде привела к акценту на вопросах «устойчивого развития». Это привело к изменению приоритетов КГМСХИ, поскольку прежний акцент на продуктивности сельского хозяйства сместился на относительно более сложный вопрос управления природными ресурсами.
Эта технология часто разрабатывалась в международных исследовательских институтах, финансируемых многосторонними агентствами, такими как Всемирный банк, и двусторонними донорами, такими как Агентство США по международному развитию. Поскольку совокупные ресурсы этих доноров превосходят ресурсы многих бедных стран, их приоритеты в области развития и исследований оказывают широкое глобальное влияние на природу науки в целях развития. Самая крупная и наиболее заметная из этих организаций образует глобальную исследовательскую сеть, Консультативную группу по международным сельскохозяйственным исследованиям (КГМСХИ), которая выросла с 4 до 13 центров в течение XIX века.70-х годов, поскольку поддержка доноров увеличилась в четыре раза. Влияние этой сети доноров и международных агентств стало очевидным в начале 1990-х годов, когда забота об окружающей среде привела к акценту на вопросах «устойчивого развития». Это привело к изменению приоритетов КГМСХИ, поскольку прежний акцент на продуктивности сельского хозяйства сместился на относительно более сложный вопрос управления природными ресурсами.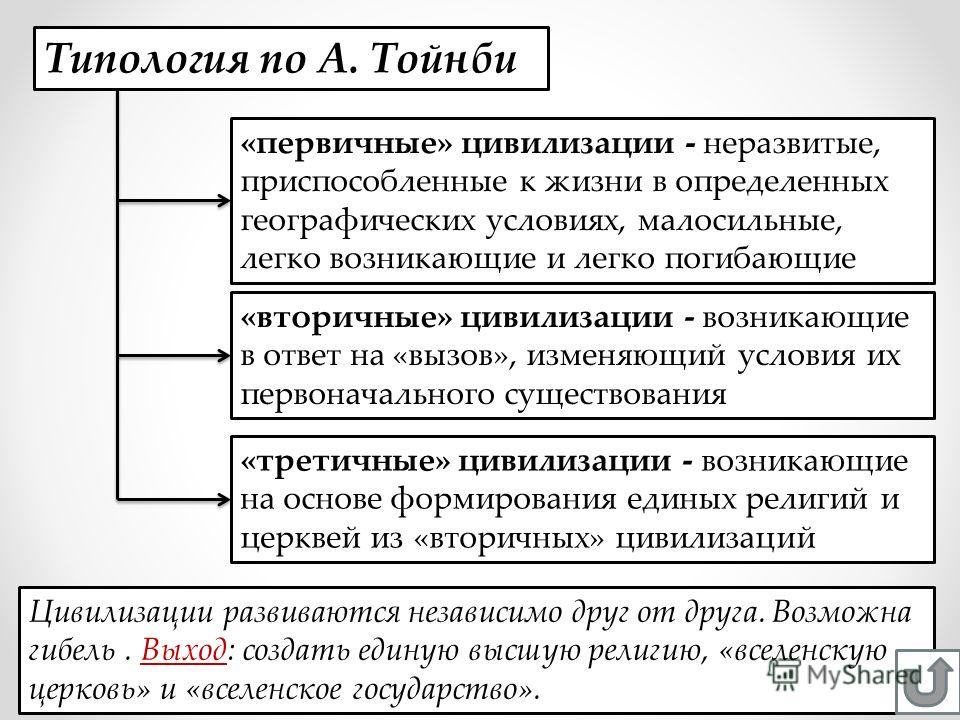
2.2 Зависимость
Теория модернизации делала упор на внутренние факторы, делая исключение для науки. Теория зависимости и ее близкая родственница, теория мировых систем, подчеркивали роль внешние связи в процессе развития. Отношения с развитыми странами и особенно с многонациональными корпорациями рассматривались как барьеры. Экономический рост контролировался силами вне национальной экономики. Теория зависимости сосредоточивалась на отдельных странах, их роли в качестве поставщиков сырья, дешевой рабочей силы и рынков для дорогих промышленных товаров из промышленно развитых стран. Неравные отношения обмена между развитыми и развивающимися странами рассматривались как фактор, способствующий слабому экономическому росту. Теория мировых систем взяла более широкую перспективу, исследуя более широкую сеть взаимоотношений между промышленно развитыми странами «ядра», обедневшими «периферийными» странами и группой «полупериферийных» стран, чтобы показать, как некоторые из них находятся в неблагоприятном положении из-за своего положения в глобальном масштабе.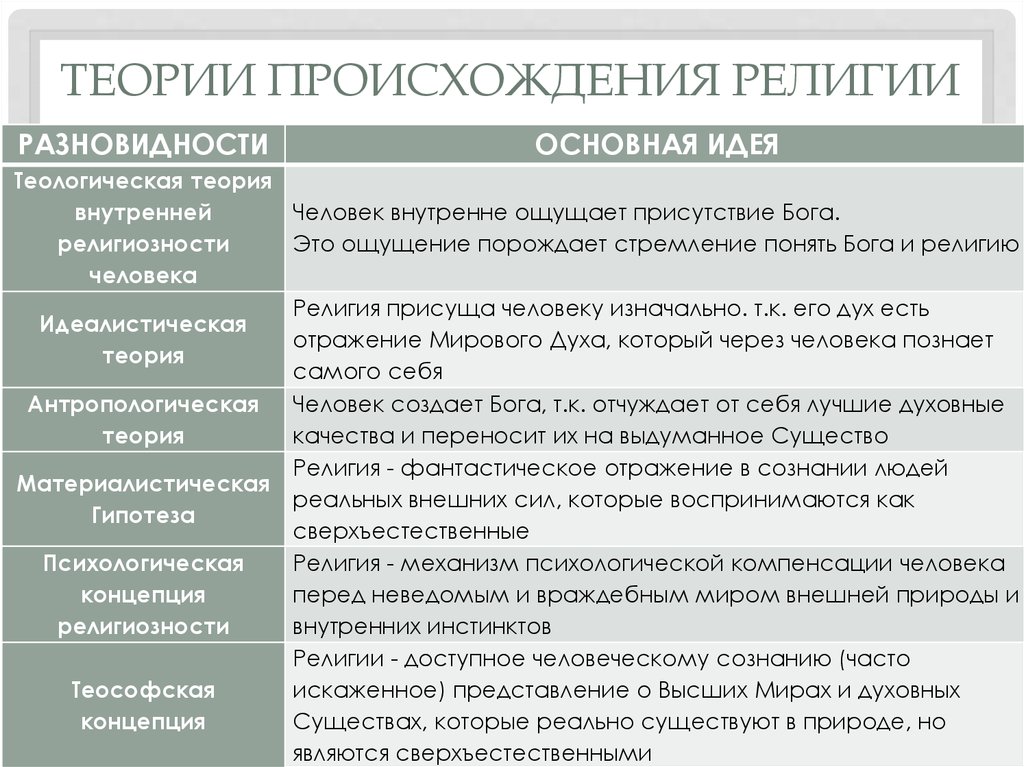 система. Из-за своей чрезмерной специализации на небольшом количестве товаров на экспорт, неконтролируемого экономического влияния внешних организаций и политической власти, которой обладают местные агенты капитала, страны на периферии глобальной капиталистической системы по-прежнему характеризуются высоким уровнем экономического неравенства. , низкий уровень демократии и замедленный экономический рост.
система. Из-за своей чрезмерной специализации на небольшом количестве товаров на экспорт, неконтролируемого экономического влияния внешних организаций и политической власти, которой обладают местные агенты капитала, страны на периферии глобальной капиталистической системы по-прежнему характеризуются высоким уровнем экономического неравенства. , низкий уровень демократии и замедленный экономический рост.
Что важно в счете зависимости, так это то, что наука рассматривается не с точки зрения благожелательности, а скорее как один из группы институциональных процессов, способствующих отсталости. Как указывалось выше, исследования сильно сконцентрированы в промышленно развитых странах. Теория зависимости добавляет к этому представление о том, что большая часть исследований также проводится в их интересах, а проблемы и технологические приложения выбираются для продвижения интересов ядра. Литература по передаче технологий также рассматривается в ином свете. Разработка новых технологий с целью получения прибыли связана с внедрением и распространением промышленной продукции, которая часто не соответствует местным потребностям и условиям, что служит для отвлечения скудных ресурсов от более важных проектов развития. Состояние зависимости делает технологический выбор спорным.
Состояние зависимости делает технологический выбор спорным.
Эта забота о выборе, связанная с аргументом, что зарубежная технология часто навязывается развивающимся странам, а не ими отбирается , проявляется во многих формах. В 1970-х годах она стояла за движением, известным как «промежуточная» технология, основанным на работах Э. Ф. Шумахера, которое продвигало использование мелкосерийных, трудоемких технологий, которые производились на месте, а не сложные, импортные промышленные товары. Эти «подходящие» технологии могут быть импортированы из-за границы, но они будут более старыми, простыми, менее механизированными и разработаны с учетом местных потребностей. Общим для этих точек зрения был критический подход к внедрению технологий из-за рубежа.
К концу 1980-х и 1990-х стали проявляться еще более радикальные позиции, рассматривающие западную науку как механизм господства. Эти аргументы были более тесно связаны с экологической и феминистской мыслью, чем с марксистской ориентацией теории зависимости. Такие писатели, как Вандана Шива, предположили, что западная наука была редукционистской и патриархальной по своей ориентации, ведущей к «эпистемическому насилию» через разделение субъекта и объекта в процессе наблюдения и экспериментирования (19).91). «Аборигенные знания» и «незападная наука» предлагались как целостные и устойчивые альтернативы научным институтам и заявлениям о знаниях. Такие взгляды имели организационную основу в неправительственных организациях (НПО), которые в этот период получали все большую долю помощи в целях развития из-за недоверия доноров к репрессивным и авторитарным правительствам в развивающихся регионах. НПО были активными сторонниками местных сообществ в области здравоохранения, развития сообществ и занятости женщин, даже участвуя в исследованиях в области альтернативного сельского хозяйства (Фаррингтон и Беббингтон 19).93).
Такие писатели, как Вандана Шива, предположили, что западная наука была редукционистской и патриархальной по своей ориентации, ведущей к «эпистемическому насилию» через разделение субъекта и объекта в процессе наблюдения и экспериментирования (19).91). «Аборигенные знания» и «незападная наука» предлагались как целостные и устойчивые альтернативы научным институтам и заявлениям о знаниях. Такие взгляды имели организационную основу в неправительственных организациях (НПО), которые в этот период получали все большую долю помощи в целях развития из-за недоверия доноров к репрессивным и авторитарным правительствам в развивающихся регионах. НПО были активными сторонниками местных сообществ в области здравоохранения, развития сообществ и занятости женщин, даже участвуя в исследованиях в области альтернативного сельского хозяйства (Фаррингтон и Беббингтон 19).93).
2.3 Институциональная теория
Институциональная теория стремится объяснить, почему нации привержены научным институтам, а также какие формы они принимают.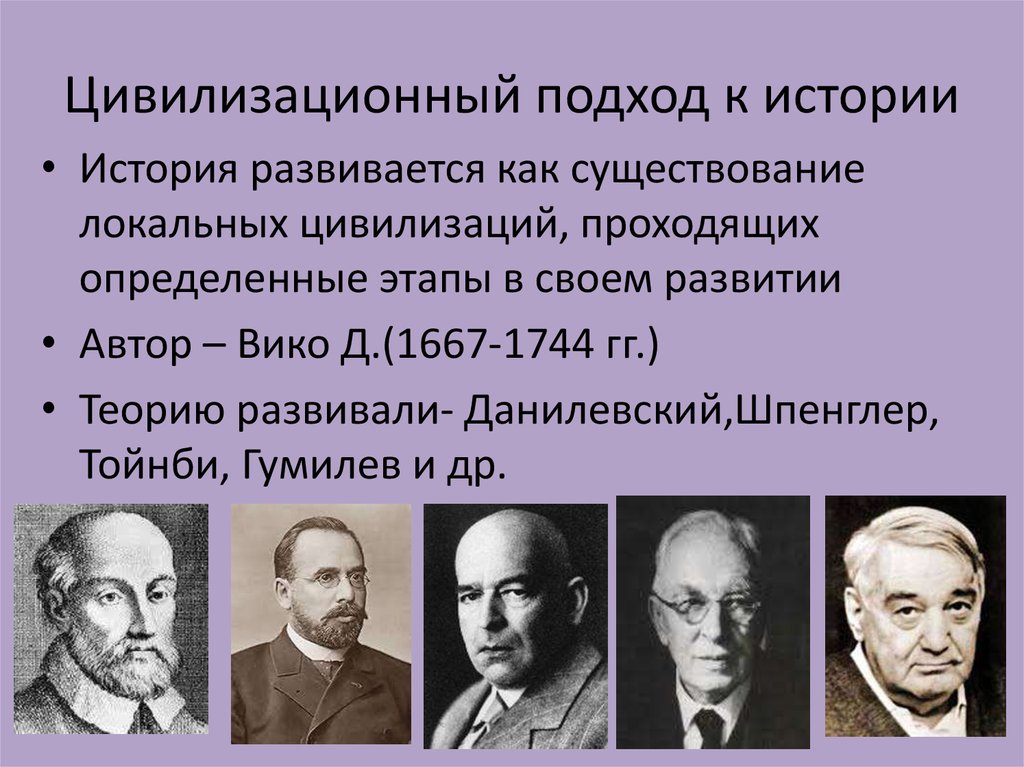 Центральная тема заключается в том, что организационные структуры, разработанные в промышленно развитых странах, рассматриваются политиками, донорами и другими государствами как признаки прогресса на пути к современному институциональному развитию и, следовательно, заслуживают финансовой поддержки. Вне зависимости от положительных или отрицательных последствий их деятельности введение и сохранение определенных форм в высшем образовании и правительстве служит для информирования об этом обязательстве. Институциональная теория дает представление о росте и структуре академического и государственного исследовательского секторов, поскольку успешные организации в промышленно развитых странах действуют как модели, далекие от своего первоначального контекста.
Центральная тема заключается в том, что организационные структуры, разработанные в промышленно развитых странах, рассматриваются политиками, донорами и другими государствами как признаки прогресса на пути к современному институциональному развитию и, следовательно, заслуживают финансовой поддержки. Вне зависимости от положительных или отрицательных последствий их деятельности введение и сохранение определенных форм в высшем образовании и правительстве служит для информирования об этом обязательстве. Институциональная теория дает представление о росте и структуре академического и государственного исследовательского секторов, поскольку успешные организации в промышленно развитых странах действуют как модели, далекие от своего первоначального контекста.
Академические отделы состоят из исследователей, сгруппированных по предметам, каждый из которых относительно свободен в выборе исследовательских проектов. Они имеют наиболее близкое сходство с корневым понятием науки, введенным в начале этой статьи. Но исследования требуют времени и ресурсов. В таких регионах, как страны Африки к югу от Сахары, лаборатории и полевые исследования плохо финансируются, если вообще финансируются, поскольку многие учреждения едва могут позволить себе платить зарплату. Профессора преподают, консультируют и часто выполняют другую работу. Исследования проводятся как второстепенная деятельность, и профессиональные контакты с другими учеными в Европе и США немногочисленны.
Но исследования требуют времени и ресурсов. В таких регионах, как страны Африки к югу от Сахары, лаборатории и полевые исследования плохо финансируются, если вообще финансируются, поскольку многие учреждения едва могут позволить себе платить зарплату. Профессора преподают, консультируют и часто выполняют другую работу. Исследования проводятся как второстепенная деятельность, и профессиональные контакты с другими учеными в Европе и США немногочисленны.
Не менее важными для научного учреждения являются государственные научно-исследовательские институты. Эти организации являются государственными агентствами, им поручено проводить исследования, имеющие отношение к развитию, причем здравоохранение и сельское хозяйство являются двумя наиболее важными областями содержания. Они связаны с министерствами, советами и международными агентствами, а также с системами (такими как службы распространения знаний в сельском хозяйстве), которые предоставляют технологии пользователям — опять же на основе модели из развитого мира.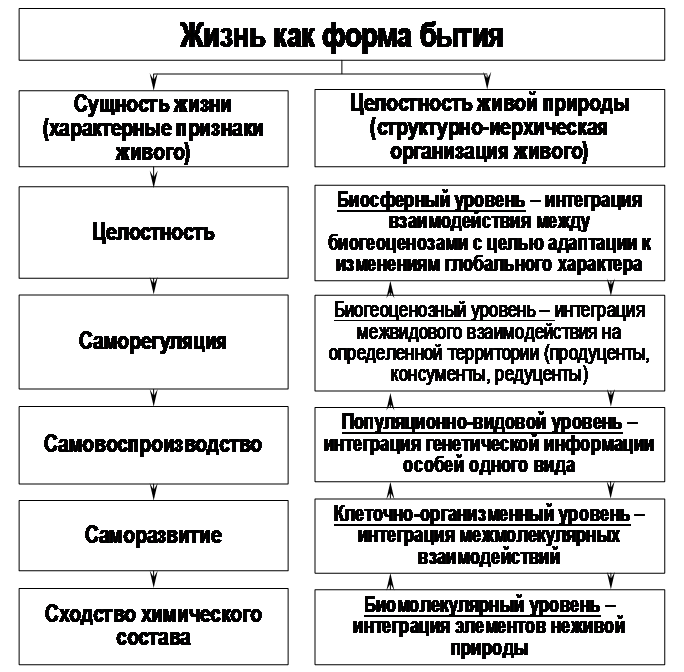
Просмотр главыКнига покупок
Прочитать главу полностью
URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B008043076703165X
Эмили Дж. Озер, Достижения в области детского развития и поведения, 2016
3 3 3 Y. Озер. и Улучшение условий развития Еще одним важным аспектом, в котором YPAR актуален для науки о справедливости и развитии, является его потенциал для улучшения поддержки развития и качества сообщества и школьных условий, в которых развиваются молодые люди. В то время как большая часть науки о развитии исторически была сосредоточена на семьях как на контекстах развития, за последние два десятилетия было проведено обширное исследование того, как другие контексты развития, такие как школы, районы и внешкольные программы, влияют на развитие молодежи (Eccles & Gootman, 2002). . Районы влияют на развитие по целому ряду направлений, таких как нормы и коллективная эффективность в отношении социального надзора за молодежью; отношения, такие как сети поддержки, доступные для родителей; и наличие высококачественного государственного образования, социальных и развлекательных мероприятий, ухода за детьми, медицинских учреждений и возможностей трудоустройства (Leventhal & Brooks-Gunn, 2000). Ключевые характеристики условий, способствующих позитивному развитию молодежи, включая заботливые и поддерживающие отношения, позитивные социальные нормы, физическую и эмоциональную безопасность, возможности для приобретения новых навыков, соответствующую развитию структуру и высокие ожидания в отношении поведения, возможности сопричастности и поддержку эффективности и имеет значение (Eccles & Gootman, 2002). Что касается его потенциальной силы для улучшения условий для развития молодежи, YPAR особенно хорошо подходит для укрепления: (а) развития отношений поддержки и сотрудничества между молодежью и взрослыми; (б) возможности для развития новых навыков исследования, общения и групповой работы; (c) возможности для принадлежности; и (d) поддержка эффективности и «значительности» в отношении значимого участия или ролей в обстановке. Имеются важные примеры использования YPAR для улучшения организаций, работающих с молодежью, с известными случаями, такими как институциональная интеграция оценки, проводимой молодежью, в практику таких агентств, как Департамент по делам детей, молодежи и их семей Сан-Франциско (Youth Impact , 2001) или некоммерческие организации, такие как Girls, Inc. (Chen, Weiss, & Nicholson, 2010). Тем не менее, образование K-12 было основным объектом исследований и действий YPAR в США, как описано в наших примерах, выделенных в этой главе, и в примерах других исследовательских групп (например, Cammarota & Fine, 2007; Kirshner, 2007). . Это уместно, поскольку образование K-12 является не только критически важной средой развития, в которой молодежь проводит большую часть времени бодрствования, но и системой, чреватой безудержным неравенством по признаку расы и экономического класса. Социально-экологические взгляды на школы в общественной психологии и образовании обеспечивают важную структуру школьной среды как среды с разнообразными доступными ролями, экологическими нишами и ролевыми требованиями (Sarason, 1996; Trickett, Barone, & Buchanan, 1996), а также продемонстрировано Баркером и Гампом (1964) в исследовании малых и больших школ по сравнению с маленькими школами в отношении значимых ролей для учащихся, которые способствуют развитию компетентности. Ключевым конструктом развития, который дополнительно информирует исследования образования YPAR и K-12, является «несоответствие развития»: несмотря на растущую способность и стремление молодых подростков к автономии по мере прохождения ими образовательной системы, они на самом деле видят меньше возможностей для участия в принятии решений и правил при переходе в среднюю школу (Eccles, Midgley, Wigfield, & Buchanan, 1993; Мидгли и Фельдлауфер, 1987; Симмонс, 1987). В ходе предыдущего исследования мы провели углубленное мультиметодическое исследование того, как YPAR может повлиять на доступные роли в школьной среде и потенциально помочь устранить несоответствие в развитии, предоставляя возможности для повышения эффективности и значимости в государственных средних школах (Ozer & Douglas, 2013; Озер и Райт, 2012). В дополнение к количественным результатам, в которых молодежь, участвовавшая в YPAR (по сравнению с обычным обучением сверстников), сообщила о более высокой мотивации влиять на свои школы и сообщества, мы также провели качественное исследование, чтобы изучить, в какой степени мы нашли доказательства того, что YPAR влияет на возможности учащихся для важные роли в управлении школой. Основываясь на нашем анализе интервью с учащимися, школьным персоналом и администраторами, мы определили способы, с помощью которых YPAR дополняла или укрепляла устойчивые «голосовые возможности» в двух разных школьных местах, диверсифицировала типы учащихся, имеющих доступ к школьным администраторам (например, не только отличники в студенческом совете) и расширить круг вопросов, по которым студенты внесли значимый вклад. В средних школах США типично, когда учащиеся имеют возможность взвесить решения, касающиеся конкретных внеклассных или «духовных» мероприятий, таких как специальные дни переодевания или танцы, но учащиеся могут участвовать в основных вопросах образования и справедливости в новинку. такие как рассмотренные ранее случаи студентов-исследователей, которые наблюдали и консультировались с учителями в «Клубе лучших практик» или изучали, как увеличить разнообразие в академической школе округа. Учащиеся на других объектах YPAR в наших исследованиях занимались другими вопросами справедливости, такими как домогательства по признаку пола со стороны других учащихся (например, неуместные прикосновения и поддразнивания в коридорах) и способы уменьшения стигматизации использования преимуществ бесплатного или льготного обучения. платный школьный обед. Как отмечалось ранее, в литературе по YPAR есть и другие важные примеры ориентированного на справедливость YPAR, проведенного другими исследовательскими группами (например, Cammarota & Romero, 2011). Просмотреть главуКнига покупок Прочитать всю главу URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0065240715000531 C. Vogel, in International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 2001 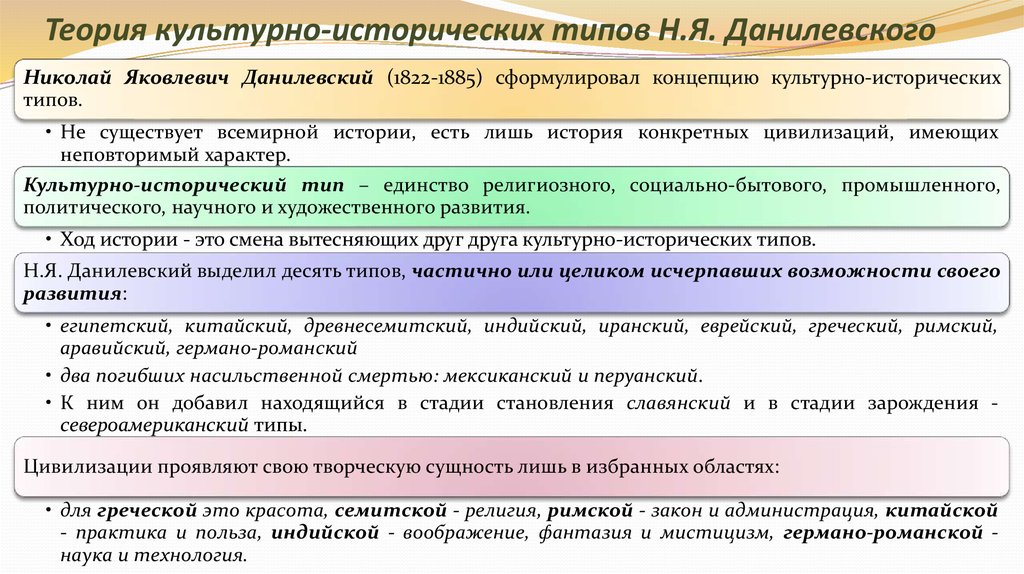 Помимо районов, общественные среды, такие как школы и общественные центры, влияют на людей посредством обеспечения инструментальных потребностей, формирования личности и ролей людей, социального капитала, норм и стресса (Leventhal & Brooks-Gunn, 2000; Sharkey, 2013; Shinn & Тухи, 2003). См. Озер и Руссо (в печати) для анализа того, как на человеческое развитие влияют школа, соседство и более широкие социальные контексты на протяжении всей жизни.
Помимо районов, общественные среды, такие как школы и общественные центры, влияют на людей посредством обеспечения инструментальных потребностей, формирования личности и ролей людей, социального капитала, норм и стресса (Leventhal & Brooks-Gunn, 2000; Sharkey, 2013; Shinn & Тухи, 2003). См. Озер и Руссо (в печати) для анализа того, как на человеческое развитие влияют школа, соседство и более широкие социальные контексты на протяжении всей жизни.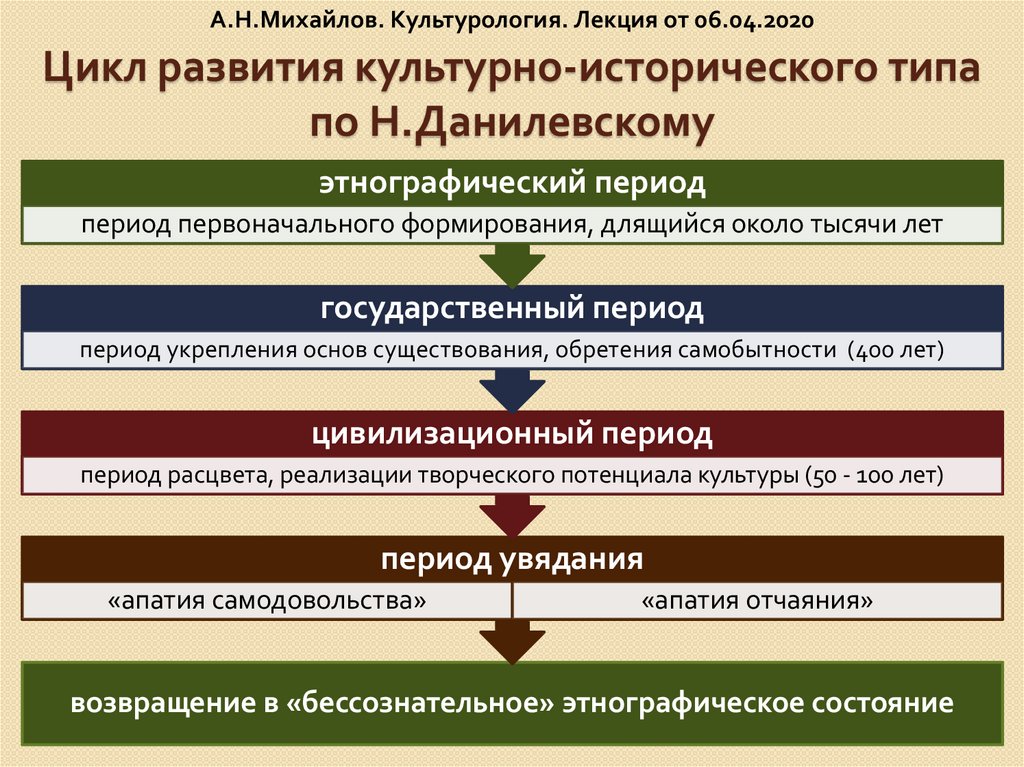 Что касается развития навыков, в недавней работе мы отмечаем сильное совпадение видов исследовательских навыков, продвигаемых в YPAR, с теми, которые выделяются в стандартах Common Core, которые в настоящее время внедряются в Соединенных Штатах (Kornbluh, Ozer, Kirshner, & Allen). , под давлением).
Что касается развития навыков, в недавней работе мы отмечаем сильное совпадение видов исследовательских навыков, продвигаемых в YPAR, с теми, которые выделяются в стандартах Common Core, которые в настоящее время внедряются в Соединенных Штатах (Kornbluh, Ozer, Kirshner, & Allen). , под давлением).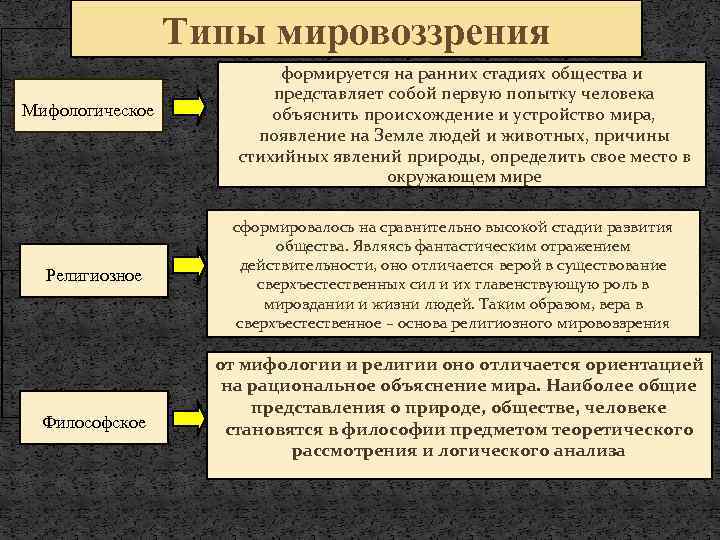 Это неравенство включает в себя неравенство в базовой безопасности и уровне текучести учителей, обращающихся к образовательным ресурсам и предложениям, таким как Advanced Placement и курсы повышения квалификации, а также непропорциональное размещение в специальном образовании и дисциплинарные меры в отношении цветной молодежи (Gregory & Weinstein, 2008).
Это неравенство включает в себя неравенство в базовой безопасности и уровне текучести учителей, обращающихся к образовательным ресурсам и предложениям, таким как Advanced Placement и курсы повышения квалификации, а также непропорциональное размещение в специальном образовании и дисциплинарные меры в отношении цветной молодежи (Gregory & Weinstein, 2008).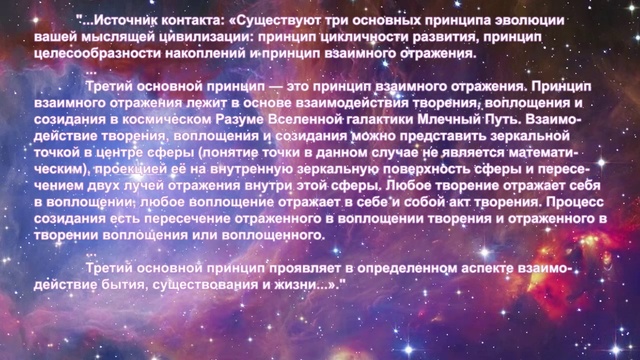
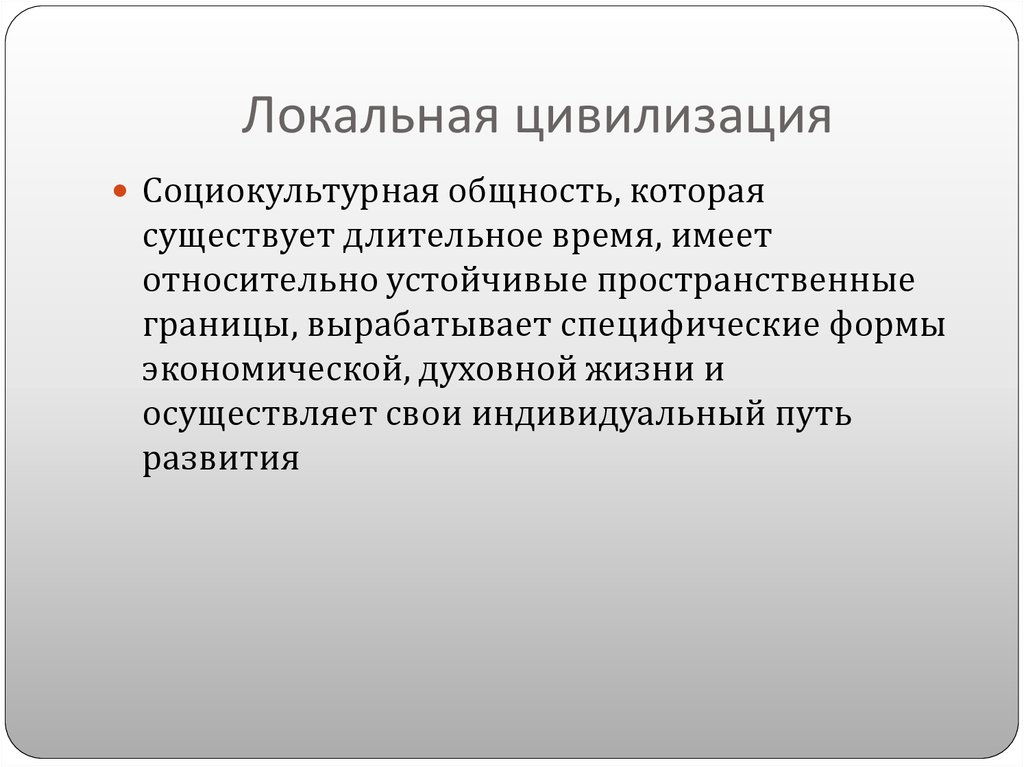
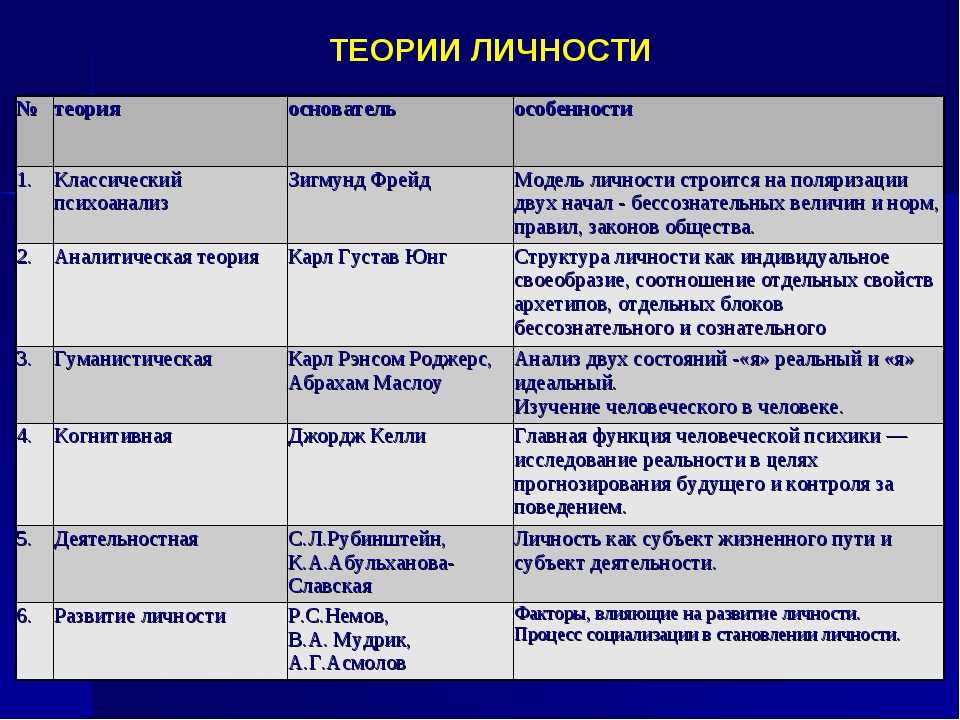
4 Текущее и будущее потенциальное использование экологической уязвимости
Несколько примеров того, как экологическая уязвимость может использоваться для обоснования планирования, научных исследований и разработок, можно найти в ряде стран, включая страны Африки, Южной Америки и Южная Азия. Например, в Мозамбике правительство, НПО и различные другие организации (например, Всемирная продовольственная программа Организации Объединенных Наций) использовали подход анализа и картирования уязвимости (VAM) для разграничения и выявления уязвимых областей и групп. С помощью географических информационных систем и других методов картирования были выявлены районы, подверженные риску наводнений, нехватки осадков, бедной растительности и проблемы с наличием продовольствия и доступом к нему.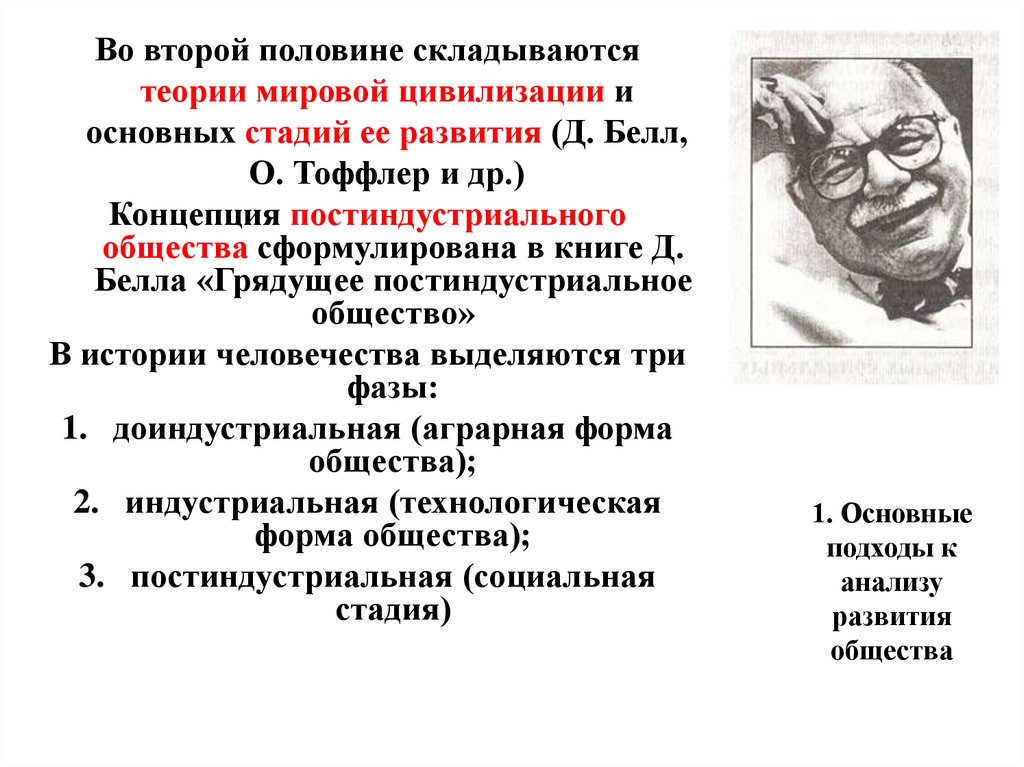 Эта информация полезна не только для определения уязвимых областей, но также может быть использована для информирования и помощи в целенаправленных усилиях политиков и других организаций, которые могут участвовать в работе по развитию.
Эта информация полезна не только для определения уязвимых областей, но также может быть использована для информирования и помощи в целенаправленных усилиях политиков и других организаций, которые могут участвовать в работе по развитию.
В Южной Азии сети по уменьшению опасности стихийных бедствий и рисков, такие как Duryog Nivaran, использовали экологическую уязвимость в качестве концепции и основы для своей работы по смягчению последствий стихийных бедствий в регионе (Ariyabandu 1999). Эта сеть продемонстрировала, что экологическая уязвимость и смягчение последствий связаны не только с пониманием технологических факторов, но и с повышенной чувствительностью к тому, как местные сообщества использовали свой опыт для повышения своей устойчивости к опасным экологическим ситуациям. Тщательное изучение роли пола в повышении или снижении уязвимости, например, выявило ту роль, которую женщины играют в подготовке и смягчении последствий стихийных бедствий, таких как засухи и циклоны. Делясь своими знаниями и опытом, женщины помогают друг другу справляться с трудностями повседневной жизни, а также укрепляются в периоды потрясений, связанных с экстремальными погодными явлениями.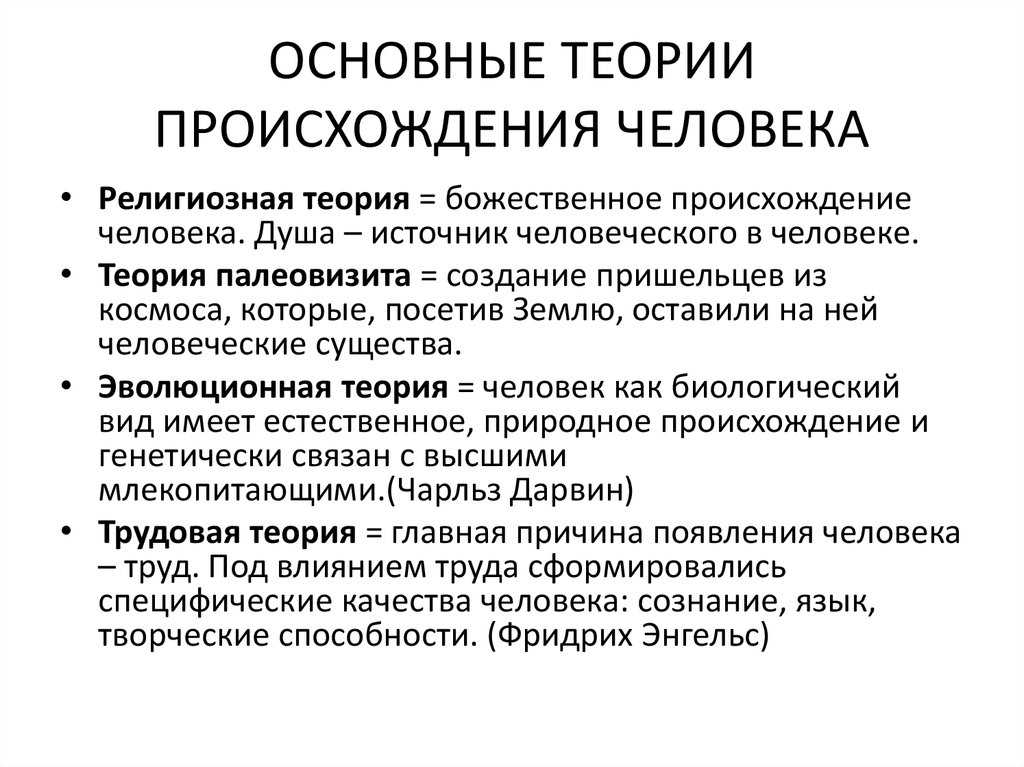
Просмотр книги Глава покупки
Прочтите полную главу
URL: https://www.sciendirect.com/science/article/pii/b0080430767041516
J. Рандрев.
Антименеджериализм
Приверженцев постразвития интересуют не альтернативные подходы развития, а альтернативы развитию. Альтернативное развитие отвергается, потому что оно отражает то же мировоззрение, которое породило господствующую концепцию науки и развития. Альтернативная разработка еще более одиозна, чем основная разработка, из-за своего дружелюбного внешнего вида. По словам Густаво Эстевы, альтернативное развитие — это дезодорант, которым можно скрыть зловоние развития.
Антименеджеризм и дихотомическое мышление могут объяснить антагонизм к альтернативному развитию. Мышление развития пропитано социальной инженерией и стремлением формировать экономику и общество, что делает его интервенционистской и управленческой дисциплиной. Это включает в себя указание другим людям, что делать во имя прогресса, модернизации, национального строительства, мобилизации, устойчивого развития, прав человека, борьбы с бедностью, расширения прав и возможностей и участия (управление с участием). Через постразвитие проходит антиавторитарная чувствительность, отвращение к контролю и, возможно, анархистские черты. Постструктурализм, вдохновленный Мишелем Фуко, также включает в себя «антиполитическую» чувствительность, как скептицизм позднего модерна. Если публичная сфера строится посредством дискурса и если любой дискурс является притязанием на истину и, следовательно, притязанием на власть, за этим может последовать политический агностицизм. Это также возникает из озабоченности автономией, проблемой репрезентации и недостойным представлением «других».
Это включает в себя указание другим людям, что делать во имя прогресса, модернизации, национального строительства, мобилизации, устойчивого развития, прав человека, борьбы с бедностью, расширения прав и возможностей и участия (управление с участием). Через постразвитие проходит антиавторитарная чувствительность, отвращение к контролю и, возможно, анархистские черты. Постструктурализм, вдохновленный Мишелем Фуко, также включает в себя «антиполитическую» чувствительность, как скептицизм позднего модерна. Если публичная сфера строится посредством дискурса и если любой дискурс является притязанием на истину и, следовательно, притязанием на власть, за этим может последовать политический агностицизм. Это также возникает из озабоченности автономией, проблемой репрезентации и недостойным представлением «других».
Еще одно фундаментальное возражение против господствующего развития состоит в том, что оно по своей сути антидемократично. Рассмотрение политики экономического и социального развития через призму демократизации достаточно уместно в отношении иностранной помощи и азиатских авторитарных развивающихся государств.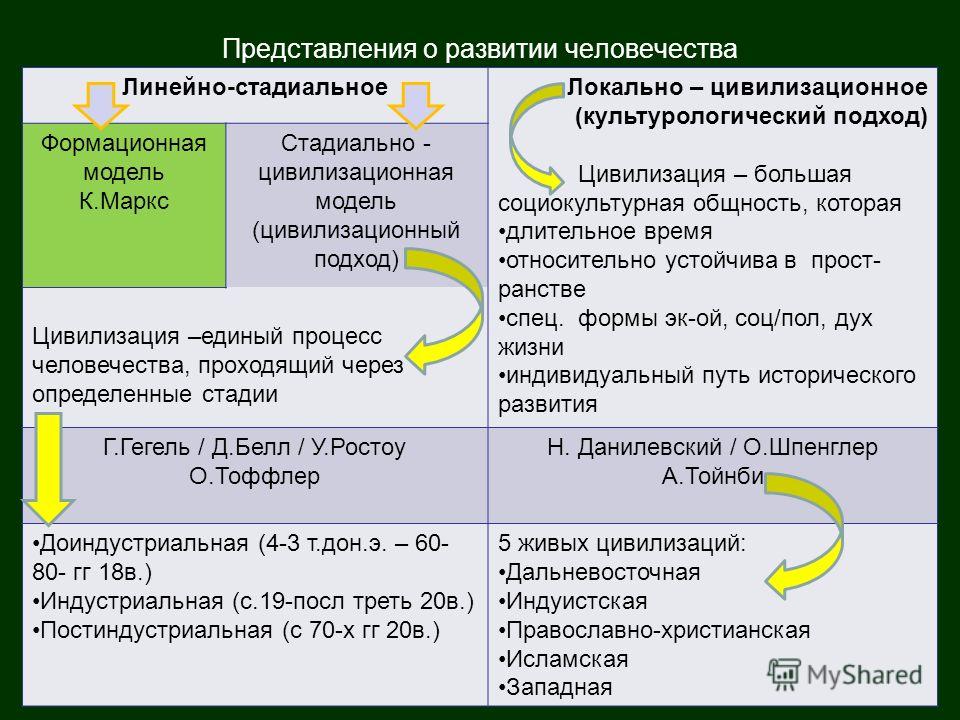 В менеджеризме развития участвуют не только государства, но и международные институты, доноры и «новый менеджеризм» неправительственных организаций (НПО), которым не хватает смирения. В постразвитии существует подозрение в отношении альтернативного развития как «альтернативного менеджеризма», что имеет смысл, учитывая опыт многих НПО и их донорское вмешательство в развивающихся странах. Так что делать? Один ответ — ничто. Однако ничегонеделание сводится к одобрению статус-кво. Под заголовком «пост» мышления это на самом деле глубоко консервативно.
В менеджеризме развития участвуют не только государства, но и международные институты, доноры и «новый менеджеризм» неправительственных организаций (НПО), которым не хватает смирения. В постразвитии существует подозрение в отношении альтернативного развития как «альтернативного менеджеризма», что имеет смысл, учитывая опыт многих НПО и их донорское вмешательство в развивающихся странах. Так что делать? Один ответ — ничто. Однако ничегонеделание сводится к одобрению статус-кво. Под заголовком «пост» мышления это на самом деле глубоко консервативно.
Просмотреть главуКнига покупок
Прочитать главу полностью
URL-адрес: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B978008044
01152
Human Encyclography, Janpedon Nederveen Pietersia, in International Edition. 2020
Антименеджериализм
Приверженцев постразвития интересуют не альтернативные подходы к развитию, а альтернативы развития с по .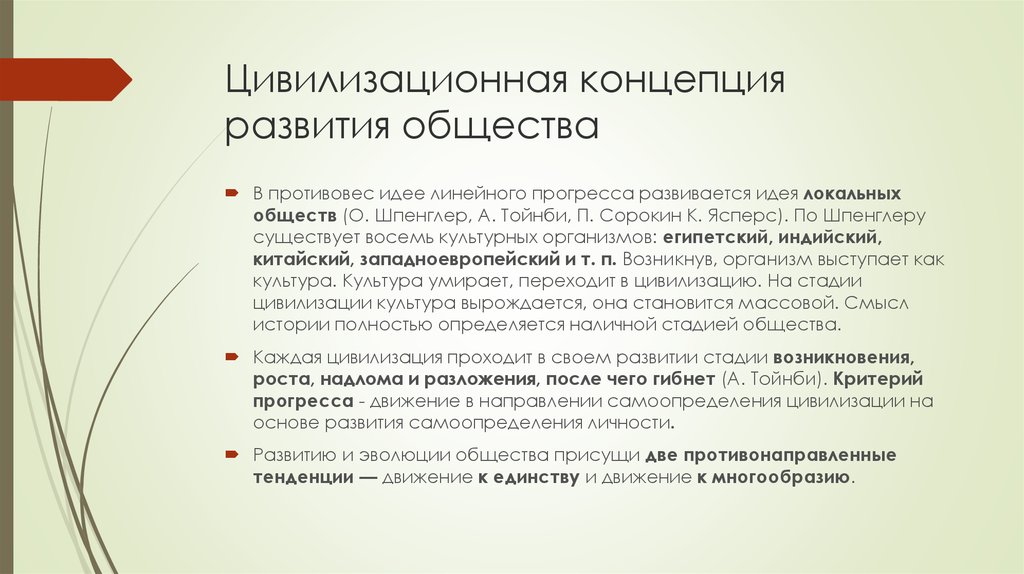 Альтернативное развитие отвергается, потому что оно отражает то же мировоззрение, которое породило господствующую концепцию науки и развития. Альтернативная разработка еще более одиозна, чем основная разработка, из-за своего дружелюбного внешнего вида. По словам Густаво Эстевы, альтернативное развитие — это дезодорант, которым можно скрыть зловоние развития.
Альтернативное развитие отвергается, потому что оно отражает то же мировоззрение, которое породило господствующую концепцию науки и развития. Альтернативная разработка еще более одиозна, чем основная разработка, из-за своего дружелюбного внешнего вида. По словам Густаво Эстевы, альтернативное развитие — это дезодорант, которым можно скрыть зловоние развития.
Антименеджеризм и дихотомическое мышление могут объяснить антагонизм к альтернативному развитию. Мышление развития пропитано социальной инженерией и стремлением формировать экономику и общество, что делает его интервенционистской и управленческой дисциплиной. Это включает в себя указание другим людям, что делать во имя прогресса, модернизации, национального строительства, мобилизации, устойчивого развития, прав человека, борьбы с бедностью, расширения прав и возможностей и участия (управление с участием). Через постразвитие проходит антиавторитарная чувствительность, отвращение к контролю и, возможно, анархистские черты. Постструктурализм, вдохновленный Мишелем Фуко, также включает в себя «антиполитическую» чувствительность, как скептицизм позднего модерна. Если публичная сфера строится посредством дискурса и если любой дискурс является притязанием на истину и, следовательно, притязанием на власть, за этим может последовать политический агностицизм. Это также возникает из-за озабоченности автономией, проблемой представительства и недостойным представлением «других».
Если публичная сфера строится посредством дискурса и если любой дискурс является притязанием на истину и, следовательно, притязанием на власть, за этим может последовать политический агностицизм. Это также возникает из-за озабоченности автономией, проблемой представительства и недостойным представлением «других».
Другое фундаментальное возражение против господствующего развития состоит в том, что оно антидемократично. Рассмотрение политики экономического и социального развития через призму демократизации уместно в отношении международных финансовых режимов, свода правил ВТО, цепочки иностранной помощи и авторитарных развивающихся государств. В менеджеризме развития участвуют не только государства, но и международные институты, доноры и «новый менеджеризм» неправительственных организаций (НПО), которым не хватает смирения. В постразвитии существует подозрение в отношении альтернативного развития как «альтернативного менеджеризма», что имеет смысл, учитывая опыт многих НПО и их донорское вмешательство в развивающихся странах.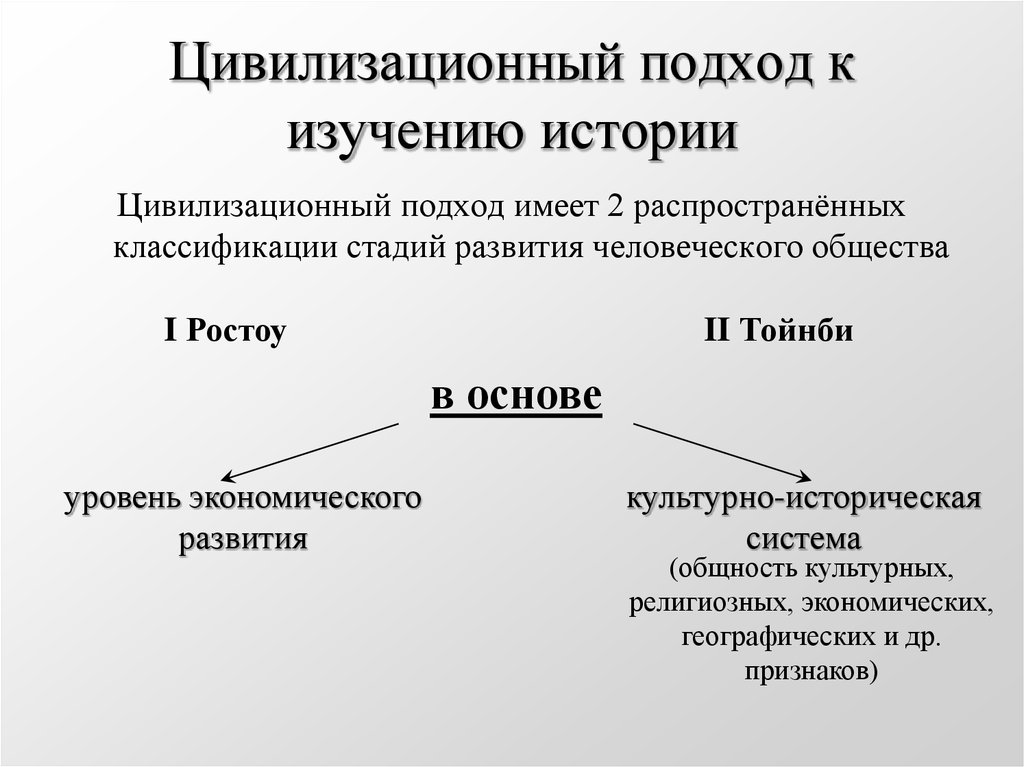 Так что делать? Один ответ — ничто. Однако ничегонеделание сводится к одобрению статус-кво. Под заголовком «пост» мышления это на самом деле глубоко консервативно.
Так что делать? Один ответ — ничто. Однако ничегонеделание сводится к одобрению статус-кво. Под заголовком «пост» мышления это на самом деле глубоко консервативно.
Просмотреть главуКнига покупок
Прочитать всю главу
URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780081022955101131
Neil Argent, in International Encyclopedia of Human Edition (2Sed09 Geography), в International Encyclopedia of Human Edition (2Sed09 Geography).
Abstract
В противоположность дуалистической онтологии и эпистемологии, которые доминировали в философии и практике географии на протяжении 20-го века, исследования «социальной природы» стремились показать, как новые способы жизни в мире и как избежать крупные экологические кризисы, вызванные деятельностью человека, зависят от недуалистических подходов к науке и развитию. Находясь под сильным влиянием марксистской, феминистской, постмодернистской и постструктуралистской точек зрения, подходы к социальной природе с начала XIX в. 90-х годов, охватывающих широкий круг тем, подчеркивающих, как природа активно физически перерабатывается людьми в процессе капиталистической эксплуатации, а также то, как то, о чем мы думаем и знаем о якобы внешней, биофизической природе, всегда опосредуется дискурсами например, империализм, расизм или устойчивое развитие. Однако более сильные постструктуралистские и антиэссенциалистские утверждения в этой области подверглись резкой критике. К началу нового тысячелетия эта область, по признанию некоторых ведущих писателей о социальной природе, достигла философского тупика и вышла из моды.
90-х годов, охватывающих широкий круг тем, подчеркивающих, как природа активно физически перерабатывается людьми в процессе капиталистической эксплуатации, а также то, как то, о чем мы думаем и знаем о якобы внешней, биофизической природе, всегда опосредуется дискурсами например, империализм, расизм или устойчивое развитие. Однако более сильные постструктуралистские и антиэссенциалистские утверждения в этой области подверглись резкой критике. К началу нового тысячелетия эта область, по признанию некоторых ведущих писателей о социальной природе, достигла философского тупика и вышла из моды.
Просмотр книги Глава покупки
Читать полная глава
URL: https://www.sciendirect.com/science/article/pii/b97800810229555100186
N. argenty, в международных энцилюзах, 2009000
, Argenty, в международных энцилюзах.
В отличие от дуалистической онтологии и эпистемологии, которые доминировали в философии и практике географии на протяжении всего двадцатого века, исследования «социальной природы» стремились показать, как новые способы жизни в мире и как избежать серьезных экологических кризисов, вызванных деятельностью человека. , зависят от недуалистических подходов к науке и развитию. Находясь под сильным влиянием марксистской, феминистской, постмодернистской и постструктуралистской точек зрения, подходы к социальной природе с начала 19 в.90-х годов, охватывающих широкий круг тем, подчеркивающих, как природа активно физически перерабатывается людьми в процессе капиталистической эксплуатации, а также то, как то, о чем мы думаем и знаем о якобы внешней, биофизической природе, всегда опосредуется дискурсами например, империализм, расизм или устойчивое развитие. Однако более сильные постструктуралистские и антиэссенциалистские утверждения в этой области подвергались резкой критике. К началу нового тысячелетия эта область, по признанию некоторых ведущих писателей о социальной природе, достигла философского тупика и вышла из моды.
, зависят от недуалистических подходов к науке и развитию. Находясь под сильным влиянием марксистской, феминистской, постмодернистской и постструктуралистской точек зрения, подходы к социальной природе с начала 19 в.90-х годов, охватывающих широкий круг тем, подчеркивающих, как природа активно физически перерабатывается людьми в процессе капиталистической эксплуатации, а также то, как то, о чем мы думаем и знаем о якобы внешней, биофизической природе, всегда опосредуется дискурсами например, империализм, расизм или устойчивое развитие. Однако более сильные постструктуралистские и антиэссенциалистские утверждения в этой области подвергались резкой критике. К началу нового тысячелетия эта область, по признанию некоторых ведущих писателей о социальной природе, достигла философского тупика и вышла из моды.
Просмотреть главуКнига покупки
Прочитать главу полностью
URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B978008044
0585X
M.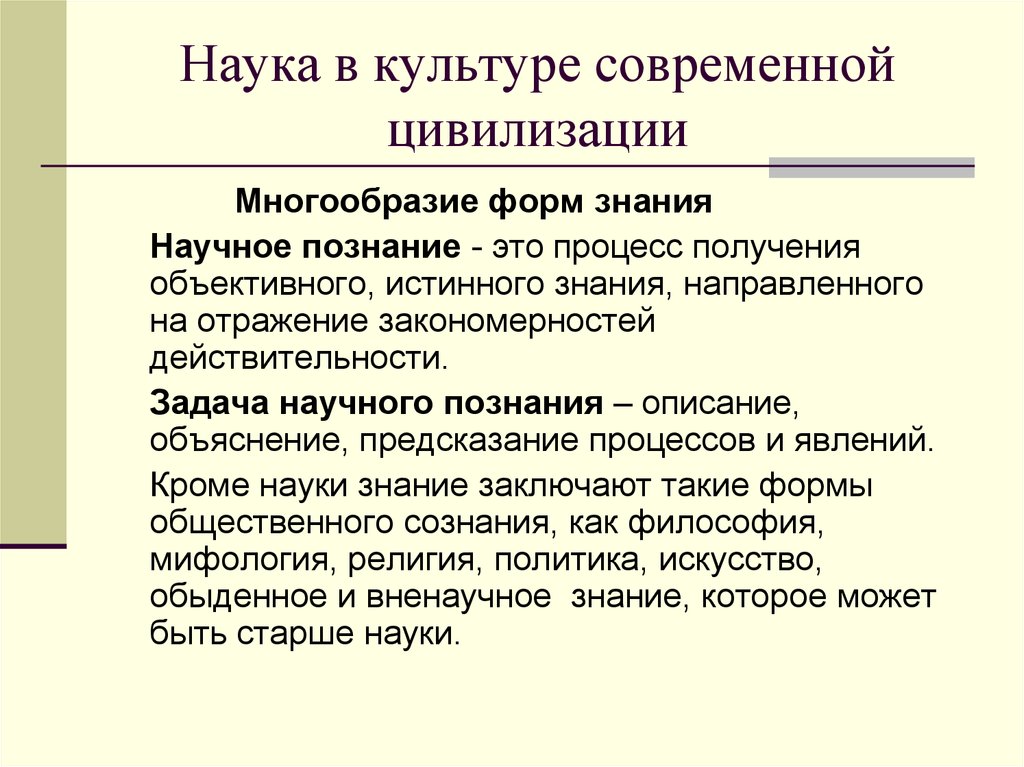 J. Nathan Edition,
J. Nathan Edition,
0 Edition of Education, International Encyclopedia of Education.
Воплощенное познание
Одним из традиционных критических замечаний по поводу образовательных вычислений является то, что они отдаляют учащихся от физической, практической деятельности и опыта и увековечивают представление об изучающем математику как о бестелесном процессоре информации. С точки зрения воплощенного познания (например, Barsalou, 2008; Glenberg, 19).97; Lakoff and Nuñez, 2001), однако технологии должны позволять мыслям и действиям людей опосредовать отношения между явлениями реального мира и формальными представлениями.
CamMotion (Boyd and Rubin, 1996) укрепляет эти отношения, предоставляя пользователям способы извлечения и анализа данных непосредственно из оцифрованного видео объектов и событий. HyperGami (Eisenberg and Eisenberg, 1998, 1999; Eisenberg and Nishioka, 1997) позволяет учащимся создавать на экране компьютера индивидуальные трехмерные многогранные формы, которые распечатываются в виде плоских цветных узоров, но затем складываются в осязаемые модели, такие как пингвины.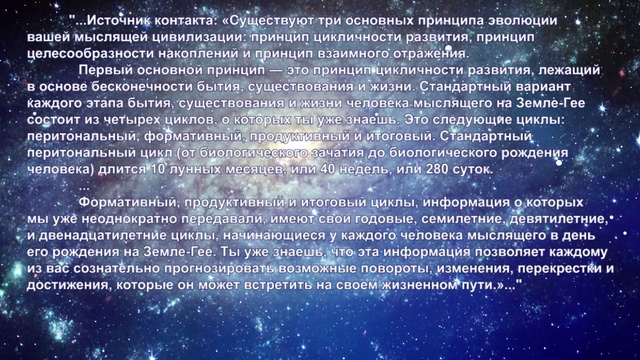
Последние достижения в области новых и мощных устройств вывода позволяют учащимся проектировать (на компьютере), а затем печатать объекты из прочных материалов, таких как дерево, акрил, пенопласт, воск и гипс. Достижения в области материаловедения и разработки в области пластмасс, жидких кристаллов и оптических волокон также предлагают новые способы использования рук и тела для занятия математикой и, таким образом, перекраивают само понятие образовательной технологии (Eisenberg et al ., 2005).
Это значительно расширяет набор математических объектов и методов, доступных учащимся. Например, лазерная печать может быть использована для изготовления срезов, которые можно совместить друг с другом, чтобы сформировать математические объекты в 3D, которые имеют как образовательное, так и эстетическое значение (9).0400 Рисунок 6 ( a )). Этот подход можно использовать для поддержки доказательства путем построения. Его также можно использовать на ткани, где математические узоры могут вдохновлять моду.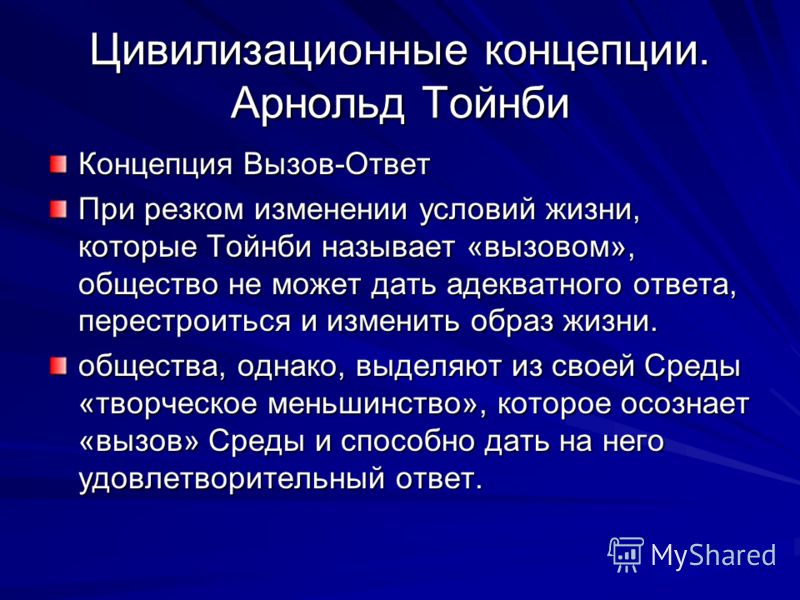 Лазерная печать также играет важную роль в программе MachineShop (Blauvelt and Eisenberg, 2001, 2006), которая направляет устройство лазерной резки для изготовления зубчатых колес, кулачков и рычагов из дерева на основе специально разработанных математических функций, которые затем могут быть собраны в изготавливать устройства, в том числе игрушки и модели динамических систем (см. Рисунок 6(b) и 6 ( c )).
Лазерная печать также играет важную роль в программе MachineShop (Blauvelt and Eisenberg, 2001, 2006), которая направляет устройство лазерной резки для изготовления зубчатых колес, кулачков и рычагов из дерева на основе специально разработанных математических функций, которые затем могут быть собраны в изготавливать устройства, в том числе игрушки и модели динамических систем (см. Рисунок 6(b) и 6 ( c )).
Рис. 6. (a) Эллипсоид в форме среза, построенный из набора деревянных деталей с прорезями. (b) Специально разработанная камера от MachineShop. (c) Некоторые механические автоматы, спроектированные и построенные учащимися. Адаптировано из рисунка 3 Айзенберга М., Айзенберга А., Бловельта Г., Хендрикса С., Бючли Л. и Элумезе Н. (2005). Математические поделки для детей: Помимо ножниц и клея. Proceedings of Art+Math=X Conference , стр. 61–65, CO: Boulder.
Эти подходы к реальной математике — и многие другие, которые нужно рассмотреть — напоминают о времени, когда математика и искусство были ближе, чем сегодня для многих студентов.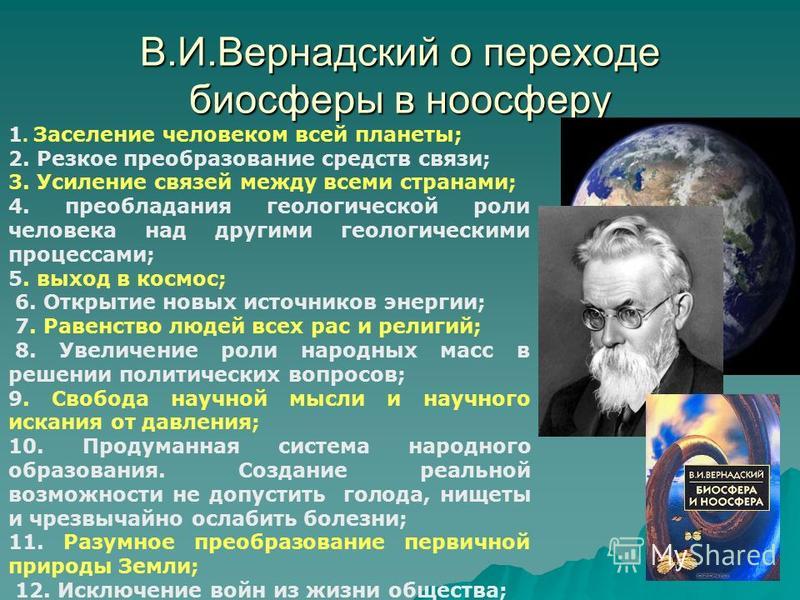 Ремесла, вдохновленные математикой, также поощряют культуру демонстрации (Eisenberg et al ., 2005). Таким образом, математическое ремесло продвигает идею обоснования смысла математики на один большой шаг вперед, предлагая учащимся персонализировать математику и обогатить наше непосредственное окружение красивыми и интересными математическими объектами, которые мы проектируем и конструируем. В сочетании с целями, направленными на развитие пространственного мышления учащихся, а также концептуального и процедурного прогресса, это является ценным напоминанием о том, чем может стать математическое образование.
Ремесла, вдохновленные математикой, также поощряют культуру демонстрации (Eisenberg et al ., 2005). Таким образом, математическое ремесло продвигает идею обоснования смысла математики на один большой шаг вперед, предлагая учащимся персонализировать математику и обогатить наше непосредственное окружение красивыми и интересными математическими объектами, которые мы проектируем и конструируем. В сочетании с целями, направленными на развитие пространственного мышления учащихся, а также концептуального и процедурного прогресса, это является ценным напоминанием о том, чем может стать математическое образование.
Просмотреть главуКнига покупок
Прочитать главу полностью
URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780080448947007351
Сесиль М. (Четвертое издание), 2009 г.
Введение
Ученые-разработчики лекарств все чаще обращаются к технологиям с богатыми данными («-омикам») для описания активности своих лекарств в биологических системах. Эти методы предоставляют более точную информацию о роли мишеней лекарств в биомолекулярных путях, специфических реакциях молекулярных мишеней и путей на воздействие лекарств, а также о подгруппе пациентов, у которых экспрессируются определенные мишени и которые, вероятно, будут положительно реагировать на данную терапию. В то же время промышленность и регулирующие органы разработали инициативы по расширению использования биомаркеров при разработке лекарств как для увеличения объема информации, доступной для принятия решений, так и для ускорения процесса за счет помощи в отборе пациентов и мониторинге реакции. Таким образом, за последние несколько лет исследования биомаркеров превратились в быстрорастущую область науки об открытии и разработке лекарств.
Эти методы предоставляют более точную информацию о роли мишеней лекарств в биомолекулярных путях, специфических реакциях молекулярных мишеней и путей на воздействие лекарств, а также о подгруппе пациентов, у которых экспрессируются определенные мишени и которые, вероятно, будут положительно реагировать на данную терапию. В то же время промышленность и регулирующие органы разработали инициативы по расширению использования биомаркеров при разработке лекарств как для увеличения объема информации, доступной для принятия решений, так и для ускорения процесса за счет помощи в отборе пациентов и мониторинге реакции. Таким образом, за последние несколько лет исследования биомаркеров превратились в быстрорастущую область науки об открытии и разработке лекарств.
При разработке лекарств биомаркер представляет собой объективно измеримую характеристику, относящуюся к нормальным биологическим процессам, патогенным процессам (статус заболевания), анатомическим измерениям или фармакологическим реакциям на терапевтическое вмешательство. Таким образом, большое количество измеримых конечных точек может быть биомаркером, включая клинические лабораторные результаты, данные диагностических тестов для конкретных заболеваний, результаты визуализации in vivo и данные анализов для конкретных вмешательств, предназначенных для регистрации фармакодинамических ответов на лечение. Кроме того, могут быть проанализированы генотипы, которые предсказывают определенные фенотипы, такие как полиморфизм ферментов, метаболизирующих лекарственные средства, или мишени лекарственных средств. Биомаркеры используются для различных целей, включая механистические исследования, раннюю оценку как полезных, так и неблагоприятных ответов, выбор подмножеств пациентов на основе прогнозируемых ответов или определение альтернативных конечных точек ответа (суррогатных конечных точек).
Таким образом, большое количество измеримых конечных точек может быть биомаркером, включая клинические лабораторные результаты, данные диагностических тестов для конкретных заболеваний, результаты визуализации in vivo и данные анализов для конкретных вмешательств, предназначенных для регистрации фармакодинамических ответов на лечение. Кроме того, могут быть проанализированы генотипы, которые предсказывают определенные фенотипы, такие как полиморфизм ферментов, метаболизирующих лекарственные средства, или мишени лекарственных средств. Биомаркеры используются для различных целей, включая механистические исследования, раннюю оценку как полезных, так и неблагоприятных ответов, выбор подмножеств пациентов на основе прогнозируемых ответов или определение альтернативных конечных точек ответа (суррогатных конечных точек).
Из-за разнообразия этих экспериментальных подходов и применений для надлежащей разработки биомаркерной стратегии для многих фаз разработки лекарств потребуется сочетание опыта. Токсикологические исследования могут включать фармакодинамические биомаркеры, токсикогеномные и/или протеомные конечные точки, а также сочетание методов клинической патологии и проточной цитометрии. Исследования для подтверждения концепции могут включать визуализацию in vivo в качестве дополнения к мониторингу реакции тканей; и клинические испытания могут быть разработаны для включения подмножества биомаркеров ответа, разработанных в доклинических исследованиях, в дополнение к диагностике заболеваний, тестам на терапевтическую цель и анализу генетического полиморфизма.
Токсикологические исследования могут включать фармакодинамические биомаркеры, токсикогеномные и/или протеомные конечные точки, а также сочетание методов клинической патологии и проточной цитометрии. Исследования для подтверждения концепции могут включать визуализацию in vivo в качестве дополнения к мониторингу реакции тканей; и клинические испытания могут быть разработаны для включения подмножества биомаркеров ответа, разработанных в доклинических исследованиях, в дополнение к диагностике заболеваний, тестам на терапевтическую цель и анализу генетического полиморфизма.
Ожидаемое использование каждого биомаркера будет определять необходимость его квалификации; по мере того, как разработка продвигается от открытия к клинике, включение определенных типов биомаркеров может оказаться нецелесообразным. В конечном счете, целью включения биомаркеров в разработку лекарств является предоставление информации, подходящей для принятия решений на этом пути. В некоторых случаях разработка и валидация нового клинического диагностического теста может стать неотъемлемой частью процесса разработки лекарств.
Многие новые биомаркеры появились в результате токсикологических исследований, поскольку механистические токсикологи применили анализ экспрессии генов и протеомные методы для изучения токсичности, вызванной лекарствами. Аналогичным образом, был достигнут прогресс в сопоставлении данных исследований модельных токсикантов с применением составных (профильных) маркеров в механистических моделях эффектов лекарств. Инструменты анализа путей оказались полезными при интерпретации многомерных данных как для выяснения механизмов токсичности, так и для помощи в идентификации биомаркеров, которые могут быть обнаружены в доступных тканях.
Разработка биомаркеров выиграет от межфункционального обмена информацией о новых методах открытия и успешного применения этих подходов к доклиническим и клиническим исследованиям. Таким образом, эта глава об информационных ресурсах в токсикологии представляет собой смесь различных и взаимодополняющих взглядов на предмет. Цель этой главы состоит в том, чтобы представить эти точки зрения, которые включают как общие, так и специализированные тексты, подробные обзоры от экспертов в предметной области и ряд полезных онлайн-ресурсов для исследовательских и нормативных приложений. Из-за междисциплинарного характера темы исчерпывающий список всех информационных ресурсов невозможен; однако мы считаем, что составленный список будет служить для рассмотрения различных аспектов открытия и применения биомаркеров, а также для иллюстрации растущей роли биомаркеров в разработке лекарств.
Из-за междисциплинарного характера темы исчерпывающий список всех информационных ресурсов невозможен; однако мы считаем, что составленный список будет служить для рассмотрения различных аспектов открытия и применения биомаркеров, а также для иллюстрации растущей роли биомаркеров в разработке лекарств.
Просмотреть главуКнига покупок
Прочитать главу полностью
URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123735935000082
Краткая история разума и цивилизации
2 Jacobry 9 Garr20 Автор(ы)
Получить полный текст в формате PDF
Abstract
Рациональный разум — это высший развитый уровень человеческого сознания. Эволюция разума и цивилизации шла рука об руку на протяжении тысячелетий. Развитие новых способностей разума сделало возможным развитие инструментов, языка, сельского хозяйства, постоянных поселений, городов, религии, торговли, транспорта, связи, правительства, права, денег, литературы и искусства, образования, национальных государств, науки. и технологические исследования. Точно так же каждая стадия развития цивилизации формировала эволюцию человеческого разума и его способностей, а также то, как они применяются в жизни. Ограничения наших знаний и достижений отражают пределы нашей рациональности и использования нашего умственного потенциала. Наши знания состоят из фрагментарных, разрозненных теорий, в то время как реальность, которую мы пытаемся понять, всеобъемлюща, сложна и целостна. Наши концепции основаны на механистических, статичных, негибких моделях равновесия, тогда как мир, в котором мы живем, живой, динамичный, органический, сознательный, отзывчивый, творческий и постоянно развивающийся. Наша наука занимает положение беспристрастного наблюдателя объективной реальности, тогда как все знания без исключения окрашены субъективной точкой зрения наблюдателя. Наша наука стремится быть нейтральной и бесценной, а необходимые нам знания должны помочь нам реализовать общечеловеческие ценности. Нам необходимо развивать способы мышления, которые воссоединяют объективные и субъективные измерения реальности и отражают целостность, динамизм и яркость эволюционной природы.
и технологические исследования. Точно так же каждая стадия развития цивилизации формировала эволюцию человеческого разума и его способностей, а также то, как они применяются в жизни. Ограничения наших знаний и достижений отражают пределы нашей рациональности и использования нашего умственного потенциала. Наши знания состоят из фрагментарных, разрозненных теорий, в то время как реальность, которую мы пытаемся понять, всеобъемлюща, сложна и целостна. Наши концепции основаны на механистических, статичных, негибких моделях равновесия, тогда как мир, в котором мы живем, живой, динамичный, органический, сознательный, отзывчивый, творческий и постоянно развивающийся. Наша наука занимает положение беспристрастного наблюдателя объективной реальности, тогда как все знания без исключения окрашены субъективной точкой зрения наблюдателя. Наша наука стремится быть нейтральной и бесценной, а необходимые нам знания должны помочь нам реализовать общечеловеческие ценности. Нам необходимо развивать способы мышления, которые воссоединяют объективные и субъективные измерения реальности и отражают целостность, динамизм и яркость эволюционной природы. Это вызов и приключение перед нами.
Это вызов и приключение перед нами.
1. Парадокс
Развитие знаний за последние два столетия впечатляет. Наше понимание физической вселенной и нашего собственного эволюционного прошлого теперь простирается на миллионы световых лет по Вселенной и на миллиарды лет назад во времени. Наша способность измерять и обрабатывать данные, передавать и распространять факты, формулировать новые концепции и идеи, открывать и изобретать, организовывать и обучать, творить и воображать, а также использовать силы Природы для достижения человеческих целей увеличилась в геометрической прогрессии.
«Социальная власть относится к совокупной способности общества достигать любых целей, к которым оно стремится.»
Знание — сила, и никогда прежде человечество не знало так много о мире, в котором мы живем. Однако никогда раньше мы не сталкивались с проблемами такого беспрецедентного масштаба и сложности, которые не поддаются решению с помощью существующих знаний. Наш прогресс имел непредвиденные последствия. Усилия по созданию подлинно глобальной цивилизации на основе науки и техники сопровождались повышением уровня экономической незащищенности, политическими беспорядками, социальными волнениями, перемещением населения и нестабильностью окружающей среды. Наша экономическая система оставляет миллиарды людей в нищете и способствует увеличению неравенства. Наши механические изобретения вытесняют, отчуждают и дегуманизируют нас. Над нами доминирует и угнетает денежная система, предназначенная для повышения безопасности человечества. Наша неспособность создать эффективные инструменты демократического глобального управления делает нас бессильными противостоять угрозам существованию, создаваемым ядерным оружием и изменением климата. Наш образ жизни опустошает Землю. Несмотря на все возрастающие знания, наше чувство неуверенности и незащищенности усиливается. Несмотря на все большую силу контроля и господства над силами физической природы, растет чувство бессилия контролировать высвобожденные нами силы и будущий ход нашей собственной эволюции.
Усилия по созданию подлинно глобальной цивилизации на основе науки и техники сопровождались повышением уровня экономической незащищенности, политическими беспорядками, социальными волнениями, перемещением населения и нестабильностью окружающей среды. Наша экономическая система оставляет миллиарды людей в нищете и способствует увеличению неравенства. Наши механические изобретения вытесняют, отчуждают и дегуманизируют нас. Над нами доминирует и угнетает денежная система, предназначенная для повышения безопасности человечества. Наша неспособность создать эффективные инструменты демократического глобального управления делает нас бессильными противостоять угрозам существованию, создаваемым ядерным оружием и изменением климата. Наш образ жизни опустошает Землю. Несмотря на все возрастающие знания, наше чувство неуверенности и незащищенности усиливается. Несмотря на все большую силу контроля и господства над силами физической природы, растет чувство бессилия контролировать высвобожденные нами силы и будущий ход нашей собственной эволюции.
На национальном и глобальном уровнях предпринимаются согласованные усилия для устранения каждой из политических, экономических, социальных и экологических угроз, с которыми человечество сталкивается в 21 веке. Новые политики были применены для усиления контроля. Были созданы новые институты для улучшения координации. Однако эти усилия были в значительной степени неэффективными и часто приводили к обратным результатам. Спустя четверть века после окончания «холодной войны» политическая напряженность нарастает, а ядерное оружие продолжает распространяться. Недавний поток беженцев в Европу угрожает подорвать десятилетия прогресса на пути к европейскому единству. Несмотря на беспрецедентную межправительственную координацию, глобальные финансовые рынки остаются непредсказуемыми, нестабильными и неконтролируемыми, а транснациональные корпорации все чаще действуют вне досягаемости национальных правительств. Несмотря на институциональные и политические инициативы на национальном и международном уровнях, все эти проблемы, похоже, усугубляются. Не видно эффективных решений для противодействия растущему числу безработной молодежи и перемещенных мигрантов, распространению ядерного оружия, истощению почвы и воды, торговле наркотиками, культурным конфликтам, терроризму и нестабильности климата.
Не видно эффективных решений для противодействия растущему числу безработной молодежи и перемещенных мигрантов, распространению ядерного оружия, истощению почвы и воды, торговле наркотиками, культурным конфликтам, терроризму и нестабильности климата.
Всемирная академия искусства и науки проследила корни этих многочисленных проблем до общего набора основополагающих факторов. Все они носят глобальный характер и не поддаются решению на национальном уровне. Все они взаимосвязаны и не поддаются решению с помощью фрагментарных, разрозненных отраслевых стратегий. Все они являются результатом быстрой глобализации при отсутствии эффективных институтов глобального управления. Все они подвержены влиянию растущей разницы в темпах технологических инноваций и культурной эволюции. Все они увековечены устаревшими социальными институтами. Как проницательно подытожил канадский математик Уильям Байерс: «То, что выглядит как ряд разрозненных кризисов, на самом деле является одним кризисом, проявляющимся по-разному, — одним всеохватывающим кризисом, возникающим из внутренних противоречий, присущих современной культуре». 0003
0003
Исследования Академии привели к выводу, что эти множественные кризисы являются результатом трех более глубоких причин. Во-первых, все они отражают ограниченность преобладающих знаний в социальных науках. Неудачи политических мер и институциональных реформ отражают недостаточность нашего понимания того, как человеческое общество растет, развивается и эволюционирует. Это привело WAAS к выводу, что необходима радикально новая парадигма мышления для поддержки новых институциональных и политических рамок, основанных на ценностях человеческого благополучия и благополучия2. В течение последних пяти лет WAAS продвигает инициативы, направленные на формирование нового мышления. об экономической теории, ориентированной на человека, о концептуальной основе всеобъемлющей парадигмы человеческого развития, охватывающей все измерения общественного существования, об основных принципах трансдисциплинарной, интегрированной, основанной на ценностях науки об обществе и об уникальной каталитической роли личности. в общественном развитии.3,*
в общественном развитии.3,*
Второй вывод из этого исследования заключается в том, что нынешние кризисы являются результатом нынешнего распределения социальной власти в мире. Теоретическое знание общества неполно, пока оно не может понять, каким образом создается и распределяется социальная власть. Социальная власть относится к совокупной способности общества достигать любых целей, к которым оно стремится. Никогда раньше человечество не обладало такой силой — способностью взаимодействовать, общаться, обмениваться, транспортировать, производить, открывать, изобретать, обучать, экспериментировать, продлевать жизнь, развлекать и наслаждаться. Однако никогда раньше распределение социальной власти и ее плодов не было таким неравномерным и несправедливым, как сегодня. В то время, когда общество обладает более чем достаточными возможностями для обеспечения достаточного количества продуктов питания, одежды, жилья, образования и здравоохранения для удовлетворения потребностей всех людей, миллиарды людей все еще борются за выживание. Существующие социальные институты и политика не смогли исправить ситуацию, а существующие экономические и политические теории в значительной степени игнорируют эту основную проблему. Это побудило WAAS инициировать исследование теоретических и исторических истоков и детерминант социальной власти.4
Существующие социальные институты и политика не смогли исправить ситуацию, а существующие экономические и политические теории в значительной степени игнорируют эту основную проблему. Это побудило WAAS инициировать исследование теоретических и исторических истоков и детерминант социальной власти.4
В-третьих, и это наиболее важно, это исследование привело к выводу, что все эти причины сами по себе основаны на более фундаментальной причине, возникающей из того, как современное общество развило способности человеческого разума. Кризисы, с которыми сегодня сталкивается цивилизация, коренятся в том, как мы используем свой разум — в том, как мы думаем. фундаментальных эволюционных достижений в развитии человеческого разума, его способностей и способностей к познанию и сознательному действию. Центральный тезис состоит в том, что дилемма, с которой сталкивается цивилизация в 21 веке, отражает врожденные ограничения того конкретного способа, которым современная цивилизация использует силы разума; а именно, что существующая комбинация аналитического и системного мышления в сочетании с математикой и научным методом недостаточна для понимания и эффективного решения коренных причин и сложности проблем, с которыми мы сталкиваемся. Более того, институциональная и социальная власть, контролирующая нынешнюю интеллектуальную структуру, сама по себе стала серьезным препятствием для формулирования более эффективных знаний, особенно в гуманитарных науках. Центральный вывод статьи заключается в том, что нам необходимо сознательно стремиться к лучшему пониманию характерных способов нашего мышления, повышать наше осознание присущих им ограничений и слепых зон, порождаемых этими характеристиками, и развивать способность мыслить творчески. более всеобъемлющим и комплексным образом, выходящим за рамки существующих концептуальных рамок.
Более того, институциональная и социальная власть, контролирующая нынешнюю интеллектуальную структуру, сама по себе стала серьезным препятствием для формулирования более эффективных знаний, особенно в гуманитарных науках. Центральный вывод статьи заключается в том, что нам необходимо сознательно стремиться к лучшему пониманию характерных способов нашего мышления, повышать наше осознание присущих им ограничений и слепых зон, порождаемых этими характеристиками, и развивать способность мыслить творчески. более всеобъемлющим и комплексным образом, выходящим за рамки существующих концептуальных рамок.
2.1. Разум, инструмент
Разум — наиболее развитый инструмент человечества для познания себя и мира. Как и любой другой инструмент, разум обладает определенными способностями и имеет определенные ограничения. Наука расширила наши знания об окружающем мире, разработав микроскоп, телескоп, рентгеновские лучи, хронометр, спектрометр, компьютер и бесконечное множество других инструментов. В каждом случае он обнаружил как полезность, так и ограничения этих инструментов, диапазон их эффективности, искажающие факторы, влияющие на их точность, и присущие им ограничения их мощности. Знание характеристик каждого инструмента необходимо для его правильного использования. Современная цивилизация основана на примате научных открытий. Минимальное внимание уделяется процедурам и процессам проверки научных гипотез и разработки новых инструментов для расширения возможностей наших органов чувств и вычислительных возможностей разума, но очень мало внимания уделяется изучению творческих процессов самого разума, которые источник великих научных открытий. Мы использовали разум в качестве основного инструмента познания на протяжении тысячелетий, и кажется ироничным, что нам еще предстоит понять так много о природе, функционировании и ограничениях разума и его способностей.
В каждом случае он обнаружил как полезность, так и ограничения этих инструментов, диапазон их эффективности, искажающие факторы, влияющие на их точность, и присущие им ограничения их мощности. Знание характеристик каждого инструмента необходимо для его правильного использования. Современная цивилизация основана на примате научных открытий. Минимальное внимание уделяется процедурам и процессам проверки научных гипотез и разработки новых инструментов для расширения возможностей наших органов чувств и вычислительных возможностей разума, но очень мало внимания уделяется изучению творческих процессов самого разума, которые источник великих научных открытий. Мы использовали разум в качестве основного инструмента познания на протяжении тысячелетий, и кажется ироничным, что нам еще предстоит понять так много о природе, функционировании и ограничениях разума и его способностей.
Наша озабоченность использованием инструментов разума почти затмила серьезное исследование природы и действия самого разума. В последнее время нейробиология добилась значительных успехов в понимании структуры и функционирования человеческого мозга и его связи с памятью, сенсорными и двигательными функциями. Информатика и искусственный интеллект открыли, как имитировать определенные умственные способности, такие как память и вычисления. Но наше понимание фундаментальных процессов сознательного осознания и познания, самосознания, мышления, рассуждения, понимания, творчества, воли и принятия решений остается в зачаточном состоянии. В самом деле, нам все еще не хватает даже ясного определения или представления о том, что такое разум, о бесчисленных способностях, которыми он обладает, о различных типах мышления, характеризующих человеческое познание, и о других процессах, которые он сознательно использует для познания и волеизъявления. Сознание определяет силу. Мы не можем овладеть тем, чего не осознаем. В этой статье исследуется взаимосвязь между тем, как мы используем наши умственные способности, особенно наши способности к мышлению, и ходом развития цивилизации.
В последнее время нейробиология добилась значительных успехов в понимании структуры и функционирования человеческого мозга и его связи с памятью, сенсорными и двигательными функциями. Информатика и искусственный интеллект открыли, как имитировать определенные умственные способности, такие как память и вычисления. Но наше понимание фундаментальных процессов сознательного осознания и познания, самосознания, мышления, рассуждения, понимания, творчества, воли и принятия решений остается в зачаточном состоянии. В самом деле, нам все еще не хватает даже ясного определения или представления о том, что такое разум, о бесчисленных способностях, которыми он обладает, о различных типах мышления, характеризующих человеческое познание, и о других процессах, которые он сознательно использует для познания и волеизъявления. Сознание определяет силу. Мы не можем овладеть тем, чего не осознаем. В этой статье исследуется взаимосвязь между тем, как мы используем наши умственные способности, особенно наши способности к мышлению, и ходом развития цивилизации.
В этой краткой истории разума и цивилизации прослеживаются некоторые важные этапы эволюции нашей способности мыслить и ее влияние на тип приобретаемого нами знания и развитие цивилизации. Он охватывает широкий круг человеческой истории в импрессионистической, анекдотической манере, выделяя вехи, имеющие центральное значение для аргумента, и игнорируя другие, которые не являются центральными для развиваемого тезиса. Делается попытка привлечь особое внимание к аспектам, которые кажутся наиболее актуальными для настоящего и, вероятно, будущих этапов нашего ментального и цивилизационного развития.
Разум преуспевает в линейном, пошаговом, хронологическом анализе одномерных процессов в физическом мире. Однако маловероятно, чтобы процесс, который мы пытаемся проследить, был линейным в своем развитии. Ибо оно происходит на множестве уровней нашего существования, включает в себя сложные взаимодействия между бесчисленными факторами, чередование прогрессивных и регрессивных движений. Фактический эволюционный процесс намного сложнее любого его описания. Основным источником этой сложности является тот факт, что наше существование содержит как объективные, так и субъективные измерения — мир вокруг нас и мир сознательного осознания и деятельности внутри нас самих. Эти два взаимодополняющих измерения иногда развиваются в тандеме, а иногда и явно противостоят друг другу: субъективная вера, претендующая на суверенитет над нашим знанием материального мира, или очевидный материальный факт, диктующий условия реальности для нашего психологического самоощущения. История цивилизации, кажется, колеблется между этими крайностями, периодически реагируя на восстановление баланса. Таким образом, повествование о разуме и цивилизации — это танец между нашим внутренним и внешним миром.
Фактический эволюционный процесс намного сложнее любого его описания. Основным источником этой сложности является тот факт, что наше существование содержит как объективные, так и субъективные измерения — мир вокруг нас и мир сознательного осознания и деятельности внутри нас самих. Эти два взаимодополняющих измерения иногда развиваются в тандеме, а иногда и явно противостоят друг другу: субъективная вера, претендующая на суверенитет над нашим знанием материального мира, или очевидный материальный факт, диктующий условия реальности для нашего психологического самоощущения. История цивилизации, кажется, колеблется между этими крайностями, периодически реагируя на восстановление баланса. Таким образом, повествование о разуме и цивилизации — это танец между нашим внутренним и внешним миром.
Другим усложняющим фактором является то, что мы живем и действуем на трех планах существования. Помимо ощущений, действий и событий, происходящих на физическом плане, люди осознают и действуют одновременно на жизненном или витальном плане, где мы воспринимаем, взаимодействуем, взаимодействуем и нервно и эмоционально реагируем на наше окружение и других людей. Мы также существуем в ментальном плане фактов, мыслей, мнений и идей, в котором мы наблюдаем, постигаем, понимаем, создаем и принимаем решения. Эволюция ума происходит одновременно на всех этих трех планах. По мере того, как цивилизация проходит через различные стадии или фазы развития, она также претерпевает сдвиги в относительном акценте, который она делает на каждой из них. Древнеиндийская культура строила свою мысль и жизнь вокруг духовных истин. Греческая культура была сосредоточена на разуме и его концептуальных идеях. Современное общество озабочено применением разума к физическому миру и обществу с помощью технологий. Понимание человечеством своего места во вселенной, наших отношений друг с другом, наших собственных психологических процессов и способностей к познанию постоянно развивается. В этом историческом повествовании будут рассмотрены важные события, связанные со всеми тремя планами и взаимодействием между ними.
Мы также существуем в ментальном плане фактов, мыслей, мнений и идей, в котором мы наблюдаем, постигаем, понимаем, создаем и принимаем решения. Эволюция ума происходит одновременно на всех этих трех планах. По мере того, как цивилизация проходит через различные стадии или фазы развития, она также претерпевает сдвиги в относительном акценте, который она делает на каждой из них. Древнеиндийская культура строила свою мысль и жизнь вокруг духовных истин. Греческая культура была сосредоточена на разуме и его концептуальных идеях. Современное общество озабочено применением разума к физическому миру и обществу с помощью технологий. Понимание человечеством своего места во вселенной, наших отношений друг с другом, наших собственных психологических процессов и способностей к познанию постоянно развивается. В этом историческом повествовании будут рассмотрены важные события, связанные со всеми тремя планами и взаимодействием между ними.
Применение разума для развития цивилизации произошло в четырех основных сферах социальной деятельности, являющихся выражением четырех взаимосвязанных компонентов человеческого мышления — способности к концептуальному мышлению и логическому мышлению; способность к этическому мышлению и моральной дискриминации; способность к эстетическому творчеству и оценке; и способность к физическому проектированию, практической организации и эффективному применению для выполнения действий в пространстве и времени. Философия, религия, искусство, наука и техника являются цивилизационными продуктами этих способностей.
Философия, религия, искусство, наука и техника являются цивилизационными продуктами этих способностей.
3. Сознательно мыслящее животное
Разум — это способность сознания. Человеческие существа отличаются от других животных развитием и прогрессивным появлением сознательной психики. Виды низшего порядка в ограниченной степени обладают многими характеристиками, которые мы связываем с сознательным мышлением, включая язык, целенаправленные действия, специализацию функций, организацию и развитие орудий. Но умственные способности и «знания», которыми обладают другие виды, в основном имеют форму подсознательного инстинктивного поведения, движимого биологическими побуждениями, а не сознательными процессами обучения и сознательной волей. Язык животных кажется рудиментарным по сравнению с необычайным разнообразием, сложностью, многогранностью и богатством человеческой речи. Другим животным, по-видимому, не хватает умственной способности к самосознанию и размышлению о собственном существовании, что характерно для людей. Задумывались ли когда-нибудь обезьяны, зачем они родились или каково было бы быть человеком? Животные учатся, но, похоже, им не хватает способности сознательно передавать знания от одного поколения к другому. Поведение животных и социальное существование остаются относительно неизменными от поколения к поколению и от тысячелетия к другому, в то время как люди продолжают развивать более высокие формы знания и новые формы цивилизации.
Задумывались ли когда-нибудь обезьяны, зачем они родились или каково было бы быть человеком? Животные учатся, но, похоже, им не хватает способности сознательно передавать знания от одного поколения к другому. Поведение животных и социальное существование остаются относительно неизменными от поколения к поколению и от тысячелетия к другому, в то время как люди продолжают развивать более высокие формы знания и новые формы цивилизации.
Основные способности разума включают сознание, самосознание, восприятие, наблюдение, память, формирование символов, мышление, суждение, воображение и принятие решений. Каждая из этих способностей может быть далее подразделена бесчисленным количеством способов. В этой статье основное внимание уделяется способности мышления и характеристикам различных типов мышления, которые люди развили в поисках знаний, а также взаимосвязи между тем, как мы думаем, и развитием человеческой цивилизации.
Мышление в ранние времена, кажется, было узко сосредоточено на определенных действиях, предназначенных для удовлетворения конкретных физических потребностей и взаимодействия с физической средой. Способность людей придумывать и создавать инструменты и инструменты представляет собой рудиментарную форму мышления. Самые ранние известные каменные топоры были сделаны 2,7 миллиона лет назад. Свидетельствам костров около 790 000 лет. Построенные жилища датируются 350 000 лет до нашей эры. Лезвия, иглы, точильные камни, краски, рыболовные крючки, наконечники копий, гарпуны и инструменты для добычи полезных ископаемых последовательно появлялись до 50 000 лет до нашей эры. Игла имеет особое значение, потому что она сделала возможным изготовление плотно прилегающей теплой меховой одежды, которая в сочетании с огнем позволила ранним Homo sapiens выжить в очень холодном северном климате, таком как Сибирь, которая в конечном итоге стала сухопутным мостом для заселения Америки. 25 000 лет назад.8 Эти изобретения показывают, что первобытный человек обладал способностью преобразовывать сознательные мысли в действия с помощью процесса, называемого решением или волей. Развитие и распространение инструментов свидетельствует о том, что Мерлин Дональд называет миметическим мышлением.
Способность людей придумывать и создавать инструменты и инструменты представляет собой рудиментарную форму мышления. Самые ранние известные каменные топоры были сделаны 2,7 миллиона лет назад. Свидетельствам костров около 790 000 лет. Построенные жилища датируются 350 000 лет до нашей эры. Лезвия, иглы, точильные камни, краски, рыболовные крючки, наконечники копий, гарпуны и инструменты для добычи полезных ископаемых последовательно появлялись до 50 000 лет до нашей эры. Игла имеет особое значение, потому что она сделала возможным изготовление плотно прилегающей теплой меховой одежды, которая в сочетании с огнем позволила ранним Homo sapiens выжить в очень холодном северном климате, таком как Сибирь, которая в конечном итоге стала сухопутным мостом для заселения Америки. 25 000 лет назад.8 Эти изобретения показывают, что первобытный человек обладал способностью преобразовывать сознательные мысли в действия с помощью процесса, называемого решением или волей. Развитие и распространение инструментов свидетельствует о том, что Мерлин Дональд называет миметическим мышлением. Ранний человек научился сотрудничать и координировать свою деятельность как члены социальных групп. Они учились друг у друга на примере до того, как появление разговорного языка облегчило устное общение и передачу знаний.9
Ранний человек научился сотрудничать и координировать свою деятельность как члены социальных групп. Они учились друг у друга на примере до того, как появление разговорного языка облегчило устное общение и передачу знаний.9
Помимо этих физических забот, нет данных, позволяющих определить, на какой стадии ранние люди начали размышлять о факторах, которые отличали их от других животных, о причинах смены времен года, о морали своих действий, о своих умственных способностях. и психологические реакции, или цель их жизни на земле. Эти высшие формы рефлексии требовали предварительного развития языка со сложной лексикой, понятиями и идеями.
3.1. Символическое мышление
Разум обладает способностью к чистому самосознанию. Мы знаем, что существуем без посредства чувств или даже мыслей. Но способность, которую мы называем мышлением, есть форма косвенного знания. Наш разум получает сенсорные данные об окружающем мире, интерпретирует эти данные и извлекает из них знания. Он слышит громкий крик, идентифицирует его как животное и анализирует его, чтобы определить, является ли это криком добычи или хищника. Данные чувств отличны от объектов ощущений, а полученные знания отличны от данных. Это косвенное знание. «Ум может иметь непосредственное сознание себя только в момент своего настоящего бытия; он может иметь лишь некоторое полупрямое восприятие вещей, как они предлагаются ему в настоящий момент времени и непосредственного поля пространства и схватываются чувствами. Он восполняет свой недостаток памятью, воображением, мышлением, идеями-символами разного рода»10. Мы пытаемся идентифицировать и судить о субъективных намерениях, настроении и способностях другого человека по его поведению, выражениям и жестам. У нас нет прямой способности воспринимать их субъективное состояние.
Он слышит громкий крик, идентифицирует его как животное и анализирует его, чтобы определить, является ли это криком добычи или хищника. Данные чувств отличны от объектов ощущений, а полученные знания отличны от данных. Это косвенное знание. «Ум может иметь непосредственное сознание себя только в момент своего настоящего бытия; он может иметь лишь некоторое полупрямое восприятие вещей, как они предлагаются ему в настоящий момент времени и непосредственного поля пространства и схватываются чувствами. Он восполняет свой недостаток памятью, воображением, мышлением, идеями-символами разного рода»10. Мы пытаемся идентифицировать и судить о субъективных намерениях, настроении и способностях другого человека по его поведению, выражениям и жестам. У нас нет прямой способности воспринимать их субъективное состояние.
Мышление также является разделяющей формой знания. Мыслящий ум непосредственно не воспринимает реальность. Он воспринимает мыслеформы и формулирует мыслесимволы, представляющие реальность, но отдельные от нее. Физические ощущения и переживания воздействуют на разум в виде психической энергии. Громкий крик животного порождает умственное ощущение, которое приводит ум в состояние полной бдительности. Но пока ум не интерпретирует ощущение и не идентифицирует его как друга или врага, он не обладает знанием. Как только он распознает звук как рык льва, он преобразует энергию в ментальную форму, мысль, выражающую опасность приближающегося льва. Тогда и только тогда он также обладает способностью передавать это знание другим разумам в форме символов, знаков или слов. Все символическое, теоретическое, концептуальное, научное знание является разделяющим знанием. Именно знание символов представляет реальность, а не саму реальность. Теория относительности и квантовая теория, медицинские диагнозы болезней и эконометрическая модель рынков являются концептуальными представлениями реальности, а не самой реальностью.
Физические ощущения и переживания воздействуют на разум в виде психической энергии. Громкий крик животного порождает умственное ощущение, которое приводит ум в состояние полной бдительности. Но пока ум не интерпретирует ощущение и не идентифицирует его как друга или врага, он не обладает знанием. Как только он распознает звук как рык льва, он преобразует энергию в ментальную форму, мысль, выражающую опасность приближающегося льва. Тогда и только тогда он также обладает способностью передавать это знание другим разумам в форме символов, знаков или слов. Все символическое, теоретическое, концептуальное, научное знание является разделяющим знанием. Именно знание символов представляет реальность, а не саму реальность. Теория относительности и квантовая теория, медицинские диагнозы болезней и эконометрическая модель рынков являются концептуальными представлениями реальности, а не самой реальностью.
Мышление — это символическая форма косвенного разделяющего знания. Он может начаться с примитивного символического представления сил природы в виде образов, звуков или жестов. Наскальные рисунки возрастом 30 000 лет подтверждают развитие символического мышления задолго до появления сложных языков. Свидетельства того периода широко распространенного поклонения богине-матери, скорее всего, означали веру в уникальную способность женщин производить потомство. Это говорит о том, что мужчина еще не осознал связь между половым актом и актом рождения ребенка девятью месяцами позже. Символ богини-матери отражал чувство чуда и силы, связанные с актом деторождения.
Наскальные рисунки возрастом 30 000 лет подтверждают развитие символического мышления задолго до появления сложных языков. Свидетельства того периода широко распространенного поклонения богине-матери, скорее всего, означали веру в уникальную способность женщин производить потомство. Это говорит о том, что мужчина еще не осознал связь между половым актом и актом рождения ребенка девятью месяцами позже. Символ богини-матери отражал чувство чуда и силы, связанные с актом деторождения.
Первобытный человек содрогался от страха перед солнечным затмением или неблагоприятным расположением планет, потому что воспринимал эти события как мощные символы, относящиеся к его собственной жизни. Символы стали средством создания и сохранения мощных суеверий. Суеверие — это подсознательное формирование отношений между двумя или более вещами, основанное на восприятии или воображении, что они связаны друг с другом.
Символическое мышление положило начало переходу от утилитарного мышления, ориентированного на удовлетворение насущных потребностей, к космологическим рассуждениям о природе реальности. Мерлин Дональд называет это переходом к стадии мифической культуры, на которой язык впервые использовался для создания концептуальных моделей вселенной, великих объединяющих синтезов.11 Немецкий историк Карл Готхард Лампрехт и индийский философ Шри Ауробиндо описывают символическую психологическое развитие, при котором человек ощущал за всей жизнью великую Реальность, которую он искал через символы и символическое мышление, пронизывавшие мышление, обычаи и институты первобытного общества.0003
Мерлин Дональд называет это переходом к стадии мифической культуры, на которой язык впервые использовался для создания концептуальных моделей вселенной, великих объединяющих синтезов.11 Немецкий историк Карл Готхард Лампрехт и индийский философ Шри Ауробиндо описывают символическую психологическое развитие, при котором человек ощущал за всей жизнью великую Реальность, которую он искал через символы и символическое мышление, пронизывавшие мышление, обычаи и институты первобытного общества.0003
Эти символы часто наделялись огромной силой. Историк Питер Уотсон определяет идею Бога как один из трех наиболее значительных актов познания в долгой эволюции цивилизации.13 Таким образом, числа приобрели мистическое значение во многих древних обществах как символы фундаментальных истин существования задолго до того, как рациональный разум развил либо понимание, либо лингвистическую способность выражать эти истины словами. В ведической Индии интуитивное знание человеческого сознания и вселенной было преобразовано в мифы и символы глубокой проницательности, удивительной красоты и силы, непонятные современному интеллекту, обученному аналитическому дискурсу. Кажется вероятным, что они были результатом интуитивных способностей ума, которые уже плохо развиты или могут однажды стать гораздо более распространенными, так как способность читать, писать и считать когда-то была редким даром и считалась признаком зрелости. гений. Блестящий индийский математик начала 20-го века Шриниваса Рамануджан рассматривал ноль как символ Бога, кажущегося небытия и непроявленного потенциала, из которого возникает все, а бесконечность — как развертывание этого потенциала в творении. В период Упанишад символические образы превратились в символические слова, порожденные интуицией, а не рациональным мышлением. Они стремились изобразить истины существования, а не описать и объяснить их в рациональных терминах.
Кажется вероятным, что они были результатом интуитивных способностей ума, которые уже плохо развиты или могут однажды стать гораздо более распространенными, так как способность читать, писать и считать когда-то была редким даром и считалась признаком зрелости. гений. Блестящий индийский математик начала 20-го века Шриниваса Рамануджан рассматривал ноль как символ Бога, кажущегося небытия и непроявленного потенциала, из которого возникает все, а бесконечность — как развертывание этого потенциала в творении. В период Упанишад символические образы превратились в символические слова, порожденные интуицией, а не рациональным мышлением. Они стремились изобразить истины существования, а не описать и объяснить их в рациональных терминах.
На самом деле все слова являются символами. Все мысли, концепции, теории и модели являются символами. Это ментальные формы или образы, используемые разумом для представления реальности, но не самой реальности. Сегодня мы используем ту же символическую способность разума, чтобы наполнить силой денежную купюру, обручальное кольцо, полицейский значок, научную гипотезу и докторскую степень. Поскольку первобытный человек стал принимать символ как реальность, сегодня мы часто принимаем за истину современные научные теории, а не абстрактные представления истины, и конструируем математические или концептуальные модели реальности за саму реальность. Сложные научные теории, философские системы и теологические доктрины, повлиявшие на развитие знаний и эволюцию общества, — все это попытки представить истины существования в символической форме, доступной человеческому мышлению и общению.
Поскольку первобытный человек стал принимать символ как реальность, сегодня мы часто принимаем за истину современные научные теории, а не абстрактные представления истины, и конструируем математические или концептуальные модели реальности за саму реальность. Сложные научные теории, философские системы и теологические доктрины, повлиявшие на развитие знаний и эволюцию общества, — все это попытки представить истины существования в символической форме, доступной человеческому мышлению и общению.
3.2. Причинность и изобретательность
Мысли — это средство связывания вещей друг с другом. Способность связывать две или более вещей является основной характеристикой мышления. Но корреляция отличается от причинно-следственной связи. Символическое мышление приписывает вещам значение и силу, но не обязательно представляет причинно-следственные связи. Способность связывать причину со следствием — это более развитая сила мышления, необходимая для развития цивилизации.
Можно задаться вопросом, почему первобытным людям понадобилось так много времени, чтобы научиться имитировать естественные процессы, происходящие прямо у них на глазах. Изобретение сельского хозяйства произошло около 10 000 лет назад и стало необходимым условием для эволюции человеческих цивилизаций. Сейчас мы можем только догадываться об умственных процессах, которые привели к изобретению сельского хозяйства. Открытие того, какие растения, плоды, листья, корни и цветы съедобны и питательны, должно было занять многие десятки тысячелетий. Наблюдение за тем, где они росли и когда цвели и созревали, должно быть, заняло еще больше времени. Но понимания этих отношений было недостаточно для возникновения земледелия. Без языка эти наблюдения не могли быть переданы. Без письменности их можно было сохранить только путем устной передачи из поколения в поколение.
Древнему человеку также было необходимо внимательно следить за взаимосвязью между культурами, типами почвы, дождем, солнечным светом, температурой и сменой времен года. Долгий медленный процесс подсознательного наблюдения в конце концов должен был привести к первому сознательному осознанию того, что люди могут воспроизвести и даже улучшить естественный процесс. Вместо того чтобы бродить по земле в поисках пищи, человеческие сообщества научились подражать природе. Это способствовало развитию сложных когнитивных навыков для планирования, организации, специализации функций и своевременного выполнения сложных последовательностей действий. Это привело к концепции земли как собственности и принципам, регулирующим собственность. Сельскохозяйственные излишки стимулировали развитие торговли и появление денег как символической формы социальной власти. Поле человеческой продуктивности сместилось с земли на рынок, с труда на земле на взаимовыгодное взаимодействие с другими людьми. Это стимулировало рост торговых центров, городов, королевств и заморских империй.
Долгий медленный процесс подсознательного наблюдения в конце концов должен был привести к первому сознательному осознанию того, что люди могут воспроизвести и даже улучшить естественный процесс. Вместо того чтобы бродить по земле в поисках пищи, человеческие сообщества научились подражать природе. Это способствовало развитию сложных когнитивных навыков для планирования, организации, специализации функций и своевременного выполнения сложных последовательностей действий. Это привело к концепции земли как собственности и принципам, регулирующим собственность. Сельскохозяйственные излишки стимулировали развитие торговли и появление денег как символической формы социальной власти. Поле человеческой продуктивности сместилось с земли на рынок, с труда на земле на взаимовыгодное взаимодействие с другими людьми. Это стимулировало рост торговых центров, городов, королевств и заморских империй.
3.3. Ранние цивилизации
Археологи связывают возникновение ранних цивилизаций с четырьмя важными социальными событиями: изобретением письменности, созданием городов с монументальной архитектурой, специализацией труда и организованной религией. 14 Организация — это характерная сила и действие разума. Ум организует объекты, идеи, убеждения, людей, деятельность, события и бесчисленное множество других вещей. Цивилизация представляет собой внешнюю организацию жизни коллектива. Это стало возможным благодаря дальнейшему развитию ряда умственных способностей и познавательных способностей.
14 Организация — это характерная сила и действие разума. Ум организует объекты, идеи, убеждения, людей, деятельность, события и бесчисленное множество других вещей. Цивилизация представляет собой внешнюю организацию жизни коллектива. Это стало возможным благодаря дальнейшему развитию ряда умственных способностей и познавательных способностей.
Развитие письменности около 5000 лет назад требовало изощренных способностей для точного определения, организации мысли и выражения, а также формулирования грамматических правил. Развитие городов включало упорядоченное физическое расположение структур, разделение и категоризацию деятельности, иерархическое расположение власти и принятия решений. Специализация функций требовала способности разбивать сложные действия на части, организовывать последовательность шагов и координировать отношения между несколькими действиями.
Развитие религиозной символики и ритуала задолго до появления организованной религии, сочетающей в себе мысленное построение верований и этических правил поведения, иерархическую организацию власти, социальную организацию сообщества и физическую организацию событий. Тесная и структурированная ассоциация между более крупными группами людей в городах стала катализатором быстрого развития права, формальных систем мер и весов, торговли, развития денег, государственного управления, совместного управления и образования. Сочетание этих способностей требовало систематического применения умственных способностей на трех уровнях — умственном, социальном и физическом.
Тесная и структурированная ассоциация между более крупными группами людей в городах стала катализатором быстрого развития права, формальных систем мер и весов, торговли, развития денег, государственного управления, совместного управления и образования. Сочетание этих способностей требовало систематического применения умственных способностей на трех уровнях — умственном, социальном и физическом.
3.4. Разделяющий разум
Определение, категоризация, организация, специализация, координация и иерархия являются сложными человеческими способностями, основанными на способности разума различать аспекты реальности, сравнивать и противопоставлять их, а также выражать их отношения друг с другом с точки зрения пространства, времени, характеристик , функция, авторитет, действие и причинность. Эти способности проистекают из силы разума для деления и агрегирования.
Разум в первую очередь и по существу является инструментом разделения. В своем стремлении к знанию характерным действием ума является разделение реальности на части и обращение с каждой из частей как с независимым целым. Он различает и классифицирует эти части путем сравнения и контраста15. Земля представляет собой неделимое целое, но разум воспринимает ее по частям, разделяя на географические, геологические и климатические области, каждая со своими особенностями. Все люди обладают общими характеристиками, но их можно различать и сортировать по размерам, полу, возрасту, родственным связям, месту происхождения, навыкам и т. д. Выявление различий является основой умственной способности определения, очерчивания характеристик. , свойства, качества, категории, территории, социальное положение, род занятий, полномочия, привилегии, разновидности поведения, черты личности, виды растений и животных, типы полезных ископаемых и т. д. Существует бесчисленное множество способов, которыми элементы любого целого могут быть отличающиеся друг от друга. Следовательно, существует неограниченное количество способов, которыми реальность может быть разделена и подразделена. Так, Википедия перечисляет 27 видов снега, а у эскимосов Скандинавии есть более 200 слов для описания различных разновидностей снега и льда.
Он различает и классифицирует эти части путем сравнения и контраста15. Земля представляет собой неделимое целое, но разум воспринимает ее по частям, разделяя на географические, геологические и климатические области, каждая со своими особенностями. Все люди обладают общими характеристиками, но их можно различать и сортировать по размерам, полу, возрасту, родственным связям, месту происхождения, навыкам и т. д. Выявление различий является основой умственной способности определения, очерчивания характеристик. , свойства, качества, категории, территории, социальное положение, род занятий, полномочия, привилегии, разновидности поведения, черты личности, виды растений и животных, типы полезных ископаемых и т. д. Существует бесчисленное множество способов, которыми элементы любого целого могут быть отличающиеся друг от друга. Следовательно, существует неограниченное количество способов, которыми реальность может быть разделена и подразделена. Так, Википедия перечисляет 27 видов снега, а у эскимосов Скандинавии есть более 200 слов для описания различных разновидностей снега и льда.
Разделение — источник способности ума к аналитическому мышлению. Чем больше он разделяет, тем больше он различает, разделяет, сравнивает и противопоставляет вещи друг другу. Приходит рассмотрение каждой вещи как отдельного объекта действительности, отличного от всех других. Разделение также приводит к абстрагированию объектов от их контекста. Таким образом, мы наблюдаем спелый плод манго как нечто отдельное и отличное от незрелого плода, несъедобных листьев, ветвей и ствола дерева, на котором он растет, почвы, в которой посажено дерево, солнечного света и дождя, которыми он питается. , и сезон, в котором он созревает. Точно так же ум отделяет нас друг от друга и от окружающего мира. Он отделяет поиск и распространение знаний через науку и образование от жизни общества. Он даже разделяет наше собственное внутреннее психологическое существование на мысли, мнения, убеждения, чувства, эмоции, чувства, побуждения, желания, импульсы и ощущения. Способность разума к разделению является источником основополагающих концепций современной науки — картезианского разделения между разумом и телом, независимости наблюдателя и объекта и различия между объективными и субъективными формами опыта.
Разум также обладает дополнительной способностью объединять элементы реальности, которые он разделил, чтобы построить некоторое представление о большем целом, частями которого они являются. Разум синтезирует части, порожденные анализом, для создания большего целого. Поскольку разделение реальности на части всегда основано на определенном наборе характеристик и различий, объединение элементов в единое целое также зависит от характеристик, используемых для их повторной сборки. Современная наука идентифицировала широкий спектр микроэлементов, известных как витамины, которые получены из самых разных самых разных источников и поддерживают весь спектр физиологических функций, но сгруппированы вместе, чтобы составить единое целое. В этом случае требуемое очень малое количество является общим фактором между ними, который служит основой для объединения в остальном очень непохожих веществ. Целое никогда не может быть полностью представлено совокупностью его частей, так же как живое человеческое тело не может быть представлено суммой всех минералов, молекул, типов клеток, анатомических органов, физиологических функций и систем, из которых оно состоит. . Таким образом, целое больше, чем сумма его частей, как сказал Аристотель. Анализ и синтез, способность разума разделять и объединять реальность лежат в основе всех ментальных знаний, языки разума развились, чтобы сформулировать и выразить это знание, и цивилизации, возникшие в результате этих разработок.
. Таким образом, целое больше, чем сумма его частей, как сказал Аристотель. Анализ и синтез, способность разума разделять и объединять реальность лежат в основе всех ментальных знаний, языки разума развились, чтобы сформулировать и выразить это знание, и цивилизации, возникшие в результате этих разработок.
3.5. Рождение Разума
То, что описано выше, является упрощенным представлением первичных стадий ментальной эволюции в доисторические времена, приведших к созданию письменности и основанию цивилизаций. Способность разума к острому физическому наблюдению, формированию символов и языка, определению, категоризации, корреляции, организации и причинно-следственной связи развивалась постепенно в течение очень длительных периодов времени в разных местах и росла благодаря контактам, обмену и подражанию между ранними цивилизациями.
Мышление изначально. Формулировка принципов обоснованного рассуждения была более поздним изобретением. Символическое и интуитивное знание древней Индии превратилось в древнегреческое концептуальное знание, основанное на рациональном мышлении, и дало начало развитию формальной логики. Они размышляли над природой определения и стремились определить принципы эффективного рассуждения. Греки стремились представить реальность в терминах, понятных рационально мыслящему уму. Египтяне были озабочены практическим применением геометрии. Греки превратили практические инструменты геометрии, разработанные в Древнем Египте, в принципы, подтвержденные формальными доказательствами, основанными на логических рассуждениях. Греция жила в мире идей, которые считались ценными сами по себе, а не только из-за их практической полезности.
Они размышляли над природой определения и стремились определить принципы эффективного рассуждения. Греки стремились представить реальность в терминах, понятных рационально мыслящему уму. Египтяне были озабочены практическим применением геометрии. Греки превратили практические инструменты геометрии, разработанные в Древнем Египте, в принципы, подтвержденные формальными доказательствами, основанными на логических рассуждениях. Греция жила в мире идей, которые считались ценными сами по себе, а не только из-за их практической полезности.
Греция ознаменовала собой переход от практически действенного знания к идеативной истине, утверждаемой рациональными мыслительными процессами. Сочетание и соотношение мыслей привели к развитию сложных абстрактных идей и теорий познания. Рождение логики значительно увеличило способность разума к анализу за счет уточнения определений и усовершенствования мыслительных процессов. Развитие логики совпало с представлением о том, что вселенная по существу является рациональным местом, которое может быть объяснено в рациональных терминах. 16 Греки установили науку как стремление к познанию рациональной вселенной, познаваемой посредством наблюдения и разума. Их наука была широкой и безграничной, не ограниченной узкими понятийными рамками и не отрезанной от других форм знания. Она охватила как естествознание, так и философию. Они развили демократию, математику, образование, формализовали роль гипотез и доказательств в законе и основали медицину на наблюдении за симптомами и рациональной диагностике.
16 Греки установили науку как стремление к познанию рациональной вселенной, познаваемой посредством наблюдения и разума. Их наука была широкой и безграничной, не ограниченной узкими понятийными рамками и не отрезанной от других форм знания. Она охватила как естествознание, так и философию. Они развили демократию, математику, образование, формализовали роль гипотез и доказательств в законе и основали медицину на наблюдении за симптомами и рациональной диагностике.
Эллинский период был примечателен развитием правил различения с помощью разума и логики, а также правил общения посредством риторики и диалектики в поисках метафизической и научной истины. Но он также применял аналитическое мышление к вопросам справедливости, правильного и неправильного, этики и морали, которые лежат в основе организованной религии и социальной мысли. Его рационализм также не помешал Платону, Аристотелю и другим превозносить достоинства интуиции в их мистических поисках постижения трансцендентных духовных истин. 17 Древние греки также преуспели в применении эстетических способностей разума для творчества, оценки и наслаждения в литературе, архитектура и скульптура. Они изобрели самые разнообразные выразительные литературные формы — исторические, эпические, философские, трагедийные и комедийные, пастырские и лирические, ораторские и дидактические. Разум, проницательность, суждение, воображение и интуиция — все это способствовало расцвету эллинской цивилизации.
17 Древние греки также преуспели в применении эстетических способностей разума для творчества, оценки и наслаждения в литературе, архитектура и скульптура. Они изобрели самые разнообразные выразительные литературные формы — исторические, эпические, философские, трагедийные и комедийные, пастырские и лирические, ораторские и дидактические. Разум, проницательность, суждение, воображение и интуиция — все это способствовало расцвету эллинской цивилизации.
Греческая цивилизация была необычна еще в одном отношении. Он утверждал ценность индивидуальности и индивидуальной уникальности. Древние греки никогда не позволяли строгим правилам логики или механическим законам природы посягать на место независимого мышления, свободы воли и творческого воображения. Они почитали математику, но презирали бы неразборчивое применение статистической вероятности применительно к сознательным человеческим существам.
Что больше всего впечатляет в греческой культуре, так это ее инклюзивность, чувство меры, баланс и гармония. Греки, возможно, уникальные в истории, одновременно стремились к знаниям во всех областях и всеми средствами — в философии, метафизике, политике, религии, искусстве и прикладных науках. Они утверждали интуицию и логику, эстетическую чувствительность, математическую точность и этическую совесть. Они охватывали объективные и субъективные измерения реальности. Они применяли аналитические способности ума с большой глубиной и точностью, но никогда не упускали из виду большую реальность, которую затмевает сосредоточенность на мельчайших деталях. Они достигли этого благодаря удивительной терпимости и уважению разнообразия точек зрения. В то время как отдельные мыслители могли настойчиво провозглашать единственную реальность физического, их утверждениям не разрешалось затмевать или затемнять противоположные точки зрения. Это чувство всеохватности и соразмерности вполне может быть лучшим вкладом эллинизма в человечество. Это кажется тем более ценным в нынешнюю эпоху исключительной концентрации на объективном и физическом.
Греки, возможно, уникальные в истории, одновременно стремились к знаниям во всех областях и всеми средствами — в философии, метафизике, политике, религии, искусстве и прикладных науках. Они утверждали интуицию и логику, эстетическую чувствительность, математическую точность и этическую совесть. Они охватывали объективные и субъективные измерения реальности. Они применяли аналитические способности ума с большой глубиной и точностью, но никогда не упускали из виду большую реальность, которую затмевает сосредоточенность на мельчайших деталях. Они достигли этого благодаря удивительной терпимости и уважению разнообразия точек зрения. В то время как отдельные мыслители могли настойчиво провозглашать единственную реальность физического, их утверждениям не разрешалось затмевать или затемнять противоположные точки зрения. Это чувство всеохватности и соразмерности вполне может быть лучшим вкладом эллинизма в человечество. Это кажется тем более ценным в нынешнюю эпоху исключительной концентрации на объективном и физическом. Древняя Греция смогла собрать воедино впечатляющий набор точек зрения, но она не могла по-настоящему синтезировать и интегрировать их, чтобы сформировать всеобъемлющее представление о реальности.
Древняя Греция смогла собрать воедино впечатляющий набор точек зрения, но она не могла по-настоящему синтезировать и интегрировать их, чтобы сформировать всеобъемлющее представление о реальности.
Рим унаследовал греческое почтение к силам разума. Но в то время как в Греции основной областью применения были умственные знания и творческие искусства, разум Рима был сосредоточен на социальной организации. Рим использовал силу разума для организации жизни государства, права, вооруженных сил, экономики, образования, гражданского управления и гражданской жизни. Он разработал письменный свод законов и теорию юриспруденции. Он организовал образование, создав широко распространенную систему школ со стандартным учебным планом. Греция породила современный разум. Рим породил современные социальные институты. Греция развила интеллектуальные и эстетические способности ума до редкой высоты. Рим породил современное государство, основанное на культуре долга и дисциплины и основанное на развитии этических способностей. Греки поклонялись красоте. Римляне поклонялись характеру.
Греки поклонялись красоте. Римляне поклонялись характеру.
4. Возникновение эмпирической науки
В Средние века эволюция ума в Европе была подавлена на столетия крахом Римской империи, возвратом к феодальной социальной структуре и влиянием церковной доктрины. Важные события этого периода подготовили почву для взрывного всплеска ментальности, характерного для Ренессанса, Реформации и Просвещения.
4.1. Количественное определение реальности
Количественное определение — это неотъемлемая сила аналитической способности ума, которая делит реальность на все меньшие и меньшие части. Полное развитие аналитического мышления требовало разработки символов, понятий и логических принципов, регулирующих использование чисел. Древние греки уделяли особое внимание геометрическому применению чисел для измерения, например, в области архитектурного проектирования и астрономии. Индийцы добились важных успехов с развитием индуистских цифр и применением тригонометрии в астрономии в конце 5 века нашей эры. С усовершенствованием десятичной системы и решения неопределенных уравнений и добавлением нулевого символа в конце 910-м веке полностью утвердилась десятичная система позиционного счисления. Внедрение индийских цифр и алгебры в Европу из Аравии постепенно вытеснило римские цифры. Точная количественная оценка была распространена на многие области жизни. Использование букв вместо чисел в математике было введено в 13 веке. Операционные символы в арифметике были изобретены в 14 в. Это сопровождалось значительным изменением письменных обозначений. Порядок подлежащего, глагола и объекта, разделение отдельных букв на слова, предложения и абзацы, принятие пунктуации, заголовков глав, заголовков, перекрестных ссылок и алфавитного алфавита в качестве организующего принципа были крупными достижениями. В совокупности они способствовали распространению грамотности и использованию чисел. Распространение механических часов с конца 13 века усилило сознание времени. Развитие нотной записи объединило символы и математические понятия для обозначения как октавы, так и темпа.
С усовершенствованием десятичной системы и решения неопределенных уравнений и добавлением нулевого символа в конце 910-м веке полностью утвердилась десятичная система позиционного счисления. Внедрение индийских цифр и алгебры в Европу из Аравии постепенно вытеснило римские цифры. Точная количественная оценка была распространена на многие области жизни. Использование букв вместо чисел в математике было введено в 13 веке. Операционные символы в арифметике были изобретены в 14 в. Это сопровождалось значительным изменением письменных обозначений. Порядок подлежащего, глагола и объекта, разделение отдельных букв на слова, предложения и абзацы, принятие пунктуации, заголовков глав, заголовков, перекрестных ссылок и алфавитного алфавита в качестве организующего принципа были крупными достижениями. В совокупности они способствовали распространению грамотности и использованию чисел. Распространение механических часов с конца 13 века усилило сознание времени. Развитие нотной записи объединило символы и математические понятия для обозначения как октавы, так и темпа. Введение двойной записи, повлекшее за собой разделение активов и пассивов, дебета и кредита, значительно облегчило развитие торговли и банковского дела.
Введение двойной записи, повлекшее за собой разделение активов и пассивов, дебета и кредита, значительно облегчило развитие торговли и банковского дела.
4.2. Возвращение к природе
В то время как Греция сосредоточилась на применении разума к идеям, а Рим сосредоточился на организующей силе разума в обществе, современный период начался с интенсивной концентрации сил разума на физическом мире. Сила аналитического ума обратила свое внимание на физический мир Природы. Это породило методы исследования, которые заменили авторитет церковного учения подтверждением физическими наблюдениями.
Краткий обзор не может точно отразить многие этапы развития современной науки или сложный комплекс цивилизационных достижений, повлиявших на это развитие. Основание университетов, распространение знаний и повторное открытие греческого классического наследия постепенно восстановили выдающийся авторитет логических рассуждений и эмпирического опыта. Это привело к развитию индуктивного и систематического тестирования в 12 веке и возрождению математики, философии и метафизики в 13 веке. Коммерческая революция привела к важным инновациям в сельскохозяйственном производстве, производстве, предпринимательстве, торговле, судоходстве, банковском деле и страховании. Это, в свою очередь, породило буржуазию невиданного богатства и чувства независимости, что подстегнуло радикальную реорганизацию общества с усилением свободы и независимости от феодальной и церковной власти. Возрождение платоновской философии узаконило стремление к метафизической истине через число, геометрию и интуицию, заложив интеллектуальную основу для появления рационального, светского гуманизма и индивидуализма в 15 веке. распространение идей. Расцвет оригинальности в искусстве в сочетании с ростом индивидуализма породил понятие гениальности, понятие, неизвестное средневековому мировоззрению19.Реформация принесла с собой более терпимую и более светскую интеллектуальную атмосферу для рассмотрения альтернативных точек зрения в 16 веке. Основание научных обществ и научных журналов в 17 веке создало «невидимый колледж» независимых мыслителей, чтобы бросить вызов ортодоксальности, обменяться новыми идеями и исследовать новые открытия и изобретения.
Коммерческая революция привела к важным инновациям в сельскохозяйственном производстве, производстве, предпринимательстве, торговле, судоходстве, банковском деле и страховании. Это, в свою очередь, породило буржуазию невиданного богатства и чувства независимости, что подстегнуло радикальную реорганизацию общества с усилением свободы и независимости от феодальной и церковной власти. Возрождение платоновской философии узаконило стремление к метафизической истине через число, геометрию и интуицию, заложив интеллектуальную основу для появления рационального, светского гуманизма и индивидуализма в 15 веке. распространение идей. Расцвет оригинальности в искусстве в сочетании с ростом индивидуализма породил понятие гениальности, понятие, неизвестное средневековому мировоззрению19.Реформация принесла с собой более терпимую и более светскую интеллектуальную атмосферу для рассмотрения альтернативных точек зрения в 16 веке. Основание научных обществ и научных журналов в 17 веке создало «невидимый колледж» независимых мыслителей, чтобы бросить вызов ортодоксальности, обменяться новыми идеями и исследовать новые открытия и изобретения. В тот же период развился новый тип комбинаторной математики, основанный на анализе игровых ситуаций, который в конечном итоге породил индуктивный метод статистической вероятности. Распространение демократических идей в 18 веке способствовало свободе мысли и выражения. Распространение образования увеличило население, которое могло заниматься новыми идеями и научными открытиями и извлекать из них пользу. Все эти факторы приобрели гораздо большее значение, когда промышленная революция продемонстрировала огромную силу науки в создании богатства и военной мощи в XIX веке.век. Хотя большинство ранних изобретений этого периода были разработаны опытными механиками, а не обученными учеными, вскоре стало очевидно, что систематическое изучение научных принципов может значительно улучшить процесс инноваций. Соединение науки, техники и экономики стимулировало развитие технического образования в области инженерии, сельского хозяйства и медицины.
В тот же период развился новый тип комбинаторной математики, основанный на анализе игровых ситуаций, который в конечном итоге породил индуктивный метод статистической вероятности. Распространение демократических идей в 18 веке способствовало свободе мысли и выражения. Распространение образования увеличило население, которое могло заниматься новыми идеями и научными открытиями и извлекать из них пользу. Все эти факторы приобрели гораздо большее значение, когда промышленная революция продемонстрировала огромную силу науки в создании богатства и военной мощи в XIX веке.век. Хотя большинство ранних изобретений этого периода были разработаны опытными механиками, а не обученными учеными, вскоре стало очевидно, что систематическое изучение научных принципов может значительно улучшить процесс инноваций. Соединение науки, техники и экономики стимулировало развитие технического образования в области инженерии, сельского хозяйства и медицины.
Замечательные достижения науки за последние четыре столетия слишком обширны и самоочевидны, чтобы дать им адекватное описание в этой статье. Основное внимание здесь уделяется тому глубокому влиянию, которое подъем эмпирической науки и научная революция оказали на нашу концепцию знания и на то, как мы используем силу разума для его открытия. Если кажется, что чрезмерное внимание уделяется ограничениям и непреднамеренным последствиям науки как стремления к знаниям, то это делается с надеждой на то, что более глубокое понимание этих ограничений и последствий позволит понять необходимость и потенциал для разработки более эффективных инструментов познания. и более успешные формы цивилизации в 21 веке.
Основное внимание здесь уделяется тому глубокому влиянию, которое подъем эмпирической науки и научная революция оказали на нашу концепцию знания и на то, как мы используем силу разума для его открытия. Если кажется, что чрезмерное внимание уделяется ограничениям и непреднамеренным последствиям науки как стремления к знаниям, то это делается с надеждой на то, что более глубокое понимание этих ограничений и последствий позволит понять необходимость и потенциал для разработки более эффективных инструментов познания. и более успешные формы цивилизации в 21 веке.
4.3. Разум и научный метод
Наша главная забота — взаимосвязь между этими разработками и нашим подходом к пониманию мира. Физические наблюдения, измерения, аналитическое мышление и экспериментирование легли в основу современной науки. Отправной точкой было детальное и тщательное наблюдение за физическими явлениями, которые могли быть независимо проверены другими наблюдателями. Научные инструменты были разработаны, чтобы расширить возможности чувств и повысить их точность. Но настоящая сила современной науки возникла в результате сочетания наблюдения и измерения с аналитическим мышлением.
Но настоящая сила современной науки возникла в результате сочетания наблюдения и измерения с аналитическим мышлением.
Коперниканская революция подчеркнула ограниченность сенсорных данных как основы знания. С древних времен было известно, что чувственные впечатления могут искажать действительность. Коперник применил логику и точную математику, чтобы опровергнуть представление о том, что все небесные тела движутся вокруг Земли. Галилей подтвердил это еретическое мнение, используя телескоп для наблюдения за четырьмя спутниками, вращающимися вокруг Юпитера. Открытие Коперника привело к формулированию радикально иного мировоззрения, противоречащего как показаниям органов чувств, так и господствующей концепции. Это положило начало тому, что Кун назвал научной революцией, основанной на новой концептуальной системе и новом методе познания реальности.20
Ньютон объединил острое наблюдение, точные измерения, рефлексивное аналитическое мышление и математику, чтобы изменить то, как наука смотрела на мир на три столетия. Его открытие универсальных законов природы и невидимой силы гравитации оказало глубокое влияние на наше представление о реальности и знаниях. Ньютон применил новые концепции и новую математику, чтобы прийти к более точному пониманию физического мира. Концепция непреложных законов, управляющих упорядоченной, машиноподобной вселенной, стала научной концепцией. Его работа стимулировала развитие математики как самостоятельной области знаний и как инструмента познания, применимого ко всем областям существования. Как следствие, современная наука стала отождествлять достоверное знание с математическим доказательством и искать знание там, где свет математики может ярко сиять.
Его открытие универсальных законов природы и невидимой силы гравитации оказало глубокое влияние на наше представление о реальности и знаниях. Ньютон применил новые концепции и новую математику, чтобы прийти к более точному пониманию физического мира. Концепция непреложных законов, управляющих упорядоченной, машиноподобной вселенной, стала научной концепцией. Его работа стимулировала развитие математики как самостоятельной области знаний и как инструмента познания, применимого ко всем областям существования. Как следствие, современная наука стала отождествлять достоверное знание с математическим доказательством и искать знание там, где свет математики может ярко сиять.
4.4. Интеллектуальное влияние и культурные последствия
Возникновение современной науки коренным образом изменило курс глобальной цивилизации, эволюцию человеческого разума и развитие нашей концепции знания.
- Физикализм: Он привел к материализации знания.
 Исключительное внимание к знанию физической природы в конечном итоге привело к неявной предпосылке или явной вере в то, что физическое является единственным планом реальности, вывод, который Ньютон и другие ранние ученые решительно отвергли. Эта предпосылка сейчас распространена даже в социальных науках, где генетика и неврология стремятся раскрыть механизмы, управляющие психологией и даже сознательным мышлением.
Исключительное внимание к знанию физической природы в конечном итоге привело к неявной предпосылке или явной вере в то, что физическое является единственным планом реальности, вывод, который Ньютон и другие ранние ученые решительно отвергли. Эта предпосылка сейчас распространена даже в социальных науках, где генетика и неврология стремятся раскрыть механизмы, управляющие психологией и даже сознательным мышлением. - Детерминированный механизм: Научная революция привела к концепции знания как набора неизменных универсальных законов, определяющих функционирование статической, механической вселенной. Знание реальности стало синонимом уверенности и предсказуемости, пока почти три столетия спустя ему не бросили вызов открытия квантовой механики. Вне физики эта предпосылка остается в значительной степени неоспоримой. Ньютоновские поиски неизменных универсальных законов природы позже были расширены, чтобы определить универсальные законы, управляющие политикой, экономикой и обществом.
 В течение последних двух столетий экономисты пытались свести человеческое поведение и взаимодействие к внешним факторам и механистическим процессам, управляемым универсальными принципами. Изучение общих принципов затемнило уникальную роль личности в социальном развитии, инновациях, открытиях и творчестве. Механический взгляд на реальность привел к отрицанию свободы воли человека как явления и пренебрежению индивидуальной уникальностью.
В течение последних двух столетий экономисты пытались свести человеческое поведение и взаимодействие к внешним факторам и механистическим процессам, управляемым универсальными принципами. Изучение общих принципов затемнило уникальную роль личности в социальном развитии, инновациях, открытиях и творчестве. Механический взгляд на реальность привел к отрицанию свободы воли человека как явления и пренебрежению индивидуальной уникальностью. - Специализация: Способность разума к разделению и аналитическому мышлению неизбежно привела к распространению отдельных дисциплин, к специализации и дроблению знаний с огромными последствиями. За последние пять столетий количество интеллектуальных дисциплин увеличилось с пяти до примерно 1000 дисциплин и субдисциплин. По мере того, как изучение реальности делится на все более и более мелкие части, специализация привела к увеличению фрагментации знаний. Независимый просмотр каждого поля дал точное знание частей, но затемнил сложные взаимодействия и отношения между элементами, которые необходимы для знания целого.

- Количественная оценка знаний: Это привело также к количественной оценке реальности — смешению данных и информации с реальными знаниями и неправильному представлению о том, что математические модели и статистическая вероятность являются истинными и точными представлениями реального мира. Математика — чрезвычайно мощный инструмент для открытия и проверки знаний. Но все чаще его стали рассматривать как само знание. В теории струн математическая непротиворечивость стала заменой измеримых, поддающихся проверке свидетельств. Присуждение двух Нобелевских премий по экономике за разработку компьютерных алгоритмов, моделирующих функционирование финансовых рынков, является лишь крайним примером широко распространенного явления. Его последствия во время финансовых кризисов 1998 и 2008 подчеркивают крайнюю опасность ошибочного принятия моделей за реальность и математических формул за знания.
- Измерение случайности и неопределенности: непреднамеренным следствием научной революции стало новое определение понятия случайности.
 Представление о Вселенной как о гигантском механизме, подчиненном универсальным законам причинности, позволило постулировать и ее противоположность, полное отсутствие причинности, чистую случайность21. Развитие теории вероятностей, первоначально направленное на получение знаний о сложных причинных процессах, но позже он был применен к ситуациям, которые, как предполагалось, характеризуются полным отсутствием причинности. Слияние вероятности и статистики в начале 20 века привело к появлению новой гибридной области математической статистики. Под влиянием позитивизма философское измерение причинности было отброшено, и вероятность стала рассматриваться чисто математически как выражение случайности22. Применение апостериорной индукции для установления вероятности будущих событий резко расширило применение математики к гуманитарных наук с глубокими последствиями23. Понятия неопределенности и случайности были непреднамеренно возведены из философских вопросов в статус объективных научных фактов.
Представление о Вселенной как о гигантском механизме, подчиненном универсальным законам причинности, позволило постулировать и ее противоположность, полное отсутствие причинности, чистую случайность21. Развитие теории вероятностей, первоначально направленное на получение знаний о сложных причинных процессах, но позже он был применен к ситуациям, которые, как предполагалось, характеризуются полным отсутствием причинности. Слияние вероятности и статистики в начале 20 века привело к появлению новой гибридной области математической статистики. Под влиянием позитивизма философское измерение причинности было отброшено, и вероятность стала рассматриваться чисто математически как выражение случайности22. Применение апостериорной индукции для установления вероятности будущих событий резко расширило применение математики к гуманитарных наук с глубокими последствиями23. Понятия неопределенности и случайности были непреднамеренно возведены из философских вопросов в статус объективных научных фактов.
- Доминирование цели: Современная наука началась с исключительного внимания к изучению наблюдаемых внешних явлений в материальном мире, которые поддавались измерению, проверке и экспериментированию. Это привело к возникновению философии позитивизма, основанной на предпосылке, что информация, полученная из чувственного опыта, интерпретируемая с помощью разума и логики, образует исключительную основу для всех авторитетных знаний. Подлинными могут считаться только те знания, которые могут быть проверены независимо. Таким образом, действительны только знания об объективном мире и знания, полученные объективными методами. Изучение субъективных явлений и субъективных форм доказательств стало недопустимым и недействительным. Интроспективное и интуитивное знание отвергалось. В 20 веке логический позитивизм отверг метафизику как чистую спекуляцию и попытался свести утверждения и предложения к чистой логике.
Вклад современной науки в развитие цивилизации неизмерим. Даже его склонность к исключительной концентрации на физическом, объективном мире, измеримом, количественном и универсальном оказала огромное благотворное влияние. Материализм стер многое из того, что было просто суеверным или спекулятивным. Его непочтительный вопрос о признанных истинах разбудил ненасытное любопытство и дух приключений. Его безжалостный отказ от необоснованных мнений и предубеждений помог дисциплинировать мыслящий ум, чтобы оспаривать мнения, отбрасывать предпочтения и предрассудки, подвергать сомнению общепринятые убеждения и бросать вызов установленным авторитетам. Даже его атеизм помог очистить религию от набожного позерства и бессмысленного морализаторства. Она послужила основой для демократизации нашей жизни, а также наших умов, по крайней мере, в пределах мира, как их воспринимает и понимает наука.
Даже его склонность к исключительной концентрации на физическом, объективном мире, измеримом, количественном и универсальном оказала огромное благотворное влияние. Материализм стер многое из того, что было просто суеверным или спекулятивным. Его непочтительный вопрос о признанных истинах разбудил ненасытное любопытство и дух приключений. Его безжалостный отказ от необоснованных мнений и предубеждений помог дисциплинировать мыслящий ум, чтобы оспаривать мнения, отбрасывать предпочтения и предрассудки, подвергать сомнению общепринятые убеждения и бросать вызов установленным авторитетам. Даже его атеизм помог очистить религию от набожного позерства и бессмысленного морализаторства. Она послужила основой для демократизации нашей жизни, а также наших умов, по крайней мере, в пределах мира, как их воспринимает и понимает наука.
Каждая из этих характеристик положительно повлияла на продвижение научных знаний и частично ответственна за их коллективные достижения за последние пять столетий. В то же время каждый из них наложил произвольные ограничения на развитие познания. После четырех столетий победоносного правления сегодня мы видим, как слабости и недостатки современной науки поднимаются на поверхность, глядя на нас своими неприкрытыми недостатками и вопиющими недостатками. Байерс использовал термин «слепые пятна» для внутренних ограничений того, что может быть известно посредством науки.24 Нам надлежит великодушно признать его огромный вклад, но в равной степени признать и исследовать его ошибки, упущения, слепые пятна, предрассудки, напыщенные предположения. , суеверия и нетерпимость — те самые характеристики, против которых она впервые поднялась в восстании и с тех пор веками боролась за устранение. Беспристрастное рассмотрение их роли поможет нам понять как сильные, так и слабые стороны современной науки и выявить возможности для дальнейшего развития как знания, так и цивилизации.
В то же время каждый из них наложил произвольные ограничения на развитие познания. После четырех столетий победоносного правления сегодня мы видим, как слабости и недостатки современной науки поднимаются на поверхность, глядя на нас своими неприкрытыми недостатками и вопиющими недостатками. Байерс использовал термин «слепые пятна» для внутренних ограничений того, что может быть известно посредством науки.24 Нам надлежит великодушно признать его огромный вклад, но в равной степени признать и исследовать его ошибки, упущения, слепые пятна, предрассудки, напыщенные предположения. , суеверия и нетерпимость — те самые характеристики, против которых она впервые поднялась в восстании и с тех пор веками боролась за устранение. Беспристрастное рассмотрение их роли поможет нам понять как сильные, так и слабые стороны современной науки и выявить возможности для дальнейшего развития как знания, так и цивилизации.
4.5. Объективность и субъективность
Первоначальная концентрация современной науки на физической природе была оправдана как логический выбор и практическая необходимость. Возникновение позитивизма превратило практическую необходимость в философскую догму, имеющую глубокие последствия для развития науки и дальнейшей эволюции сознания. Переходу способствовала путаница в отношении двусмысленности терминов «объективность» и «субъективность», каждое из которых имеет двойное значение. Изучение физической природы — это изучение неодушевленных объектов и бессознательных форм жизни, которые можно наблюдать объективно («наблюдать как объект») во внешней среде, поскольку мы не имеем доступа к их субъективным намерениям или самоощущению. Дуализм тела и разума Декарта поощрял идею ученого как объективного («беспристрастного») свидетеля, стоящего вне природы, а не как вовлеченного участника мира, который он наблюдает. Постепенно понятие объективности как изучения внешних объектов без беспристрастности слилось с совершенно иным понятием объективности как отсутствия «искажающих личных предпочтений» субъекта и стало рассматриваться как одно и то же. В конце концов это привело к философской предпосылке, согласно которой реальность состоит исключительно из объектов, которые можно изучать объективно, и, следовательно, к тому, что все субъективные явления являются вторичными результатами объективных причин.
Возникновение позитивизма превратило практическую необходимость в философскую догму, имеющую глубокие последствия для развития науки и дальнейшей эволюции сознания. Переходу способствовала путаница в отношении двусмысленности терминов «объективность» и «субъективность», каждое из которых имеет двойное значение. Изучение физической природы — это изучение неодушевленных объектов и бессознательных форм жизни, которые можно наблюдать объективно («наблюдать как объект») во внешней среде, поскольку мы не имеем доступа к их субъективным намерениям или самоощущению. Дуализм тела и разума Декарта поощрял идею ученого как объективного («беспристрастного») свидетеля, стоящего вне природы, а не как вовлеченного участника мира, который он наблюдает. Постепенно понятие объективности как изучения внешних объектов без беспристрастности слилось с совершенно иным понятием объективности как отсутствия «искажающих личных предпочтений» субъекта и стало рассматриваться как одно и то же. В конце концов это привело к философской предпосылке, согласно которой реальность состоит исключительно из объектов, которые можно изучать объективно, и, следовательно, к тому, что все субъективные явления являются вторичными результатами объективных причин.
Слово субъективность также имеет два значения, которые постепенно соединились и смешались друг с другом. Субъективность («опыт как субъект») — психологическое поле сознательного человеческого опыта, недоступное непосредственно внешнему наблюдению. Только его поведенческие проявления могут наблюдать другие. Но он также используется для объединения субъективных («лично предвзятых и предпочтительных») факторов, внесенных наблюдателем, таких как предвзятые представления и предрассудки, наследие традиционных верований и суеверий, распространенных в то время.25 В своем стремлении к беспристрастному знанию физического объектов окружающего мира, упор, естественно, делался на устранение этого искажающего влияния. Таким образом, идея субъективности как психологического опыта сознательного индивида стала рассматриваться как ненаучная и недействительная форма свидетельства и в какой-то степени недействительная форма опыта. Как в анекдоте о человеке, потерявшем ключи на темной улице и искавшем их в квартале под уличным фонарем, где было лучше освещено, наука стремилась открыть окончательное знание путем исключительного изучения физических факторов, которые можно было бы наблюдать с помощью физическими чувствами и измеряется материальными инструментами. При этом все субъективное измерение реальности, то измерение, которое отличает человека от всех других видов, было подчинено объективному измерению, наблюдаемому органами чувств. В конце концов это привело к философским и научным попыткам свести все нефизические явления исключительно к физическим причинам.
При этом все субъективное измерение реальности, то измерение, которое отличает человека от всех других видов, было подчинено объективному измерению, наблюдаемому органами чувств. В конце концов это привело к философским и научным попыткам свести все нефизические явления исключительно к физическим причинам.
Курс науки оказал тонкое влияние на развитие умственных способностей и понятий истины, знания и логики. Оно заменило греческое представление об истине как о том, что можно познать в форме чистых идей, доступных для логического рассуждения, но не обязательно для физического наблюдения или измерения. Сама рациональность стала тесно связана только с тем, что можно воспринять и проверить физически. Старая поговорка о том, что я поверю ей, когда увижу, приобрела статус научной догмы, даже когда применяется к аспектам реальности, недоступным для чувств. Это явление можно назвать материализацией знания.
4.6. Фрагментация реальности
Как можно больше разделяй и подразделяй реальность, и мы все равно приходим к какой-то меньшей части реальности, которая ускользает от нашего понимания. Бесконечно малое бесконечно. Доминирующая роль аналитического интеллекта в современной науке привела к расчленению знания на все более и более мелкие фрагменты, что привело к распространению специализированных областей исследования. Анализ — чрезвычайно мощный инструмент. Он использует разделяющую силу разума, чтобы разделить реальность на все более и более мелкие части. Поступая таким образом, мы приобретаем более точные и детальные знания о детали и соблазняемся углубляться в более глубокие уровни мельчайших деталей. По мере того, как его фокус сужается до лазерной точности, окружающие поля и взаимосвязанные аспекты реальности пропорционально теряют фокус и затемняются. Чем больше мы знаем часть, тем меньше мы знаем о целостности целого.
Бесконечно малое бесконечно. Доминирующая роль аналитического интеллекта в современной науке привела к расчленению знания на все более и более мелкие фрагменты, что привело к распространению специализированных областей исследования. Анализ — чрезвычайно мощный инструмент. Он использует разделяющую силу разума, чтобы разделить реальность на все более и более мелкие части. Поступая таким образом, мы приобретаем более точные и детальные знания о детали и соблазняемся углубляться в более глубокие уровни мельчайших деталей. По мере того, как его фокус сужается до лазерной точности, окружающие поля и взаимосвязанные аспекты реальности пропорционально теряют фокус и затемняются. Чем больше мы знаем часть, тем меньше мы знаем о целостности целого.
Физическая наука компенсировала эту склонность к разногласиям, объединив знания из различных специализированных областей, чтобы сформировать удивительно целостную и последовательную концепцию физической вселенной. Он успешно включил фундаментальные принципы физики в химию и принципы обоих в астрономию, геологию, материаловедение, климатологию, океанографию, почвоведение и бесчисленное множество других дисциплин. Хотя последовательно применяются одни и те же фундаментальные принципы, взаимодействие между вспомогательными областями, основанное на этих принципах, менее эффективно связано и интегрировано. Отчасти это связано со сложностью, возникающей из-за этих множественных взаимодействий, но также и с тем, что исследования и теоретизирование в значительной степени протекали раздельно. Яростные споры об изменении климата отчасти объясняются тем фактом, что в течение столь долгого времени сложный комплекс явлений, влияющих на климат, изучался по частям, независимо друг от друга.
Хотя последовательно применяются одни и те же фундаментальные принципы, взаимодействие между вспомогательными областями, основанное на этих принципах, менее эффективно связано и интегрировано. Отчасти это связано со сложностью, возникающей из-за этих множественных взаимодействий, но также и с тем, что исследования и теоретизирование в значительной степени протекали раздельно. Яростные споры об изменении климата отчасти объясняются тем фактом, что в течение столь долгого времени сложный комплекс явлений, влияющих на климат, изучался по частям, независимо друг от друга.
Последствия разделения и фрагментации становятся более очевидными, когда мы смотрим на науки о жизни. Здесь усилия по преодолению разделительных барьеров гораздо менее продвинуты. Междисциплинарные и междисциплинарные исследования стали более распространенными, но фундаментальные принципы, применяемые в разных областях, остаются в значительной степени автономными. В течение десятилетий эволюционная биология оставалась озабоченной исключительной ролью случайных мутаций в эволюции видов, игнорируя важные биологические факторы и факторы окружающей среды, влияющие на химию и биологию генетических материалов.
В медицине специализация привела к заметному прогрессу в нашем понимании конкретных патологий, но относительно малому научила нас относительно общей концепции здоровья. Более того, разрозненное лечение конкретных заболеваний часто имеет весьма пагубные последствия для общего состояния здоровья больного. В аллопатической медицине здоровье понимается прежде всего в негативном ключе как отсутствие болезни; в то время как в традиционных системах медицины, таких как Аюрведа, разработанных с опорой на более синтетические и интегративные психические процессы, здоровье понимается в положительном ключе как свойство сбалансированного и гармоничного живого организма. Это становится еще более очевидным, если принять во внимание психосоматические явления. Исследования «эффекта плацебо» ярко демонстрируют влияние отношения и ожиданий пациента на результаты лечения и общее состояние здоровья. Действительно, недавние результаты показывают, что эффект плацебо со временем усиливается. Это и другие явления, непосредственно связывающие физиологические и психологические процессы, свидетельствуют о необходимости гораздо более синтетического понимания и подхода.
5. Натурализация социальных наук
Каждая из шести описанных выше характеристик эмпирической науки оказала глубокое влияние на развитие разума, знаний и современной цивилизации. Пересмотр неявных и явных предпосылок, лежащих в основе современной науки, жизненно необходим для дальнейшего продвижения знаний во всех областях. Но ограничения преобладающего подхода наиболее очевидны именно в областях знаний, тесно связанных с проблемами, с которыми сталкивается человечество, пытаясь справиться с быстрой и радикальной глобальной социальной, экономической, политической, интеллектуальной, технологической и культурной эволюцией. Поэтому особенно необходимо рассмотреть вопрос о том, не является ли применение аналитических методов естественных наук к общественным наукам само по себе одной из коренных причин текущих проблем, стоящих сегодня перед человечеством.
При сравнении естественных и социальных наук необходимо учитывать существенные различия между этими двумя частями знаний. Наиболее очевидным является тот факт, что систематическое изучение физических и биологических явлений началось за несколько столетий до систематического применения научного метода к изучению общества. Для сравнения, социальные науки все еще находятся на очень ранней стадии развития. Кроме того, существует огромная разница в запутанности и сложности явлений, изучаемых в этих двух сферах. Живые организмы гораздо сложнее неодушевленных материальных объектов. Помимо того, что они обладают всеми атрибутами материальных вещей, они также накладываются на их физическую основу структурно-функциональными характеристиками и взаимодействиями с окружающей средой, отсутствующими в неорганических формах. Это чрезвычайно увеличивает сложность живых существ.
Наиболее очевидным является тот факт, что систематическое изучение физических и биологических явлений началось за несколько столетий до систематического применения научного метода к изучению общества. Для сравнения, социальные науки все еще находятся на очень ранней стадии развития. Кроме того, существует огромная разница в запутанности и сложности явлений, изучаемых в этих двух сферах. Живые организмы гораздо сложнее неодушевленных материальных объектов. Помимо того, что они обладают всеми атрибутами материальных вещей, они также накладываются на их физическую основу структурно-функциональными характеристиками и взаимодействиями с окружающей средой, отсутствующими в неорганических формах. Это чрезвычайно увеличивает сложность живых существ.
То же самое в еще большей степени относится к явлениям, изучаемым гуманитарными науками. К сложности физики, химии, биологии, генетики и наук о Земле добавляется сложность сознательных, самосознательных и целеустремленных человеческих существ, живущих в сложной социальной и культурной среде, взаимодействующих с бесчисленными социальными институтами и организованной деятельностью, использующих широкий спектр инструменты и инструменты, а также под влиянием накопленных знаний и опыта бесчисленных поколений человечества. Более того, уровень индивидуализации, сложности и уникальности, наблюдаемый у людей, намного выше, чем у других форм жизни. Поведение каждого электрона, каждого атома водорода и каждого красного кровяного тельца может быть одинаковым, но поведение каждого отдельного человека характеризуется очень большой степенью изменчивости и уникальности. Диапазон факторов, влияющих на поведение и результаты, не поддается исчислению. Применяются физические и биологические факторы, но решающую роль играют социальные, культурные и психологические факторы. Индивидуальность можно смело игнорировать при изучении физических и биологических явлений, но она занимает центральное место в познании сознательных человеческих существ.
Более того, уровень индивидуализации, сложности и уникальности, наблюдаемый у людей, намного выше, чем у других форм жизни. Поведение каждого электрона, каждого атома водорода и каждого красного кровяного тельца может быть одинаковым, но поведение каждого отдельного человека характеризуется очень большой степенью изменчивости и уникальности. Диапазон факторов, влияющих на поведение и результаты, не поддается исчислению. Применяются физические и биологические факторы, но решающую роль играют социальные, культурные и психологические факторы. Индивидуальность можно смело игнорировать при изучении физических и биологических явлений, но она занимает центральное место в познании сознательных человеческих существ.
5.1. Фрагментация в социальных науках
Проблема разделения знаний в социальных науках становится очевидной, если учесть, что каждая дисциплина разработала свой собственный набор фундаментальных принципов и применяет их относительно независимо от остальных. Политологи, экономисты, социологи, антропологи, юристы и ученые-менеджеры регулярно принимают различные концепции и гипотезы относительно человеческого поведения, но все они применяются к одному и тому же предмету — отдельным людям и группам отдельных людей. Никакие общепринятые принципы не применяются единообразно во всех областях.
Политологи, экономисты, социологи, антропологи, юристы и ученые-менеджеры регулярно принимают различные концепции и гипотезы относительно человеческого поведения, но все они применяются к одному и тому же предмету — отдельным людям и группам отдельных людей. Никакие общепринятые принципы не применяются единообразно во всех областях.
Последствия этой фрагментации очевидны в проблемах, с которыми мы сталкиваемся, связанных с ухудшением состояния окружающей среды, безработицей, политической нестабильностью, социальным отчуждением, преступностью, наркотиками и психологическими расстройствами. На протяжении двух столетий экономическая теория развивалась без серьезного учета влияния экономического поведения человека на физическую среду. Точно так же разработка и применение технологий в экономических целях осуществлялись без учета их влияния на занятость, социальную стабильность, благосостояние и благополучие людей. Многие экономисты-теоретики игнорируют центральную роль политического регулирования в успешном функционировании свободных и конкурентных рынков. Правовая теория все больше отрывается от политических принципов, социальных устремлений и прав человека. Гуманитарные права человечества отвергаются на основании правовых принципов, признающих права только суверенных наций, а не их граждан.
Правовая теория все больше отрывается от политических принципов, социальных устремлений и прав человека. Гуманитарные права человечества отвергаются на основании правовых принципов, признающих права только суверенных наций, а не их граждан.
Такая же фрагментация знаний происходит и в дисциплинах, поддерживающих увеличивающийся разрыв между различными аспектами нашего социального существования. Опираясь на разрозненные теоретические концепции, финансовые рынки оказались оторванными от реальной экономики и экономического благосостояния людей, для поддержки которых они изначально предназначались. Подобная фрагментация привела к трактовке широкого круга психологических проблем, как если бы они были просто физическими по происхождению.
Декартовское деление также изолирует и изолирует социальную науку от общества и социальных последствий ее теорий. Теоретики не несут ответственности за неудачи, возникающие в результате применения их ошибочных концепций, примером которых является глобальный кризис 2008 года. Ученые ведущих университетов отказываются признавать или применять выводы исследователей в области образования в том же учреждении о наиболее эффективной педагогике для содействия обучению. . Врачи получают лицензии без прохождения какой-либо подготовки по управлению отношениями с пациентами и их семьями. Список пробелов и коротких замыканий бесконечен.
Ученые ведущих университетов отказываются признавать или применять выводы исследователей в области образования в том же учреждении о наиболее эффективной педагогике для содействия обучению. . Врачи получают лицензии без прохождения какой-либо подготовки по управлению отношениями с пациентами и их семьями. Список пробелов и коротких замыканий бесконечен.
«Человеческая эволюция — это сложный сознательный процесс, включающий постоянное взаимодействие между объективными и субъективными измерениями, физическими фактами и ментальными представлениями, природными силами и человеческими устремлениями, творческими личностями и социальными группами».
5.2. Легитимность субъективного
Феноменальный успех естественных наук побудил первых социологов подражать и воспроизводить тот же подход. Открытие непреложных универсальных законов, управляющих физической вселенной, привело к поиску подобных принципов, применимых к обществу. Распространение понятия закона на сознательное человеческое поведение, индивидуальное и общественное, было источником бесконечной путаницы и ошибок. Управление политическими системами и функционирование наших экономик не определяются законом природы. Они являются результатом сознательного выбора, сделанного отдельными людьми и группами в прошлом, которые претерпели непрерывный процесс эволюции на протяжении веков и всегда могут быть изменены сознательным выбором. Сопротивление социальным и психологическим изменениям со стороны устоявшихся привычек, убеждений, личных интересов и инерции действительно может быть огромным, но ни одно социальное устройство не является неизменным или неизбежным.
Управление политическими системами и функционирование наших экономик не определяются законом природы. Они являются результатом сознательного выбора, сделанного отдельными людьми и группами в прошлом, которые претерпели непрерывный процесс эволюции на протяжении веков и всегда могут быть изменены сознательным выбором. Сопротивление социальным и психологическим изменениям со стороны устоявшихся привычек, убеждений, личных интересов и инерции действительно может быть огромным, но ни одно социальное устройство не является неизменным или неизбежным.
В области экономики провозглашение принципов и построение математических моделей, подобных тем, что используются в физике, породили фундаментальное заблуждение относительно факторов, управляющих экономическими системами, и возможности изменения их результатов. В течение почти двух столетий ньютоновская концепция равновесия в статической Вселенной, которая рассеивает энергию и стремится к наинизшему возможному энергетическому состоянию, почти не подвергалась сомнению в экономической науке. Теория совершенного мгновенного равновесия неприменима к социальным системам, которые функционируют вдали от равновесия, постепенно приспосабливаются, организуют энергию и постоянно развивают более высокие уровни упорядоченности. угнетение, экономическое неравенство и другие социальные беды. Чрезвычайно непропорциональное распределение мировых богатств, вытеснение людей машинами, подчинение женщин, политическое влияние богатых и социальная изоляция меньшинств являются результатом человеческого выбора, а не естественного закона.
Теория совершенного мгновенного равновесия неприменима к социальным системам, которые функционируют вдали от равновесия, постепенно приспосабливаются, организуют энергию и постоянно развивают более высокие уровни упорядоченности. угнетение, экономическое неравенство и другие социальные беды. Чрезвычайно непропорциональное распределение мировых богатств, вытеснение людей машинами, подчинение женщин, политическое влияние богатых и социальная изоляция меньшинств являются результатом человеческого выбора, а не естественного закона.
«Отрицая достоверность субъективных форм знания, наука обесценивает саму себя».
Точно так же дарвиновская концепция эволюции подсознательных биологических форм, узко рассматриваемая как конкуренция и выживание наиболее приспособленных, была неправильно применена и позже отвергнута в отношении сознательных социальных систем. Общество развивается посредством процессов, которые являются сознательными и субъективными. Стремление, любопытство, наблюдательность, мышление, творчество и воображение более фундаментальны, чем внешние силы в социальной эволюции человека. Конкуренция происходит в более широких и фундаментальных рамках сотрудничества. Как утверждает этот нарратив, человеческая эволюция представляет собой сложный сознательный процесс, включающий постоянное взаимодействие между объективными и субъективными измерениями, физическими фактами и ментальными представлениями, природными силами и человеческими устремлениями, творческими личностями и социальными группами. Аналогии между миром природы и человеческим миром могут дать полезную информацию о сходствах и параллелях между двумя областями. Но автоматическое распространение физических принципов на сознательные живые существа скрывает больше, чем обнаруживает, затемняет богатую сложность чрезмерно упрощенными предположениями и сводит глубокую творческую сложность человеческого существования к рудиментарным механическим моделям и количественным уравнениям.
Конкуренция происходит в более широких и фундаментальных рамках сотрудничества. Как утверждает этот нарратив, человеческая эволюция представляет собой сложный сознательный процесс, включающий постоянное взаимодействие между объективными и субъективными измерениями, физическими фактами и ментальными представлениями, природными силами и человеческими устремлениями, творческими личностями и социальными группами. Аналогии между миром природы и человеческим миром могут дать полезную информацию о сходствах и параллелях между двумя областями. Но автоматическое распространение физических принципов на сознательные живые существа скрывает больше, чем обнаруживает, затемняет богатую сложность чрезмерно упрощенными предположениями и сводит глубокую творческую сложность человеческого существования к рудиментарным механическим моделям и количественным уравнениям.
Последствия смешения объективности с реальностью и субъективности с нереальностью, как обсуждалось ранее, наиболее очевидны при изучении сознательного социального и психологического существования человечества. Именно здесь смешение беспристрастности и реальности создало самые серьезные препятствия для прогресса познания. Отождествление знания с объективным фактом воздвигло серьезный барьер на пути прогресса знания. Науки об обществе и психология изучают действия сознательных людей. Эти действия включают в себя не только физические движения наших тел, но и наши умственные действия наблюдения, мысли, воли, воображения и творчества. Они также охватывают наши жизненные действия восприятия, чувства, эмоции, устремления, страха, желания, любви, наслаждения, игры и так далее. Попытка обесценить, отбросить или делегитимировать наш субъективный опыт означает отвергнуть все самое истинно человеческое в нас просто потому, что оно не поддается наблюдению и измерению в физических терминах. Попытка сжать, уменьшить или переинтерпретировать весь субъективный опыт исключительно с точки зрения нейрофизиологии сродни поиску потерянных ключей под уличным фонарем, потому что это единственное место, где наши глаза могут видеть.
Именно здесь смешение беспристрастности и реальности создало самые серьезные препятствия для прогресса познания. Отождествление знания с объективным фактом воздвигло серьезный барьер на пути прогресса знания. Науки об обществе и психология изучают действия сознательных людей. Эти действия включают в себя не только физические движения наших тел, но и наши умственные действия наблюдения, мысли, воли, воображения и творчества. Они также охватывают наши жизненные действия восприятия, чувства, эмоции, устремления, страха, желания, любви, наслаждения, игры и так далее. Попытка обесценить, отбросить или делегитимировать наш субъективный опыт означает отвергнуть все самое истинно человеческое в нас просто потому, что оно не поддается наблюдению и измерению в физических терминах. Попытка сжать, уменьшить или переинтерпретировать весь субъективный опыт исключительно с точки зрения нейрофизиологии сродни поиску потерянных ключей под уличным фонарем, потому что это единственное место, где наши глаза могут видеть.
Кажется разумным, что ученый-физик, изучающий материю, занимает позицию наблюдателя, наблюдающего за независимой физической реальностью. Однако та же самая предпосылка не в равной степени применима к психологу, изучающему сознательный и бессознательный разум субъекта. Самопереживание — это наиболее яркое реальное и осязаемое переживание, на которое способны человеческие существа. В самом деле, мы никогда не сможем испытать что-либо еще так непосредственно и интенсивно. Когда мы беспристрастно изучаем подтверждающие данные, мы понимаем, что редукция всего субъективного опыта проистекает из исходной предпосылки физической науки, а не из рационального или доказательного обоснования. Тот факт, что существуют нейрофизиологические корреляты нашего сознательного опыта, доказывает, что наши мысли и чувства являются результатом нейрофизиологических явлений, не больше, чем тот факт, что регулировка циферблатов на телевизоре доказывает, что транслируемая программа исходит из телевизора.
Тем не менее, погоня за экстремальными гипотезами, такими как эта, и предположение, что человеческий интеллект и машинный интеллект одинаковы, могут служить эволюционной цели. Действительно, это может помочь нам понять ментальные и социальные процессы, посредством которых и разум, и цивилизация продвинулись до нынешнего уровня. Несомненно, существуют корреляции между нашими психическими и физиологическими процессами. Беспристрастное наблюдение как за сходствами, так и за различиями между ними может дать ценную информацию. Но это требует, чтобы мы продолжали осознавать гипотезу, которую проверяем.
Действительно, это может помочь нам понять ментальные и социальные процессы, посредством которых и разум, и цивилизация продвинулись до нынешнего уровня. Несомненно, существуют корреляции между нашими психическими и физиологическими процессами. Беспристрастное наблюдение как за сходствами, так и за различиями между ними может дать ценную информацию. Но это требует, чтобы мы продолжали осознавать гипотезу, которую проверяем.
Проблема объективности еще глубже. Рассматривая разум как беспристрастного судью и свидетеля реальности, мы упускаем из виду неявные предубеждения, которые окрашивают все рациональное мышление. Разум имеет ярко выраженную тенденцию концентрироваться на фактах и идеях, согласующихся с его предпосылками, и игнорировать или иначе интерпретировать те, которые ему противоречат. Наука сама по себе является субъективной дисциплиной для получения знаний, управляемых и оформленных философскими концепциями, которые сами по себе являются «ненаучными», поскольку они не могут быть подтверждены научным методом. Стремление исключить философию из науки подавляет открытую дискуссию, но никогда не может устранить ее субъективность. Отрицая достоверность субъективных форм познания, наука обесценивает саму себя.
Стремление исключить философию из науки подавляет открытую дискуссию, но никогда не может устранить ее субъективность. Отрицая достоверность субъективных форм познания, наука обесценивает саму себя.
5.3. Количественная оценка человечности
Применение статистики к социальным проблемам выдвинуло на передний план неотъемлемые проблемы с количественной оценкой человеческого опыта. Нассим Талеб утверждает в «Черном лебеде», что более века социологи «действовали, исходя из ложного убеждения, что их инструменты могут измерять неопределенность». различия в социальных науках. Талеб стремится бросить вызов слепому или ошибочному чувству уверенности в надежности политических и экономических решений, основанных на статистике. Он заключает, что проблема заключается в структуре нашего разума.28 С другой стороны, Вейсберг утверждает, что драгоценная качественная информация, касающаяся индивидуальных различий, сознательно подавляется или игнорируется в клинических областях, таких как медицина и психология, посредством того, что он называет «преднамеренным невежеством». ‘.29Обе эти точки зрения усиливают необходимость пересмотра фундаментальных философских вопросов в отношении применения количественных методов в социальных науках.
‘.29Обе эти точки зрения усиливают необходимость пересмотра фундаментальных философских вопросов в отношении применения количественных методов в социальных науках.
Суть здесь не в том, чтобы критиковать ни науку, ни социальные науки. Это скорее подчеркивание внутренних ограничений и неблагоприятных последствий, возникающих в результате частичного, одностороннего и несбалансированного развития и применения наших умственных способностей. Очень маловероятно, что нужные нам знания будут получены объективными аналитическими методами, количественными измерениями или экспериментальной нейронаукой. Он лежит в нашем сознательном опыте, и к нему можно напрямую обратиться, размышляя о нашем собственном способе функционирования как ученых, а не ища ответы через горы клинических экспериментов. Разум был инструментом всех достижений человечества, и он лежит в основе проблем, с которыми сегодня сталкивается цивилизация. Ни одна другая область научных исследований не может предложить так много.
6. Синтез
Задолго до развития логики древние открыли глубокую истину, что реальность едина и неделима. То, что ум бесконечно делит для целей анализа, всегда остается единым, интегрированным целым. Способность разума к анализу и его способность к синтезу находятся в постоянном напряжении. Чем больше мы разделяем реальность с целью понимания ее составных частей, тем больше мы упускаем из виду взаимосвязи, отношения и взаимозависимости, отражающие лежащее в ее основе единство. Разделение и агрегирование представляют взаимодополняющие перспективы реальности. Микроскоп и телескоп — это инструменты, созданные этими компенсаторными потребностями, чтобы сосредоточиться на конкретной цели и уменьшить масштаб, чтобы увидеть общую картину.
Врожденная ограниченность и неадекватность знаний, порожденных крайней специализацией, раздробленностью и фрагментарностью, стали все более очевидными в ХХ веке и неизбежно породили попытки воссоединить то, что было разорвано на мелкие фрагменты. Разделенные университеты внедрили междисциплинарные, междисциплинарные и междисциплинарные исследования и исследования, которые стремились привнести различные точки зрения на проблемные вопросы. Но вскоре стала очевидна внутренняя ограниченность этих усилий. Каждая из них привнесла в проблему свой набор концепций, теорий и доказательных данных, чтобы говорить об одной и той же проблеме, без какой-либо общей концептуальной структуры, указывающей на отношения между этими разрозненными точками зрения, их взаимозависимость или объединяющие факторы, лежащие в основе их различных выражений.
Разделенные университеты внедрили междисциплинарные, междисциплинарные и междисциплинарные исследования и исследования, которые стремились привнести различные точки зрения на проблемные вопросы. Но вскоре стала очевидна внутренняя ограниченность этих усилий. Каждая из них привнесла в проблему свой набор концепций, теорий и доказательных данных, чтобы говорить об одной и той же проблеме, без какой-либо общей концептуальной структуры, указывающей на отношения между этими разрозненными точками зрения, их взаимозависимость или объединяющие факторы, лежащие в основе их различных выражений.
6.1. Системное мышление
Ограничения, связанные с агрегированием нескольких наборов данных, основанных на различных теоретических основах, привели к попыткам концептуализировать отношения между всеми частями, рассматривая целое как сложную взаимосвязанную систему. Кибернетика развивалась как исследование систем управления в начале 20-го века в области теории электрических сетей, машиностроения, логического моделирования, эволюционной биологии и неврологии. Его идеи внесли свой вклад в теорию сложных систем. Это стимулировало междисциплинарные исследования в области теории информации, искусственного интеллекта, робототехники, медицины, экономических систем, биологии, когнитивистики, менеджмента, социологии и наук о Земле. Систематическое применение способности разума к синтезу привело к практическим применениям огромной важности в информатике и коммуникациях. Подобный подход был принят для построения системных теорий и моделей глобальных финансовых рынков и мировой экономики, а также для понимания сложного комплекса сил, которые управляют климатом Земли и воздействием человеческого поведения на планету.
Его идеи внесли свой вклад в теорию сложных систем. Это стимулировало междисциплинарные исследования в области теории информации, искусственного интеллекта, робототехники, медицины, экономических систем, биологии, когнитивистики, менеджмента, социологии и наук о Земле. Систематическое применение способности разума к синтезу привело к практическим применениям огромной важности в информатике и коммуникациях. Подобный подход был принят для построения системных теорий и моделей глобальных финансовых рынков и мировой экономики, а также для понимания сложного комплекса сил, которые управляют климатом Земли и воздействием человеческого поведения на планету.
Теория систем помогла компенсировать крайнюю фрагментацию знаний в результате специализации. Он восстановил видение тотальности существования в конкретных областях и по отношению к конкретным проблемам. Значение этого изменения в мышлении наиболее ярко отразилось в развитии Интернета и Всемирной паутины за последние несколько десятилетий, что привело к возникновению первой в мире действительно глобальной социальной системы. И наоборот, практическое развитие киберпространства стало реальным примером, символом и метафорой системного мышления и послужило катализатором для развития более всеобъемлющего, инклюзивного мышления во всех сферах жизни.
И наоборот, практическое развитие киберпространства стало реальным примером, символом и метафорой системного мышления и послужило катализатором для развития более всеобъемлющего, инклюзивного мышления во всех сферах жизни.
Но развитие основной теории сложных систем выходит за рамки способности разума к агрегированию и синтезу. На более фундаментальном уровне он стремится определить универсальные принципы, которые лежат в основе и управляют поведением сложных адаптивных систем в очень широком диапазоне приложений, таких как сетевые эффекты, эмерджентность, самоорганизация и самовоспроизведение (аутопоэзис). Это представляет собой серьезную попытку перейти от агрегации специализированных знаний через мультидисциплинарность к поиску объединяющих междисциплинарных принципов.
6.2. Барьеры для системного мышления
Несмотря на эти важные события, продвижение знаний по-прежнему сдерживается несколькими другими характеристиками научной революции, которым еще предстоит серьезно бросить вызов. Первая и наиболее очевидная из них — это механизация реальности. Восприятие и представление реальности в механических терминах все еще доминируют в научном мышлении, даже в отношении живых существ и сознательных индивидуумов. Идея простой вселенной с часовым механизмом уступила место более сложным сетевым моделям, но эти модели остаются в значительной степени механическими и механистическими. Наука по-прежнему склонна воспринимать все явления, даже жизнь, сознание и общество, в физических терминах и сводить их к их наименьшим идентифицируемым физическим знаменателям. Наши физические концепции стали более сложными и изощренными, но лежащее в их основе материалистическое механистическое мышление осталось. Компьютеризированное моделирование финансовых рынков и экономических систем остается основным инструментом как теоретизирования, так и разработки политики. Неврологические модели человеческого поведения, доказавшие свою эффективность для отслеживания сенсорных путей и мышечных реакций, стремятся свести весь сознательный человеческий опыт к химическим и электрическим событиям, что приводит к резкому увеличению использования лекарств для лечения состояний с очевидными психологическими и социальными последствиями.
Первая и наиболее очевидная из них — это механизация реальности. Восприятие и представление реальности в механических терминах все еще доминируют в научном мышлении, даже в отношении живых существ и сознательных индивидуумов. Идея простой вселенной с часовым механизмом уступила место более сложным сетевым моделям, но эти модели остаются в значительной степени механическими и механистическими. Наука по-прежнему склонна воспринимать все явления, даже жизнь, сознание и общество, в физических терминах и сводить их к их наименьшим идентифицируемым физическим знаменателям. Наши физические концепции стали более сложными и изощренными, но лежащее в их основе материалистическое механистическое мышление осталось. Компьютеризированное моделирование финансовых рынков и экономических систем остается основным инструментом как теоретизирования, так и разработки политики. Неврологические модели человеческого поведения, доказавшие свою эффективность для отслеживания сенсорных путей и мышечных реакций, стремятся свести весь сознательный человеческий опыт к химическим и электрическим событиям, что приводит к резкому увеличению использования лекарств для лечения состояний с очевидными психологическими и социальными последствиями. происхождения, такие как синдром дефицита внимания.
происхождения, такие как синдром дефицита внимания.
Вторым ограничением текущего подхода является постоянный акцент на универсальных аспектах поведения. Наука – это поиск знаний. Она началась с изучения областей, в которых преобладает тип, а индивидуальные вариации не имеют большого значения или вообще не имеют значения. Физические элементы легко поддаются классификации в периодической таблице. Известные субатомные частицы бывают нескольких дискретных разновидностей. Законы движения и термодинамики одинаково применимы в широких пределах, как и принципы теории относительности и квантовой механики. Растения и животные поддаются классификации по типу, классу, отряду, семейству, роду и виду. Тенденция рассматривать реальность с точки зрения категорий и типов оказалась чрезвычайно эффективной в продвижении знаний в области естественных наук. Неизбежно, что тот же самый подход будет распространен на изучение индивидуального и коллективного человеческого поведения. Классификация сходств и различий привела к важным достижениям в социальных науках, но она также наложила серьезные препятствия на пути познания человека. Сравнение типов неизбежно приводит к подавлению индивидуальных различий. Единообразие типа свойственно неодушевленному и бессознательному диапазонам действительности, но наиболее значимыми атрибутами человеческого сознания являются индивидуальность, новаторство, творчество и уникальность. Гуманитарные науки по-прежнему основаны на пристрастии естественных наук к рассмотрению реальности с точки зрения сходств и различий и игнорированию единственного наиболее важного события в истории вселенной — эволюции сознательной индивидуальности. Эта предвзятость запрограммирована в том, как мы используем свой разум, и запечатлена в самой нашей концепции разума и логического мышления. Сами наши представления о рациональности и логике, о правилах, по которым наш разум ищет знания, основаны на неявных предубеждениях и ограничениях, которые тормозят развитие знания.
Сравнение типов неизбежно приводит к подавлению индивидуальных различий. Единообразие типа свойственно неодушевленному и бессознательному диапазонам действительности, но наиболее значимыми атрибутами человеческого сознания являются индивидуальность, новаторство, творчество и уникальность. Гуманитарные науки по-прежнему основаны на пристрастии естественных наук к рассмотрению реальности с точки зрения сходств и различий и игнорированию единственного наиболее важного события в истории вселенной — эволюции сознательной индивидуальности. Эта предвзятость запрограммирована в том, как мы используем свой разум, и запечатлена в самой нашей концепции разума и логического мышления. Сами наши представления о рациональности и логике, о правилах, по которым наш разум ищет знания, основаны на неявных предубеждениях и ограничениях, которые тормозят развитие знания.
Третьим основным ограничением современного системного мышления, унаследованным от естествознания, является подавление субъективного измерения реальности. Действительно, самые сложные системы представляют собой попытку определить и представить весь субъективный опыт в физических терминах и свести сознательный опыт к автоматическим подсознательным процессам. Крах субъективного в объективное измерение ярко иллюстрируется господствующими экономическими моделями общества. Предположение, что люди принимают рациональные решения, — это всего лишь еще один способ сказать, что индивидуальное принятие решений может быть смоделировано в механистических терминах без обращения к сознанию, точно так же, как мы говорим, что растения склоняются к солнцу, а их корни тянутся к воде. Очевидная ошибочность этого предположения вынудила экономистов ввести такие термины, как иррациональное изобилие, для объяснения резких колебаний в поведении рынков в чрезвычайных обстоятельствах, оставив при этом исходную предпосылку для обычных применений. Экономическое поведение характеризуется множеством субъективных факторов — стремлениями, установками, предпочтениями, стремлением к статусу, страхом, незащищенностью, честолюбием, интересом, любопытством, влечением, идеями, неправильными представлениями, суевериями, предрассудками, мнениями, верованиями, идеалами, ценностями.
Действительно, самые сложные системы представляют собой попытку определить и представить весь субъективный опыт в физических терминах и свести сознательный опыт к автоматическим подсознательным процессам. Крах субъективного в объективное измерение ярко иллюстрируется господствующими экономическими моделями общества. Предположение, что люди принимают рациональные решения, — это всего лишь еще один способ сказать, что индивидуальное принятие решений может быть смоделировано в механистических терминах без обращения к сознанию, точно так же, как мы говорим, что растения склоняются к солнцу, а их корни тянутся к воде. Очевидная ошибочность этого предположения вынудила экономистов ввести такие термины, как иррациональное изобилие, для объяснения резких колебаний в поведении рынков в чрезвычайных обстоятельствах, оставив при этом исходную предпосылку для обычных применений. Экономическое поведение характеризуется множеством субъективных факторов — стремлениями, установками, предпочтениями, стремлением к статусу, страхом, незащищенностью, честолюбием, интересом, любопытством, влечением, идеями, неправильными представлениями, суевериями, предрассудками, мнениями, верованиями, идеалами, ценностями. заметно различаются от человека к человеку, от момента к моменту. Последствия почти исключительного акцента экономики и других социальных наук на объективном измерении человеческого поведения очевидны в неспособности понять и управлять все более сложным социальным миром, в котором мы живем. Усилия по уменьшению сложности, чтобы мы могли управлять ею, могут быть успешными только в той мере, в какой наша концепция охватывает всю полноту этой реальности.
заметно различаются от человека к человеку, от момента к моменту. Последствия почти исключительного акцента экономики и других социальных наук на объективном измерении человеческого поведения очевидны в неспособности понять и управлять все более сложным социальным миром, в котором мы живем. Усилия по уменьшению сложности, чтобы мы могли управлять ею, могут быть успешными только в той мере, в какой наша концепция охватывает всю полноту этой реальности.
В-четвертых и как следствие трех других, на эффективность системного мышления влияют врожденные ограничения концепции случайности и измерения неопределенности применительно к человеческим системам. Как утверждал Байерс, случайность и неопределенность — неоднозначные понятия. Появление случайности может быть следствием реального отсутствия причинно-следственной связи или недостатка информации, эффективных измерений и достоверных знаний. Черные лебеди могут удивить и ошеломить нас, потому что явление действительно случайное или просто потому, что наши концепции, модели и меры совершенно неадекватны тому, что происходит на самом деле. Они, вероятно, будут становиться все более распространенными до тех пор, пока наше исследование человеческого поведения будет пренебрегать субъективными факторами, индивидуальной уникальностью и сознательным человеческим выбором.
Они, вероятно, будут становиться все более распространенными до тех пор, пока наше исследование человеческого поведения будет пренебрегать субъективными факторами, индивидуальной уникальностью и сознательным человеческим выбором.
7. Интеграция и объединение
Все знания стремятся к единству. Величайшими открытиями в естествознании были те, которые привели к объединению явлений, до сих пор казавшихся не связанными друг с другом. Таким образом, Ньютон объединил инерцию и движение. Максвелл объединил электричество и магнетизм. Эйнштейн объединил пространство и время, гравитацию и ускорение. Абдус Салам, член WAAS, объединил электромагнитное и слабое ядерное взаимодействия.30
Способность определять взаимосвязь между явно не связанными или противоречивыми явлениями — одна из определяющих характеристик гения. Стремление к объединению в физике стимулировало попытки сформулировать Великую Объединяющую Теорию, примиряющую физический макрокосм и микрокосм. Если это когда-либо удастся, исходя из нынешних предпосылок, это может быть применимо только к плану неживой материи и энергии. Великая Объединяющая Теория Жизни или Разума или интегрированная теория, охватывающая все три, останутся неуловимыми.
Великая Объединяющая Теория Жизни или Разума или интегрированная теория, охватывающая все три, останутся неуловимыми.
Простой агрегации переменных, чтобы охватить всю совокупность явлений, недостаточно для достижения истинной интеграции и унификации. Синтез может соединять и связывать части, но не может привести к истинной интеграции. Хотя это слово широко используется в более узком смысле как синоним тотальности, всеохватности, холизма и взаимозависимости, истинная интеграция, являющаяся основой унификации, является чем-то более фундаментальным. Лучше всего это можно описать словами Упанишад: все есть в каждом, каждый есть во всем, все есть во всем. Интеграция — это состояние, в котором каждый элемент совокупности связан не только с совокупностью, но и с любым другим отдельным элементом совокупности.
Борьба ученых-климатологов за построение точных и эффективных теорий и моделей изменения климата усугубляется тем фактом, что вся земля с ее бесчисленными зонами, географическими и геологическими характеристиками находится в постоянном взаимодействии с населяющими ее формами жизни и сознательным и подсознательной деятельности, которую они выполняют. На климат влияют не только физические факторы, но и биологическое функционирование живых существ, а также сознательные и подсознательные действия людей. Наша способность к анализу и синтезу плохо подходит для управления такой сложностью.
На климат влияют не только физические факторы, но и биологическое функционирование живых существ, а также сознательные и подсознательные действия людей. Наша способность к анализу и синтезу плохо подходит для управления такой сложностью.
Замечательная целостность человеческого тела является прекрасным примером и аналогией. Медицинская наука создала абстрактную концептуальную основу для представления функционирования организма. Он делится на анатомические структуры и физиологические функции. К структурам относятся клетки, ткани, органы и системы. Функции включают дыхание, пищеварение, кровообращение, размножение и так далее. Но обе эти классификации сами по себе являются абстракциями. Действительно, не существует такой системы, как система кровообращения, отдельной и независимой от скелетных, мышечных, нервных, лимфатических и других клеток, тканей, органов и систем. Каждая клетка, ткань и орган образуют неотъемлемую часть тела в целом. Но функционирование каждого типа также интегрировано с функционированием других типов. Так, укол поверхностных тканей пальца может вызвать реакцию со стороны кожи, капилляров, клеток крови, сердца, головного мозга, желез, кровеносной, нервной и лимфатической систем. Более того, как убедительно свидетельствуют эффект плацебо и другие хорошо задокументированные неврологические, психологические и социологические феномены, физиологическое функционирование организма также органично интегрируется с множеством других факторов — потреблением пищи, физической средой, типом и объемом физической активности, бесконечным поток ощущений, импульсов и эмоций, происходящих сознательно и подсознательно, психических концепций, мнений, установок, убеждений и стремлений каждого индивидуума, а также постоянно меняющееся физическое, эмоциональное и психическое взаимодействие между индивидуумом и физическим, социальным и психологическим контекст, в котором он находится. Ограниченность преобладающих концептуальных моделей реальности серьезно препятствует попыткам перейти от совокупности физических частей и функций к действительно всеобъемлющей целостной концепции здоровья человека.
Так, укол поверхностных тканей пальца может вызвать реакцию со стороны кожи, капилляров, клеток крови, сердца, головного мозга, желез, кровеносной, нервной и лимфатической систем. Более того, как убедительно свидетельствуют эффект плацебо и другие хорошо задокументированные неврологические, психологические и социологические феномены, физиологическое функционирование организма также органично интегрируется с множеством других факторов — потреблением пищи, физической средой, типом и объемом физической активности, бесконечным поток ощущений, импульсов и эмоций, происходящих сознательно и подсознательно, психических концепций, мнений, установок, убеждений и стремлений каждого индивидуума, а также постоянно меняющееся физическое, эмоциональное и психическое взаимодействие между индивидуумом и физическим, социальным и психологическим контекст, в котором он находится. Ограниченность преобладающих концептуальных моделей реальности серьезно препятствует попыткам перейти от совокупности физических частей и функций к действительно всеобъемлющей целостной концепции здоровья человека.
Вывод о том, что нынешние знания недостаточны для направления дальнейшей эволюции человеческой цивилизации, не является обвинением огромного объема специальных знаний общества, созданных наукой до сих пор. Это скорее осознание того, что больше одного и того же не хватит. Теория относительности не аннулировала принципы ньютоновской физики. Скорее, он поместил их в более широкий контекст, в котором их ограничения стали очевидны. Сегодня необходимо выйти за пределы существующей концептуальной системы в поисках той, которая является более всеобъемлющей и эффективной для примирения наших знаний о мире с постоянными неудачами и повторяющимися проблемами, которые противоречат друг другу. Первый шаг в эволюции новой концептуальной системы — признать и принять эти противоречия и добровольно пересмотреть предпосылки, лежащие в основе существующей концептуальной системы.31
7.1. Интеграция в социальных науках
Необходимость выйти за пределы как аналитического, так и синтетического мышления наиболее очевидна в социальных науках, где разрозненное, фрагментированное знание остается доминирующим занятием, а каждая область основана на наборе принципов, специфичных для данной дисциплины. мало актуально за узкими границами специализированных приложений. Этот подход породил состояние, напоминающее психологический синдром множественных разобщенных личностей, известное как диссоциативное расстройство личности. В обоих случаях это симптом более глубокого расстройства. Стремясь прийти к рациональному, научно обоснованному знанию, мы пали жертвой естественной склонности мыслящего разума отделять себя от объектов изучения в статической вселенной и рассматривать их с беспристрастной точки зрения, объективно и безлично. При этом наши науки о живых людях стали механическими, материалистическими, лишенными ценностей и безжизненными. Им не хватает вибрации, характерной для живых существ. Им не хватает глубины и понимания, необходимых для проникновения в богатую сложность индивидуальной психики и коллективной души. «Классическая детерминистская наука — это наука стазиса. Он упускает суть жизни»32 9.0003
мало актуально за узкими границами специализированных приложений. Этот подход породил состояние, напоминающее психологический синдром множественных разобщенных личностей, известное как диссоциативное расстройство личности. В обоих случаях это симптом более глубокого расстройства. Стремясь прийти к рациональному, научно обоснованному знанию, мы пали жертвой естественной склонности мыслящего разума отделять себя от объектов изучения в статической вселенной и рассматривать их с беспристрастной точки зрения, объективно и безлично. При этом наши науки о живых людях стали механическими, материалистическими, лишенными ценностей и безжизненными. Им не хватает вибрации, характерной для живых существ. Им не хватает глубины и понимания, необходимых для проникновения в богатую сложность индивидуальной психики и коллективной души. «Классическая детерминистская наука — это наука стазиса. Он упускает суть жизни»32 9.0003
Это осознание стало движущей силой усилий Всемирной академии искусства и науки и Всемирного консорциума университетов в партнерстве с другими организациями, направленных на отстаивание необходимости новой парадигмы человеческого развития, экономической теории, ориентированной на человека, и трансдисциплинарная наука об обществе. Наша работа выявила критические аспекты, в которых новая концептуальная структура должна выходить за рамки существующей. Новая парадигма должна основываться на ценностях, а не быть свободной от них. Он должен быть трансдисциплинарным, а не специфичным для конкретной дисциплины или просто мультидисциплинарным, что означает, что он должен стремиться к открытию основополагающих принципов, управляющих человеческим поведением во всех сферах социального существования. Он должен охватывать и воссоединять объективные и субъективные измерения реальности, признавая центральную роль человеческого сознания и человеческих устремлений в человеческих делах. В ее основе должен лежать творческий процесс взаимодействия личности и коллектива. Необходимо выйти за пределы механистических, материалистических моделей естествознания, чтобы установить знание, основанное на динамическом жизненном процессе, посредством которого люди высвобождают свою энергию, сознательно и целенаправленно направляют ее, направляют эту энергию через формальные организационные и неформальные институциональные структуры и системы и выражают их с помощью умелых действий для достижения результатов.
Наша работа выявила критические аспекты, в которых новая концептуальная структура должна выходить за рамки существующей. Новая парадигма должна основываться на ценностях, а не быть свободной от них. Он должен быть трансдисциплинарным, а не специфичным для конкретной дисциплины или просто мультидисциплинарным, что означает, что он должен стремиться к открытию основополагающих принципов, управляющих человеческим поведением во всех сферах социального существования. Он должен охватывать и воссоединять объективные и субъективные измерения реальности, признавая центральную роль человеческого сознания и человеческих устремлений в человеческих делах. В ее основе должен лежать творческий процесс взаимодействия личности и коллектива. Необходимо выйти за пределы механистических, материалистических моделей естествознания, чтобы установить знание, основанное на динамическом жизненном процессе, посредством которого люди высвобождают свою энергию, сознательно и целенаправленно направляют ее, направляют эту энергию через формальные организационные и неформальные институциональные структуры и системы и выражают их с помощью умелых действий для достижения результатов. И в качестве основы и центральной опоры этой работы она должна стремиться к продвижению нашего понимания человеческого разума и мыслительных процессов, источников и препятствий для творчества и их связи с эволюцией цивилизации.33
И в качестве основы и центральной опоры этой работы она должна стремиться к продвижению нашего понимания человеческого разума и мыслительных процессов, источников и препятствий для творчества и их связи с эволюцией цивилизации.33
Члены Академии проделали предварительную работу над многими элементами нового подхода, но настоящая цель проекта — повлиять на общее направление и ход нашего коллективного интеллектуального прогресса. Десятилетия назад бывший президент WAAS Гарольд Лассуэлл внес значительный вклад в изучение права, освободив его от узких рамок законодательной и судебной власти и рассматривая его в контексте развивающихся социальных и политических процессов и утверждения ценностей отдельными лицами и институтами в обществе. .34 Внеся значительный вклад в переосмысление экономики, Орио Джарини стремился разрушить произвольные концептуальные барьеры, сковывающие современную экономическую теорию. Он расширил экономику, чтобы охватить немонетаризированный сектор, ввел понятие отрицательной стоимости для учета экономически вредной деятельности, подчеркнул, что в современной экономике услуг стоимость должна учитывать все время использования от концепции до окончательной утилизации, заменил классическое понятие равновесия с непрерывной эволюцией, и подтвердил принцип неопределенности как центральный для всей экономической деятельности. 35 Опираясь на свой основополагающий вклад, ВААС сотрудничает с другими учреждениями и учеными в совместных усилиях по созданию новой экономической теории.36,† A более полное исследование этих результатов выходит за рамки этой статьи, но может быть полезно кратко рассмотреть некоторые из ее основных положений.
35 Опираясь на свой основополагающий вклад, ВААС сотрудничает с другими учреждениями и учеными в совместных усилиях по созданию новой экономической теории.36,† A более полное исследование этих результатов выходит за рамки этой статьи, но может быть полезно кратко рассмотреть некоторые из ее основных положений.
«Ценности являются руководящими принципами человеческой эволюции, так же как естественные законы являются руководящими принципами физической природы.»
7.2. Наука, основанная на ценностях
Поппер предупреждал о тенденции социальных наук к «ошибочному натурализму»37. Стремление освободить изучение мира природы от религиозной доктрины отвергло навязывание человеческих ценностей миру природы. Роль естествоиспытателя состоит в том, чтобы беспристрастно наблюдать и рационально размышлять. Свобода от предубеждений необходима для открытия знания. Применительно к физической природе это означает не навязывание человеческих ценностей поведению низших форм жизни. Мы не можем обвинить льва во зле, потому что он инстинктивно охотится на другие виды ради пропитания. Но социальные науки включают изучение сознательных человеческих существ, живущих вместе. Открытие универсальных ценностей, управляющих сознательной эволюцией человека, является социальным эквивалентом универсальных законов, управляющих физической эволюцией. Цель социальной науки состоит не только в беспристрастном понимании, но и в сознательном вмешательстве для повышения эффективности социальных систем для реализации стремлений и ценностей человечества. Он обязательно должен быть явным по значению, а не свободным от значения.
Мы не можем обвинить льва во зле, потому что он инстинктивно охотится на другие виды ради пропитания. Но социальные науки включают изучение сознательных человеческих существ, живущих вместе. Открытие универсальных ценностей, управляющих сознательной эволюцией человека, является социальным эквивалентом универсальных законов, управляющих физической эволюцией. Цель социальной науки состоит не только в беспристрастном понимании, но и в сознательном вмешательстве для повышения эффективности социальных систем для реализации стремлений и ценностей человечества. Он обязательно должен быть явным по значению, а не свободным от значения.
Ценности — это не просто предвзятые суждения. Они представляют собой форму знания и мощную детерминанту человеческой эволюции. Лишение нашего изучения общества всех ценностей сродни тому, чтобы рассматривать материальный мир как случайное, хаотичное, бесцельное блуждание случая, лишенное всякого понимания сил, влияющих на него. Ценности являются руководящими принципами человеческой эволюции, так же как естественные законы являются руководящими принципами физической природы. Универсальные ценности, такие как свобода, равенство, мир, безопасность, терпимость, доверие, честность, добрая воля, организация, сотрудничество, сотрудничество, братство, самоотдача, гармония и правдивость, представляют собой квинтэссенцию знаний и мудрости, извлеченных человечеством из тысячелетнего опыта. Ценности – это знания о процессе человеческого развития и эволюции. Они занимают центральное место в практике науки, как и в любой другой области цивилизованной человеческой деятельности.
Универсальные ценности, такие как свобода, равенство, мир, безопасность, терпимость, доверие, честность, добрая воля, организация, сотрудничество, сотрудничество, братство, самоотдача, гармония и правдивость, представляют собой квинтэссенцию знаний и мудрости, извлеченных человечеством из тысячелетнего опыта. Ценности – это знания о процессе человеческого развития и эволюции. Они занимают центральное место в практике науки, как и в любой другой области цивилизованной человеческой деятельности.
7.3. Принципы общества
Как уже упоминалось, на развитие экономической науки сильно повлиял успех количественных физических наук, особенно физики. Он принял форму поиска универсальных законов или принципов экономики и механистических, количественных моделей для представления работы экономических систем. То, что мы имеем сегодня, является результатом выбора, сделанного в прошлом, длительного эволюционного процесса, основанного на идеях, ценностях, убеждениях и социальных институтах, созданных в интересах определенных слоев населения и сохраняемых силой социального воздействия. Если оно не в состоянии справедливо удовлетворить потребности всех людей, мы в силах изменить его.
Если оно не в состоянии справедливо удовлетворить потребности всех людей, мы в силах изменить его.
Отказ от непреложных законов экономики не означает отсутствия принципов развития экономики и общества. Но это предполагает, что эти принципы являются более фундаментальными, чем то, что обычно считается экономическим принципом, поскольку принципы, управляющие химическими взаимодействиями, основаны на более фундаментальном наборе физических принципов. Экономика — это часть общества. Понимание принципов, управляющих развитием и функционированием экономики, должно быть основано на принципах, применимых к развитию и эволюции более широкого общества, частью которого является экономика.
Успех организационной теории и теории систем в выявлении принципов, применимых к более широкому спектру человеческой и нечеловеческой деятельности, знаменует собой первый шаг к развитию действительно трансдисциплинарной социальной науки. Организация — это объединяющий принцип, присутствующий на всех уровнях существования — в структуре физической материи, в динамических системах жизни и в сознательной организации идей, деятельности и вещей, характерных для разума. Энергия является еще одним объединяющим принципом: физическая энергия материальных систем, жизненная и социальная энергия, характерная для живых систем, и сознательная ментальная энергия, выражающаяся в любопытстве, воображении и творчестве ума. Сознательное осознание, стремление, ценности, эволюция, самоумножение, авторитет, иерархия, сети и концептуальные рамки являются фундаментальными принципами, общими для всей человеческой деятельности. Трансдисциплинарная наука, основанная на подобных принципах, ознаменовала бы значительный прогресс в направлении новой концептуальной системы социальных наук. Она должна сместить точку зрения общества с неодушевленной, механистической организации на сознательный живой организм, с точки зрения, сосредоточенной исключительно на объективных, поверхностных процессах, на точку зрения, охватывающую как субъективные, так и объективные измерения реальности, с акцента на общие закономерности, подтверждаемые статистикой. к той, которая основана на сложном творческом взаимодействии между творческими личностями и соответствующим социальным коллективом.
Энергия является еще одним объединяющим принципом: физическая энергия материальных систем, жизненная и социальная энергия, характерная для живых систем, и сознательная ментальная энергия, выражающаяся в любопытстве, воображении и творчестве ума. Сознательное осознание, стремление, ценности, эволюция, самоумножение, авторитет, иерархия, сети и концептуальные рамки являются фундаментальными принципами, общими для всей человеческой деятельности. Трансдисциплинарная наука, основанная на подобных принципах, ознаменовала бы значительный прогресс в направлении новой концептуальной системы социальных наук. Она должна сместить точку зрения общества с неодушевленной, механистической организации на сознательный живой организм, с точки зрения, сосредоточенной исключительно на объективных, поверхностных процессах, на точку зрения, охватывающую как субъективные, так и объективные измерения реальности, с акцента на общие закономерности, подтверждаемые статистикой. к той, которая основана на сложном творческом взаимодействии между творческими личностями и соответствующим социальным коллективом.
8. Глубокое мышление
8.1. Изменение концептуальных рамок
Если разум исходит из разделения и обладает только сконструированным пониманием единства, естественно возникает вопрос, какие умственные способности необходимы для достижения истинной интеграции и объединения. Как замечает Шри Ауробиндо, ум «думает, видит, желает, чувствует, ощущает с разделением в качестве отправной точки и только сконструировал понимание единства». ?
Математик Уильям Байерс использует термин «глубокое мышление» для описания творческих интеллектуальных процессов, выходящих за концептуальные пределы существующего мышления и правил логики. Он отмечает, что все мышление происходит в рамках концептуальной системы. Система может быть явной и неявной, сознательной или подсознательной. Определение каждого слова представляет собой понятийную систему, определяемую господствующими культурными нормами, социальным контекстом и индивидуальным психологическим опытом. Каждая теоретическая концепция определяется, наполняется и обрисовывается путем определения и ограничения точек зрения. Границы и постулаты любой концептуальной системы поддерживаются и укрепляются силами, противостоящими любому натиску. Среди этих сил — чувство безопасности, проистекающее из существующего знания, инерционное сопротивление серьезному пересмотру верований, в которые было вложено так много, эгоистическая идентификация с определенной точкой зрения и бессознательное пристрастие к элементам, которые соответствуют ее существующим предпосылкам и принципам. отказ от тех, которые подрывают или противоречат ему. Логика и математика являются концептуальными системами. Сама наука представляет собой концептуальную систему. В этой статье определяются некоторые столпы, на которых строится наука, которые безоговорочно признаются действительными, но редко подлежат проверке.
Каждая теоретическая концепция определяется, наполняется и обрисовывается путем определения и ограничения точек зрения. Границы и постулаты любой концептуальной системы поддерживаются и укрепляются силами, противостоящими любому натиску. Среди этих сил — чувство безопасности, проистекающее из существующего знания, инерционное сопротивление серьезному пересмотру верований, в которые было вложено так много, эгоистическая идентификация с определенной точкой зрения и бессознательное пристрастие к элементам, которые соответствуют ее существующим предпосылкам и принципам. отказ от тех, которые подрывают или противоречат ему. Логика и математика являются концептуальными системами. Сама наука представляет собой концептуальную систему. В этой статье определяются некоторые столпы, на которых строится наука, которые безоговорочно признаются действительными, но редко подлежат проверке.
Байерс утверждает, что все крупные интеллектуальные прорывы предполагают выход за рамки существующей концептуальной системы. Поскольку границы системы часто имплицитны и бессознательны, их нелегко идентифицировать или исследовать. Поэтому творческий процесс преодоления существующей системы обычно начинается с рассмотрения вопросов, которые нелегко решить в существующем контексте. Эти вопросы часто принимают форму противоречивых точек зрения, противоречивых фактов или неразрешенных двусмысленностей, которые нынешняя структура не может ассимилировать и примирить в рамках существующих предпосылок. Готовность распознать и принять напряжение двусмысленности, противоречий и парадоксов высвобождает энергию и порождает силу, необходимую для того, чтобы разрушить границы или бросить вызов фундаментальным предпосылкам существующей системы. Коперниканская революция и другие крупные интеллектуальные достижения, названные Томасом Куном сдвигами парадигмы, являются классическими примерами этого процесса.
Поскольку границы системы часто имплицитны и бессознательны, их нелегко идентифицировать или исследовать. Поэтому творческий процесс преодоления существующей системы обычно начинается с рассмотрения вопросов, которые нелегко решить в существующем контексте. Эти вопросы часто принимают форму противоречивых точек зрения, противоречивых фактов или неразрешенных двусмысленностей, которые нынешняя структура не может ассимилировать и примирить в рамках существующих предпосылок. Готовность распознать и принять напряжение двусмысленности, противоречий и парадоксов высвобождает энергию и порождает силу, необходимую для того, чтобы разрушить границы или бросить вызов фундаментальным предпосылкам существующей системы. Коперниканская революция и другие крупные интеллектуальные достижения, названные Томасом Куном сдвигами парадигмы, являются классическими примерами этого процесса.
Процесс глубокого мышления и препятствия на его пути проиллюстрированы в рассказах Артура Конан Дойля о Шерлоке Холмсе. Во многих случаях полиция приходит к выводу относительно фактов преступления и виновной стороны, тщательно выстраивая правдоподобную гипотезу, которая сознательно или непреднамеренно упускает из виду кажущиеся незначительными противоречивые доказательства. В «Silver Blaze» полиция разрабатывает безупречную теорию о том, как вор угнал скаковую лошадь и убил ее тренера, и арестовывает подозреваемого, у которого есть как мотив, так и возможность быть ответственным. Одного Холмса беспокоят, казалось бы, незначительные вопросы. Почему сторожевая собака не залаяла во время кражи? По какому совпадению конюх подал обед, который был достаточно острым, чтобы замаскировать вкус опиата? Принимая во внимание подразумеваемое противоречие, которое полиция решила проигнорировать, он построил альтернативную гипотезу, которая привела к совершенно другому выводу. На самом деле тренер был убит лошадью, пытаясь покалечить ее мышцы лодыжки, чтобы она проиграла гонку. Глубокая и непреходящая привлекательность вымышленного персонажа Дойла проистекает из того факта, что он указывает путь к более высокому эволюционному пути.
Во многих случаях полиция приходит к выводу относительно фактов преступления и виновной стороны, тщательно выстраивая правдоподобную гипотезу, которая сознательно или непреднамеренно упускает из виду кажущиеся незначительными противоречивые доказательства. В «Silver Blaze» полиция разрабатывает безупречную теорию о том, как вор угнал скаковую лошадь и убил ее тренера, и арестовывает подозреваемого, у которого есть как мотив, так и возможность быть ответственным. Одного Холмса беспокоят, казалось бы, незначительные вопросы. Почему сторожевая собака не залаяла во время кражи? По какому совпадению конюх подал обед, который был достаточно острым, чтобы замаскировать вкус опиата? Принимая во внимание подразумеваемое противоречие, которое полиция решила проигнорировать, он построил альтернативную гипотезу, которая привела к совершенно другому выводу. На самом деле тренер был убит лошадью, пытаясь покалечить ее мышцы лодыжки, чтобы она проиграла гонку. Глубокая и непреходящая привлекательность вымышленного персонажа Дойла проистекает из того факта, что он указывает путь к более высокому эволюционному пути.
При таком рассмотрении возможность сознательного поощрения процесса творческого мышления лишается своего мистического покрова. Этот процесс требует готовности подвергать сомнению неявные предположения и установленные принципы, а также силы принимать, а не отвергать или игнорировать конфликтующие точки зрения. Нет никакой гарантии, что выход за безопасные границы существующей концептуальной системы обязательно приведет к плодотворному творчеству. С такой же вероятностью это может привести к потере уверенности и замешательству. Выход — необходимое, но недостаточное условие умственного творчества. Но без такого риска настоящее творческое мышление крайне маловероятно. Байерс утверждает, что у всех нас был опыт преодоления существующей концептуальной системы в процессе изучения новых идей. Будучи учениками, мы учимся делать скачок, уже сделанный другими до нас. Креативное мышление требует способности сделать скачок для себя. Но в любом случае процесс одинаков.
8. 2. Интуитивное знание
2. Интуитивное знание
Примеры научных открытий в физике, приведенные выше, демонстрируют, что интеграция и объединение действительно возможны, но они, по-видимому, являются работой редких гениев, чьи процессы мы не понимаем и не в состоянии подражать. Свидетельства самих великих ученых объясняют такие открытия внезапными вспышками озарения или скачками мысли, а не линейными, систематическими рациональными мыслительными процессами. Поппер утверждает, что «не существует такой вещи, как логический метод получения новых идей или логическая реконструкция этого процесса… каждое открытие содержит «иррациональный элемент» или «творческую интуицию» в смысле Бергсона». В том же духе говорит и Эйнштейн по поводу открытия универсальных законов. Он ссылается на интуитивный опыт, который приводит к психологической идентификации с объектом опыта. «Нет логического пути, ведущего к этим… законам. Они могут быть достигнуты только интуицией, основанной на чем-то вроде интеллектуальной любви к объекту опыта»39. За свою короткую жизнь Шриниваса Рамануджан собрал около 3 900 математических тождеств и уравнений, почти все из которых теперь оказались правильными. Простое число Рамануджана и тета-функция Рамануджана вдохновили на огромное количество дальнейших исследований. Когда ведущие британские математики впервые внимательно изучили его записные книжки, они отреагировали со скептицизмом, подозрением и крайним недоверием, поскольку он пришел к оригинальным выводам беспрецедентной сложности, не пройдя через традиционный процесс математического доказательства. Когда его спросили, Рамануджан объяснил, что видел теоремы в уме.
За свою короткую жизнь Шриниваса Рамануджан собрал около 3 900 математических тождеств и уравнений, почти все из которых теперь оказались правильными. Простое число Рамануджана и тета-функция Рамануджана вдохновили на огромное количество дальнейших исследований. Когда ведущие британские математики впервые внимательно изучили его записные книжки, они отреагировали со скептицизмом, подозрением и крайним недоверием, поскольку он пришел к оригинальным выводам беспрецедентной сложности, не пройдя через традиционный процесс математического доказательства. Когда его спросили, Рамануджан объяснил, что видел теоремы в уме.
Томас Кун считает интуитивное мышление необходимым условием радикального изменения парадигмы, связанного с научными революциями. «Парадигмы вообще не исправимы нормальной наукой… нормальная наука в конечном счете ведет только к признанию аномалий и к кризисам. И они завершаются не размышлениями и интерпретациями, а относительно внезапным и неструктурированным событием, таким как переключение гештальта. Затем ученые часто говорят о «чешуйках, падающих с глаз» или о «вспышке молнии», которая «затопляет» ранее неясную загадку. В других случаях соответствующее озарение приходит во сне. Никакое обычное значение термина «интерпретация» не подходит к этим вспышкам интуиции, благодаря которым рождается новая парадигма».0003
Затем ученые часто говорят о «чешуйках, падающих с глаз» или о «вспышке молнии», которая «затопляет» ранее неясную загадку. В других случаях соответствующее озарение приходит во сне. Никакое обычное значение термина «интерпретация» не подходит к этим вспышкам интуиции, благодаря которым рождается новая парадигма».0003
Наше понимание интуитивных процессов довольно ограничено, несмотря на то, что на протяжении всей истории озарение и интуиция считались источником новых открытий и новых знаний. Мы живем во времена, характеризующиеся безоговорочной верой в силу рационального мышления, систематической подготовкой логических аргументов в формальном образовании и высочайшим вниманием к упорядоченным аргументам, основанным на фактических данных и логических рассуждениях, при оценке обоснованности любого предложения. Очень вероятно, что эта крайняя зависимость от аналитического и синтетического способов мышления препятствует развитию и упражнению этих способностей в наше время.
Философия и методология современной науки сосредоточены почти исключительно на принципах научного метода проверки гипотез. Так велико отождествление науки с аналитическим и синтетическим способами мышления, что она почти не уделяет внимания творческому процессу открытия, на котором фактически основаны ее величайшие достижения. Одной из причин этого нежелания сосредоточиться на интуитивном процессе научного творчества является таинственность, связанная с художественным творчеством и мистическим опытом. Если это так, то рациональность и логика диктуют, что наука должна стремиться извлечь как можно больше уроков из этих других способов мышления.
Так велико отождествление науки с аналитическим и синтетическим способами мышления, что она почти не уделяет внимания творческому процессу открытия, на котором фактически основаны ее величайшие достижения. Одной из причин этого нежелания сосредоточиться на интуитивном процессе научного творчества является таинственность, связанная с художественным творчеством и мистическим опытом. Если это так, то рациональность и логика диктуют, что наука должна стремиться извлечь как можно больше уроков из этих других способов мышления.
Интуиция может быть гораздо более распространенной, чем мы думаем. Сегодня мы признаем его только тогда, когда он связан с выдающимися открытиями, признанными всем миром, и в обстоятельствах, когда он связан с рядом других черт, способствующих высоким интеллектуальным достижениям, — высоким интеллектом, смелостью бросать вызов господствующим представлениям, необусловленным умом, способным независимого мышления и сильного стремления, которое порождает энергию и усилия для безудержного приложения и настойчивости. Весьма вероятно, что сама способность гораздо более распространена и выражается в виде творческого понимания на разных уровнях общества во многих областях, которые остаются незамеченными. Было время, когда умение читать, писать или считать считалось признаком гениальности. С тех пор человечество развивалось, наш разум развивался, и наша цивилизация развивалась так, что то, что когда-то было экстраординарным, стало нормой. Сегодня идея научиться мыслить интуитивно может показаться диковинной. Но вполне может быть, что как только мы прорвем завесу суеверий, окружающих его, мы обнаружим средства для его сознательного развития в больших масштабах. Первым важным шагом является устранение стигматизации или научного скептицизма, окружающих способы познания, выходящие за рамки логики и рациональности.
Весьма вероятно, что сама способность гораздо более распространена и выражается в виде творческого понимания на разных уровнях общества во многих областях, которые остаются незамеченными. Было время, когда умение читать, писать или считать считалось признаком гениальности. С тех пор человечество развивалось, наш разум развивался, и наша цивилизация развивалась так, что то, что когда-то было экстраординарным, стало нормой. Сегодня идея научиться мыслить интуитивно может показаться диковинной. Но вполне может быть, что как только мы прорвем завесу суеверий, окружающих его, мы обнаружим средства для его сознательного развития в больших масштабах. Первым важным шагом является устранение стигматизации или научного скептицизма, окружающих способы познания, выходящие за рамки логики и рациональности.
9. Пределы рациональности
Термин «пределы рациональности» по своей сути неоднозначен, а также тревожен и даже тревожен. Он двусмыслен в том смысле, что его можно использовать для обозначения обоих пределов степени, в которой рациональность применяется в стремлении к знанию, а также для предположения, что рациональность сама по себе подвержена врожденным ограничениям в своей способности достигать определенных знаний. По обеим этим причинам этот термин также вызывает тревогу и тревогу. Это тревожит, потому что мы, человеческие существа, обладаем или одержимы таким сильным стремлением достичь определенных знаний. Это беспокоит, потому что предполагает, что ментальные инструменты, до сих пор разработанные и используемые нами в поисках этой уверенности, подвержены врожденным ограничениям как в их применении, так и в их способности различения.
По обеим этим причинам этот термин также вызывает тревогу и тревогу. Это тревожит, потому что мы, человеческие существа, обладаем или одержимы таким сильным стремлением достичь определенных знаний. Это беспокоит, потому что предполагает, что ментальные инструменты, до сих пор разработанные и используемые нами в поисках этой уверенности, подвержены врожденным ограничениям как в их применении, так и в их способности различения.
Это историческое повествование об эволюции разума и цивилизации подтверждает эти выводы. Это подтверждает, что даже наш самый искренний, скрупулезный, беспристрастный и бескорыстный поиск знаний подвержен ограничениям, налагаемым сознательными и подсознательными восприятиями, концепциями, предположениями и точками зрения, с помощью которых мы ищем надежное знание. Как подчеркивает Байерс, сама природа концептуальной системы такова, что она самоограничена. Ибо, как бы ни были широки и открыты его помещения, оно есть конструкция, построенная и рассматриваемая изнутри самой себя, и неспособная с точки зрения до конца ощутить основания, на которых она построена. Излагая принципы, на которых основана его геометрия, Евклид никогда не представлял контекст, в котором могли бы встретиться две параллельные линии. Эта концепция принадлежала к другой концептуальной структуре, которая была обнаружена только 2000 лет спустя. Точно так же, когда Ньютон излагал свои законы движения, он никогда не определял пределов, в которых эти законы справедливы. Он, естественно, предполагал, что пространство и время — неизменные константы. Новая парадигма, разработанная Эйнштейном, бросила вызов предположениям, которые были настолько фундаментальными, что никогда прежде не подвергались сомнению. Квантовая теория бросила вызов столь фундаментальным представлениям, что даже Эйнштейн отверг их как неправдоподобные.
Излагая принципы, на которых основана его геометрия, Евклид никогда не представлял контекст, в котором могли бы встретиться две параллельные линии. Эта концепция принадлежала к другой концептуальной структуре, которая была обнаружена только 2000 лет спустя. Точно так же, когда Ньютон излагал свои законы движения, он никогда не определял пределов, в которых эти законы справедливы. Он, естественно, предполагал, что пространство и время — неизменные константы. Новая парадигма, разработанная Эйнштейном, бросила вызов предположениям, которые были настолько фундаментальными, что никогда прежде не подвергались сомнению. Квантовая теория бросила вызов столь фундаментальным представлениям, что даже Эйнштейн отверг их как неправдоподобные.
Наше сопротивление развлекательным предпосылкам, противоречащим установленным точкам зрения, возникает не только из-за неспособности вообразить или постичь что-то иное, но и из-за заметного предпочтения оправдания существующей системы. Эта тенденция настолько сильна, что наш разум тщательно отбирает для своего внимания идеи и свидетельства в поддержку своей точки зрения и игнорирует или не принимает во внимание то, что ей противоречит. побуждение научного коллектива восхищаться одеждой царствующего императора научного авторитета. Большее осознание социальных и психологических барьеров для действительно беспристрастного применения разума было бы большим вкладом.
побуждение научного коллектива восхищаться одеждой царствующего императора научного авторитета. Большее осознание социальных и психологических барьеров для действительно беспристрастного применения разума было бы большим вкладом.
10. Глубокое обучение
Перспектива, возникающая в результате исторического исследования сознания и цивилизации, имеет важное значение для образования. В этой статье утверждается, что основная задача, стоящая сегодня перед человечеством, состоит не в том, чтобы точно настроить постепенный прогресс в приобретении знаний, а в том, чтобы сознательно поддерживать и ускорять развитие радикально иных, более синтетических и интегрированных способов мышления и познания.
История подтверждает, что изменения в нашем мышлении вряд ли произойдут теми, кто уже находится в среднем или старшем возрасте. Большинство основополагающих изменений в обществе происходят только с уходом поколений, воспитанных и обусловленных прошлым, и с приходом новых поколений, не обусловленных предыдущим опытом. Образование является основным средством, разработанным человечеством для содействия сознательной социальной эволюции. Следовательно, она обязательно должна составлять ядро любой стратегии, направленной на ускорение развития наших умственных способностей.42
Образование является основным средством, разработанным человечеством для содействия сознательной социальной эволюции. Следовательно, она обязательно должна составлять ядро любой стратегии, направленной на ускорение развития наших умственных способностей.42
Одним из очевидных выводов является то, что исключительной озабоченности передачей большего содержания знаний недостаточно и даже может быть контрпродуктивно, потому что это только укрепляет существующую концептуальную основу и аналитические навыки и отвлекает энергию от творческого предприятия по совершенствованию наших знаний. умственные способности.
Можно сделать несколько предварительных предложений относительно того, чем будущее образование должно отличаться по методу и содержанию от преобладающего.
- Баланс между анализом, синтезом и интеграцией: реальность многомерна и интегрирована. Следовательно, таким должно быть эффективное знание этой реальности. Оно всегда формируется множеством аспектов, перспектив, сил.
 Тенденция уплотнять и сжимать реальность в упрощенные формулы — это форма преднамеренного невежества, которая облегчает передачу знаний и экзамены с множественным выбором, но заставляет разум мыслить упрощенно и скрывать важные измерения реальности. Ни одно утверждение, ни одна теоретическая точка зрения не может быть всеобъемлющей. Поэтому подход к образованию во всех областях должен подчеркивать многомерность, многогранность действительности и нашего знания о ней. Обучение по всем предметам должно подчеркивать сложность знаний, а не сводить их к простым формулам, которые необходимо запомнить. Он должен побуждать молодые умы исследовать противоположные, противоположные и противоречивые точки зрения. Точное ментальное знание тотальности никогда не возможно, особенно в отношении сложности человеческого опыта. Поэтому точное аналитическое знание отдельных составляющих элементов должно быть уравновешено целостным видением их гармоничного целостного отношения к целому и внутри него. Способность ума к различению и разграничению должна быть преодолена путем развития интуитивной способности к интеграции и объединению.
Тенденция уплотнять и сжимать реальность в упрощенные формулы — это форма преднамеренного невежества, которая облегчает передачу знаний и экзамены с множественным выбором, но заставляет разум мыслить упрощенно и скрывать важные измерения реальности. Ни одно утверждение, ни одна теоретическая точка зрения не может быть всеобъемлющей. Поэтому подход к образованию во всех областях должен подчеркивать многомерность, многогранность действительности и нашего знания о ней. Обучение по всем предметам должно подчеркивать сложность знаний, а не сводить их к простым формулам, которые необходимо запомнить. Он должен побуждать молодые умы исследовать противоположные, противоположные и противоречивые точки зрения. Точное ментальное знание тотальности никогда не возможно, особенно в отношении сложности человеческого опыта. Поэтому точное аналитическое знание отдельных составляющих элементов должно быть уравновешено целостным видением их гармоничного целостного отношения к целому и внутри него. Способность ума к различению и разграничению должна быть преодолена путем развития интуитивной способности к интеграции и объединению.
- Воссоединение Поверхности и Глубины, Объективного и Субъективного Измерений: Поскольку реальность имеет множество измерений, существует также множество уровней или глубин. Эффективное образование должно одновременно развивать наблюдение, восприятие и перспективу на нескольких уровнях реальности. Эти уровни представлены в естественных науках физическими, химическими, биологическими, генетическими, метаболическими, неврологическими и другими процессами, присутствующими в функционировании всех живых существ. Открытия Коперника, Эйнштейна и Гейзенберга явились результатом желания пересмотреть фундаментальные предпосылки. В гуманитарных науках реальность управляется множеством ментальных, эмоциональных, витальных, социальных, культурных, технологических, организационных и экологических факторов, которые обеспечивают основу и контекст для всех социальных явлений. Всестороннее изучение факторов, приведших к итальянскому Возрождению, отмене рабства, Великой депрессии, двум мировым войнам, концу колониализма, основанию ООН, началу и концу холодной войны, движению хиппи, рождение Европейского Союза и Интернета, изменение климата, финансовый кризис 2008 года, движение «Захвати Уолл-Стрит» и кризис с беженцами в Европе могут быть иллюстративными.
 В каждом случае всестороннее знание обязательно должно включать понимание господствующих идей, интеллектуальной атмосферы, верований, стремлений, тревог, угроз, возникающих эволюционных социальных сил и ценностей, противоборствующих корыстных интересов и реакционных сил, а также эмоциональных переживаний. Он должен включать в себя взгляд на поверхностные движения, отчетливые и отдельные элементы, противопоставления, борьбу сил, тонкие оттенки вариации и индивидуальности. Он также должен включать перспективу, основанную на основополагающем единстве, внутреннем единстве, гармонии в законе движения или бытия, большем примирении, центре, из которого исходят все аспекты и к которому они возвращаются.
В каждом случае всестороннее знание обязательно должно включать понимание господствующих идей, интеллектуальной атмосферы, верований, стремлений, тревог, угроз, возникающих эволюционных социальных сил и ценностей, противоборствующих корыстных интересов и реакционных сил, а также эмоциональных переживаний. Он должен включать в себя взгляд на поверхностные движения, отчетливые и отдельные элементы, противопоставления, борьбу сил, тонкие оттенки вариации и индивидуальности. Он также должен включать перспективу, основанную на основополагающем единстве, внутреннем единстве, гармонии в законе движения или бытия, большем примирении, центре, из которого исходят все аспекты и к которому они возвращаются. - Примирение противоречий: Как сказал Нильс Бор, «отличительной чертой любой глубокой истины является то, что ее отрицание также является глубокой истиной». объективность, индивидуальное своеобразие и коллективный тип. Вместо того, чтобы категоризировать реальность с точки зрения простых полярных противоположностей, образование должно развивать разные точки зрения, возникающие из разных точек зрения и разных уровней сознания и опыта.
 То, что кажется противоречием на одном уровне и с одной точки зрения, представляет собой дополнительные аспекты реальности с более широкой или более глубокой точки зрения. Изучение вещей с разных точек зрения ментального, витально-социального и физического планов будет воспитывать способность ясно различать эти движения, разделять их и лучше контролировать их.
То, что кажется противоречием на одном уровне и с одной точки зрения, представляет собой дополнительные аспекты реальности с более широкой или более глубокой точки зрения. Изучение вещей с разных точек зрения ментального, витально-социального и физического планов будет воспитывать способность ясно различать эти движения, разделять их и лучше контролировать их.
Подход, естественно, может варьироваться, и он слишком сложен, чтобы его можно было рассматривать в этой статье. Одного примера может быть достаточно, чтобы проиллюстрировать некоторые из этих аспектов. В марте 1933 года Франклин Д. Рузвельт стал президентом Соединенных Штатов в разгар самого серьезного банковского кризиса, с которым когда-либо сталкивалась страна. После Великого краха 1929 года более 6000 банков США обанкротились и закрылись. Ежедневно миллионы американцев выстраивались в очередь в остальные банки, чтобы снять свои сбережения, прежде чем их банк также объявил о банкротстве. В течение предыдущих трех лет были реализованы все инициативы в области экономической политики, которые считались уместными, но не смогли остановить крах системы. Рузвельт знал, что принципы экономики, которые он изучал в Гарварде, недостаточны для преодоления кризиса. Он понимал, что крах системы был результатом действия субъективных факторов, с которыми нельзя было быстро справиться на институциональном или политическом уровне. Поэтому он обратился к американскому народу по радио в первой из так называемых бесед у камина. Он объяснил им, что все объективные факторы, которые сделали Америку процветающей, сохранились — богатые природные ресурсы, трудолюбивые люди, огромная промышленная инфраструктура и континентальный рынок. Он поставил диагноз и сказал им, что реальная проблема не в каком-либо объективном факторе. Скорее, это была их собственная потеря уверенности в себе и веры в Америку. Он взывал к их мужеству и национальной гордости. Бессмертными словами он сказал им, что единственное, чего им следует бояться, — это самого страха. В течение этой недели был принят закон о страховании банковских вкладов и других гарантиях. Он попросил людей вернуться в свои банки в следующий понедельник и снова положить на депозит свои с трудом заработанные сбережения.
Рузвельт знал, что принципы экономики, которые он изучал в Гарварде, недостаточны для преодоления кризиса. Он понимал, что крах системы был результатом действия субъективных факторов, с которыми нельзя было быстро справиться на институциональном или политическом уровне. Поэтому он обратился к американскому народу по радио в первой из так называемых бесед у камина. Он объяснил им, что все объективные факторы, которые сделали Америку процветающей, сохранились — богатые природные ресурсы, трудолюбивые люди, огромная промышленная инфраструктура и континентальный рынок. Он поставил диагноз и сказал им, что реальная проблема не в каком-либо объективном факторе. Скорее, это была их собственная потеря уверенности в себе и веры в Америку. Он взывал к их мужеству и национальной гордости. Бессмертными словами он сказал им, что единственное, чего им следует бояться, — это самого страха. В течение этой недели был принят закон о страховании банковских вкладов и других гарантиях. Он попросил людей вернуться в свои банки в следующий понедельник и снова положить на депозит свои с трудом заработанные сбережения. Перед банками снова выросли длинные очереди, но на этот раз большинство людей пришло, чтобы снова положить свои деньги, и банковский кризис утих.
Перед банками снова выросли длинные очереди, но на этот раз большинство людей пришло, чтобы снова положить свои деньги, и банковский кризис утих.
Это известное событие иллюстрирует несколько важных аспектов необходимых изменений. Во-первых, он показывает, что экономика, политика, общество и культура являются неразделимыми измерениями единой интегрированной реальности. Многолетние публичные дебаты о роли правительства в регулировании рынков неуместны. Рынка без государственного регулирования не бывает. Без правовой инфраструктуры для защиты прав собственности и контрактов, без судебной системы для обеспечения соблюдения этих прав, без государственных институтов для предотвращения сговоров и монопольного контроля ни один рынок не может быть свободным и функциональным. Точно так же любая экономика зависит от господствующих социальных норм, ценностей, системы образования и множества других социальных факторов. Развитие настоящей экономической науки будет возможно только тогда, когда экономика будет рассматриваться как подмножество и неотъемлемая часть более широкого общества, частью которого она является.
Во-вторых, это событие иллюстрирует равную или большую важность лежащих в основе субъективных факторов в эффективном функционировании общества. Каждого студента-экономиста учат, что экономическая система основана на доверии и уверенности. Без этого деньги не имеют ценности, а финансовые институты не могут функционировать. Но хотя это и признается необходимостью, оно редко фигурирует в господствующих концептуальных рамках экономики, потому что экономическая теория очень сильно опирается на объективные, материальные факторы. Как и любой социальный институт и деятельность, экономическая деятельность является результатом сознательного выбора бесчисленного множества сознательных людей. Этот выбор зависит не только от их уверенности в системе, но и от их теоретического понимания того, как она работает. Деньги обычно рассматриваются как объективная реальность, вещь в себе. На самом деле деньги — это просто условность, принятая людьми как символ социальной власти. Деньги не имеют ценности вне социального контекста, т. е. на необитаемом острове. Как и язык, это сетевой инструмент, облегчающий взаимодействие между людьми. Ценность денег зависит от общей производительной способности общества, которая основана на знаниях, навыках и ценностях его отдельных членов.44
е. на необитаемом острове. Как и язык, это сетевой инструмент, облегчающий взаимодействие между людьми. Ценность денег зависит от общей производительной способности общества, которая основана на знаниях, навыках и ценностях его отдельных членов.44
В-третьих, это событие ярко иллюстрирует роль личности в общественном развитии. Основная экономическая и социальная наука имеет дело с широкими обобщениями и статистическими средними значениями. Личность — это просто число. Но на самом деле человек является источником всего творчества и инноваций в обществе. Поскольку образование является инструментом сознательной социальной эволюции, личность является катализатором эволюционного процесса. История подтверждает тот факт, что один мыслитель, лидер, изобретатель или предприниматель может изменить мир. Действительно, как однажды сказала Маргарет Мид, все существенные изменения в истории человечества были результатом действий небольших групп людей45.
Этот инцидент также иллюстрирует тот фундаментальный парадокс, что кризисы — это возможности. Средство Рузвельта от банковского кризиса 1933 г. привело к мерам, которые обеспечили стабильное развитие американской финансовой системы на протяжении более шести десятилетий, пока защитные меры не были систематически отменены в 1990-х гг., что привело к финансовому кризису 2008 г. Так же и история подтверждает, что практически каждое трагическое событие имело положительные последствия. Черная смерть в Европе привела к краху феодализма, проложив путь к подъему демократии. Две ужасные мировые войны привели к созданию ООН и международной хартии всеобщих прав человека. Это краткое повествование предназначено только для того, чтобы проиллюстрировать, что каждый известный факт, событие и понятие приобретают большее значение, если рассматривать их с более всеобъемлющей, целостной точки зрения.
Средство Рузвельта от банковского кризиса 1933 г. привело к мерам, которые обеспечили стабильное развитие американской финансовой системы на протяжении более шести десятилетий, пока защитные меры не были систематически отменены в 1990-х гг., что привело к финансовому кризису 2008 г. Так же и история подтверждает, что практически каждое трагическое событие имело положительные последствия. Черная смерть в Европе привела к краху феодализма, проложив путь к подъему демократии. Две ужасные мировые войны привели к созданию ООН и международной хартии всеобщих прав человека. Это краткое повествование предназначено только для того, чтобы проиллюстрировать, что каждый известный факт, событие и понятие приобретают большее значение, если рассматривать их с более всеобъемлющей, целостной точки зрения.
11. Эволюция познания
В этом повествовании прослеживается широкое развитие истории разума, его способностей и поиска знаний. Он подчеркивает некоторые связи между эволюцией наших субъективных способностей к самосознанию и познанию и эволюцией внешних аспектов человеческой цивилизации. Исторические записи обнаруживают однозначное соответствие между внутренним и внешним. Развитие умственных способностей и умственных представлений привело к прогрессивному развитию нашего коллективного социального существования. Это также показывает зависимость этого умственного развития от открытости, терпимости и активной поддержки, которую общество предлагает исследованию, распространению и применению новых знаний. Это взаимодействие между внутренним и внешним, разумом и цивилизацией, личностью и обществом, человеческим сознанием и институтами, которые мы создаем, было центральной детерминантой хода человеческой эволюции.
Исторические записи обнаруживают однозначное соответствие между внутренним и внешним. Развитие умственных способностей и умственных представлений привело к прогрессивному развитию нашего коллективного социального существования. Это также показывает зависимость этого умственного развития от открытости, терпимости и активной поддержки, которую общество предлагает исследованию, распространению и применению новых знаний. Это взаимодействие между внутренним и внешним, разумом и цивилизацией, личностью и обществом, человеческим сознанием и институтами, которые мы создаем, было центральной детерминантой хода человеческой эволюции.
Сегодня человечество сталкивается с неразрешимыми экзистенциальными проблемами. Учитывая нашу историю, кажется правдоподобным предположение, что проблемы, с которыми мы сталкиваемся, связаны с ограничениями в том, как мы используем наши умственные способности. Учитывая экстраординарные события, имевшие место в прошлом, кажется столь же разумным предположить, что мы еще не исчерпали пределы человеческого сознания, индивидуального или коллективного. Проблемы — это возможности. Кризисы — это толчок к эволюции.
Проблемы — это возможности. Кризисы — это толчок к эволюции.
Разум обладает замечательной способностью к адаптации и развитию. Но он также обнаруживает тенденцию упорно цепляться за свои прошлые достижения, непреклонно упорствовать в своем нынешнем направлении деятельности, сопротивляться эволюционным отклонениям и подолгу кружить вокруг в повторяющемся подтверждении того, что он уже знает и во что верит. Наша нынешняя озабоченность физическими, технологическими и организационными решениями проблем является примером этой повторяющейся тенденции. Перспектива истории раскрывает более масштабные движения и более длительные циклы, которые меняются от эпохи к эпохе, от цивилизации к цивилизации. Вполне может быть, что мы приближаемся к концу одного из этих циклов и должны подготовиться к более существенному переосмыслению основы знания и цивилизации в грядущем веке.
11.1. Наука, философия и религия
Символизм, интуитивное понимание, метафизический интеллект и экспериментальная наука внесли важный вклад в развитие цивилизации. Можно выделить этапы, на которых каждый из них играл доминирующую роль в расшифровке и представлении реальности. Глубокие истины существования, к которым пришли великие религиозные традиции, были результатом непосредственного духовного опыта, который нельзя было облечь в логический дискурс или подтвердить экспериментальными методами современной науки. Точно так же и в великие периоды философии рациональный ум искал ответы на вопросы, которые, по всей вероятности, всегда будут лежать вне поля зрения экспериментальной науки. Наука, в свою очередь, открыла закономерности, законы и формулы в тайнах физической природы, которые порождают чувство чуда столь же глубокое, как видения мистиков и логос мудрецов.
Можно выделить этапы, на которых каждый из них играл доминирующую роль в расшифровке и представлении реальности. Глубокие истины существования, к которым пришли великие религиозные традиции, были результатом непосредственного духовного опыта, который нельзя было облечь в логический дискурс или подтвердить экспериментальными методами современной науки. Точно так же и в великие периоды философии рациональный ум искал ответы на вопросы, которые, по всей вероятности, всегда будут лежать вне поля зрения экспериментальной науки. Наука, в свою очередь, открыла закономерности, законы и формулы в тайнах физической природы, которые порождают чувство чуда столь же глубокое, как видения мистиков и логос мудрецов.
Все трое внесли свой вклад в коллективный поиск знаний человечеством. В разные периоды истории каждый из них пытался доминировать над двумя другими, вплоть до того, что почти или полностью затмевал их роль. Наука и философия развивались бок о бок в Древней Греции и в эпоху Просвещения. Прекращение диалога между ними приобрело характер развода только во второй половине XX века46. Сегодня интеллектуальная дискуссия по фундаментальным вопросам природы в значительной степени вытеснена экспериментированием и анализом на основе данных в рамках существующих концептуальных рамок современной науки. .
Прекращение диалога между ними приобрело характер развода только во второй половине XX века46. Сегодня интеллектуальная дискуссия по фундаментальным вопросам природы в значительной степени вытеснена экспериментированием и анализом на основе данных в рамках существующих концептуальных рамок современной науки. .
Экспериментальная наука, философские размышления и духовный опыт представляют собой развитие трех разных и взаимодополняющих сил. Они только кажутся противоречивыми с узкой точки зрения. Это объясняет, почему даже в нашей развитой научной культуре великие ученые указывают на интуицию как на источник своего величайшего творческого вклада в прогресс знания. Таким образом, загадочная формула в Упанишадах «Единое неделимое, что есть чистое существование» и в Бхагавад-гите «Неделимый, но как бы разделенный на вещи» были переведены классическими греческими философами в интеллектуальные утверждения о единстве, единстве и союзе. чем через тысячу лет и подтверждено наукой в открытиях физиков через две тысячи лет после этого. ‡
‡
Постоянные интеллектуальные и практические проблемы, с которыми сегодня сталкивается человечество, дают нам возможность напомнить, что наши способности к познанию и совокупность наших знаний развиваются одновременно. Очевидная ограниченность нынешнего знания является напоминанием о том, что прогресс знания зависит от расширения нашего поля зрения, чтобы охватить более широкие диапазоны реальности, и от углубления нашего восприятия от наблюдения за внешними проявлениями до интеграции и объединения объективных и субъективных измерений реальности.
Примечания
- Уильям Байерс, Слепое пятно: наука и кризис неопределенности (Принстон: Princeton University Press, 2011.
- Гарри Джейкобс, «Новая парадигма: необходимость и возможность», Cadmus2, №2 (2014): 09–23.
- Иво Шлаус и Гарри Джейкобс, «В поисках новой парадигмы глобального развития», Cadmus 1, № 6 (2013): 1–7.
- Джанани Хариш, «Общество и социальная власть», Cadmus 2, № 3 (2014): 37-49.

- Гарри Джейкобс, «Откупоривание будущего: переход к новой парадигме», Cadmus 2, № 4 (2015): 69-82.
- Гарри Джейкобс, «Пути познания», Eruditio 1, № 4 (2014): 9–30.
- Гарри Джейкобс, «Пределы рациональности и границы восприятия», Eruditio 1, № 2 (2013): 108–118.
- Питер Уотсон, Идеи: история мысли и изобретений от огня до Фрейда (Нью-Йорк: HarperCollins Publishers, 2005), 47.
- Мерлин Дональд, Такой редкий разум (Нью-Йорк: WW Norton & Co., 2001), 260
- Шри Ауробиндо, Божественная жизнь (Пондичерри: Ашрам Шри Ауробиндо, 1955), 507.
- Дональд, Такой редкий разум, 262.
- Шри Ауробиндо, Человеческий цикл (Пондичерри: Ашрам Шри Ауробиндо, 1962), 7.
- Уотсон, Идеи, 6.
- Уотсон, Идеи, 52.
- «Разум есть инструмент анализа и синтеза, но не сущностного знания. Его функция состоит в том, чтобы смутно вырезать что-то из неизвестной Вещи самой по себе и назвать это измерение или разграничение его целым, а затем снова разложить целое на его части, которые он рассматривает как отдельные ментальные объекты».
 Шри Ауробиндо, «Божественная жизнь», стр. 127. 9.0597
Шри Ауробиндо, «Божественная жизнь», стр. 127. 9.0597 - Уотсон, Идеи, 8.
- Ватсон, Идеи, 160
- Ватсон, Идеи, 539
- Ватсон, Идеи, 394
- Уильям Байерс, Deep Thinking (Hackensack: World Scientific, 2015)
- Герберт Вайсберг, Умышленное невежество: мера неопределенности (Hoboken: Wiley, 2014)
- Вайсберг, Умышленное невежество.
- Хотя, как указывает Поппер, вероятностные утверждения нельзя ни проверить, ни опровергнуть, они заняли центральное место в научной практике. Карл Поппер, Логика научного открытия (Нью-Йорк: Routledge, 2002), 183.
- Байерс, Слепая зона.
- Байерс, Слепое пятно, 103-104.
- Орио Джарини, «Наука и экономика: случай неопределенности и неравновесия», Cadmus 1, № 2 (2011): 25-34.
- Нассим Николас Талеб, Черный лебедь: влияние крайне невероятного (Нью-Йорк: Random House, 2010), xxii.
- Талеб, Черный лебедь, xxvi.
- Вайсберг, Умышленное невежество.

- Гарри Джейкобс и Иво Шлаус, «Признание непризнанного гения», Cadmus I, № 5 (2012): 1-5.
- Байерс, Глубокое мышление.
- Байерс, Слепое пятно.
- Гарри Джейкобс, Уинстон Наган и Альберто Зуккони, «Объединение в социальных науках: поиск науки об обществе», Cadmus 2, № 3 (2014): 1-22
- Уинстон Наган и Гарри Джейкобс, «Новая парадигма глобального верховенства права», Cadmus 1, no. 4 (2012): 130-146.
- Гарри Джейкобс и Иво Слаус, «От ограничений к росту и к безграничному росту: взгляд революционера на богатство и благосостояние», Cadmus 1, № 4 (2012): 59-76.
- Гарри Джейкобс, «Необходимость новой парадигмы в экономике», Обзор кейнсианской экономики 3, № 1 (2015): 2–8.
- Поппер, Логика социальных наук, 90
- Шри Ауробиндо, Божественная жизнь 965.
- Поппер, Логика социальных наук, 8.
- Томас Кун, Структура научных революций (Чикаго: University of Chicago Press, 1970), 122–123
- «Разум, напротив, действует путем анализа и разделения и собирает свои факты в единое целое; но в образованной таким образом совокупности есть противоположности, аномалии, логические несовместимости, и естественная тенденция Разума состоит в том, чтобы утверждать одни и отрицать другие, которые противоречат выбранным им выводам, чтобы он мог образовать безупречную логическую систему».
 Шри Ауробиндо, Божественная жизнь, 69.
Шри Ауробиндо, Божественная жизнь, 69. - Гарри Джейкобс, «Преодоление образовательной деформации времени: предвосхищение другого будущего», Cadmus 2, № 5 (2015): .1-13.
- Макс Дельбрюк, Разум из материи: эссе по эволюционной эпистемологии (Оксфорд: Научные публикации Блэквелла, 1986), 167.
- Гарри Джейкобс и Иво Шлаус, «Сила денег», Cadmus 1, № 5 (2012): 68–73.
- Гарри Джейкобс, «Новая личность», Eruditio 1, №1 (2012): 9–30.
- Поппер комментирует попытки позитивизма ниспровергнуть и уничтожить метафизику. Поппер, Логика науки, 13.
* См. сайт проекта Всемирной академии искусства и науки в разделе «Новая парадигма» http://www.worldacademy.org/new-paradigm?quicktabs_new_paradigm_main=0#quicktabs-new_paradigm_main
† Информацию о партнерах и рабочих документах см. на сайте www. .neweconomictheory.org
‡ Чхандогья-упанишада, переведенная и процитированная Шри Ауробиндо в книге «Божественная жизнь», стр. 70, 159,231.
70, 159,231.
12 теорий о том, как мы стали людьми, и почему все они ошибочны
- Окаменелости Наледи
Убийцы? Хиппи? Инструментальщики? Повара? Ученые не могут договориться о сущности человечества, а также о том, когда и как мы его приобрели.
Обнаружен новый предок человека: Homo naledi (ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВИДЕО)
Что за штука — человек! Все согласны с этим. Но что именно в Homo sapiens делает нас уникальными среди животных, не говоря уже об обезьянах, и когда и как наши предки приобрели это нечто определенное? В прошлом веке появилось множество теорий. Некоторые рассказывают о времени, в котором жили их сторонники, не меньше, чем об эволюции человека.
1. Мы делаем инструменты: «Человек уникален именно тем, что изготавливает инструмента», — писал антрополог Кеннет Окли в статье 1944 года. Он объяснил, что обезьяны используют найденных предмета в качестве инструментов, «но придание формы палкам и камням для конкретных целей было первой узнаваемой деятельностью человека». В начале 1960-х годов Луис Лики приписал начало изготовления инструментов, а, следовательно, и человечества, виду под названием Homo habilis («Умелый человек»), который жил в Восточной Африке около 2,8 миллиона лет назад. Но, как позже показали Джейн Гудолл и другие исследователи, 9Шимпанзе 0944 также изготавливают палочки для определенных целей — сдирая с них листья, например, чтобы «ловить» подземных насекомых. Даже вороны, у которых нет рук, очень удобны.
В начале 1960-х годов Луис Лики приписал начало изготовления инструментов, а, следовательно, и человечества, виду под названием Homo habilis («Умелый человек»), который жил в Восточной Африке около 2,8 миллиона лет назад. Но, как позже показали Джейн Гудолл и другие исследователи, 9Шимпанзе 0944 также изготавливают палочки для определенных целей — сдирая с них листья, например, чтобы «ловить» подземных насекомых. Даже вороны, у которых нет рук, очень удобны.
Этот примитивный ручной топор, найденный в одном месте в Израиле, датируется 790 000 лет назад и, вероятно, был изготовлен Homo erectus. Древнейшим каменным орудиям 3,3 миллиона лет.
Фотография Кеннета Гаррета, Коллекция изображений Nat Geo
Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.
2. Мы убийцы : По словам антрополога Рэймонда Дарта, наши предки отличались от живых обезьян тем, что были убежденными убийцами — плотоядными существами, которые «насилием захватывали живые карьеры, забивали их до смерти, разрывали их изломанные тела, расчленяли их расчленяют на куски, утоляя свою ненасытную жажду горячей кровью жертв и жадно пожирая багровую извивающуюся плоть». Сейчас это может выглядеть как криминальное чтиво, но после ужасной бойни Второй мировой войны 19 лет Дарта53 статья, излагающая его теорию «обезьяны-убийцы», вызвала отклик.
Сейчас это может выглядеть как криминальное чтиво, но после ужасной бойни Второй мировой войны 19 лет Дарта53 статья, излагающая его теорию «обезьяны-убийцы», вызвала отклик.
Рэймонд Дарт, создатель теории эволюции человека об «обезьянах-убийцах», держит череп Таунгского ребенка, первого из когда-либо обнаруженных австралопитеков.
Фотография Дэвида Л. Брилла, National Georgaphic Creative
Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.
3. Мы делимся едой : В 1960-х годах обезьяна-убийца уступила место обезьяне-хиппи. Антрополог Глинн Исаак обнаружил свидетельства того, что туши животных были целенаправленно перемещены с мест их гибели в места, где, предположительно, мясо могло быть разделено со всей коммуной. По мнению Исаака, совместное использование пищи привело к необходимости делиться информацией о том, где можно найти пищу, и, таким образом, к развитию языка и других характерных для человека форм социального поведения.
4. Мы плаваем обнаженными : Чуть позже, в эпоху Водолея, Элейн Морган, сценарист телевизионных документальных фильмов, заявила, что люди так сильно отличаются от других приматов, потому что наши предки эволюционировали в другой среде — вблизи и в вода. Выпадение волос на теле сделало их более быстрыми пловцами, а вертикальное положение позволило им переходить вброд. Гипотеза «водной обезьяны» широко отвергается научным сообществом. Но в 2013 году его поддержал Дэвид Аттенборо.
5. Мы бросаем вещи 909:37: Археолог Рейд Ферринг считает, что наши предки стали мужественными, когда у них развилась способность швырять камни с высокой скоростью. В Дманиси, стоянке гоминидов возрастом 1,8 миллиона лет в бывшей советской республике Грузия, Ферринг нашел доказательства того, что Homo erectus изобрел публичное побивание камнями, чтобы отогнать хищников от их добычи. «Люди Дманиси были маленькими, — говорит Ферринг. — Это место было заполнено большими кошками. Так как же выжили гоминины? Как они проделали весь этот путь из Африки? Метание камней предлагает часть ответа». Побивание камнями животных также социализировало нас, утверждает он, потому что для достижения успеха требовались групповые усилия.
Так как же выжили гоминины? Как они проделали весь этот путь из Африки? Метание камней предлагает часть ответа». Побивание камнями животных также социализировало нас, утверждает он, потому что для достижения успеха требовались групповые усилия.
На этой картине, вдохновленной археологическими находками в Дманиси, Республика Грузия, изображена самка Homo erectus , готовящаяся бросить камень, чтобы отогнать гиен от туши оленя.
Фотография Джона Гурча, Nat Geo Image Collection
Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.
6. Мы охотимся : Охота не только вдохновляла на сотрудничество, утверждают антропологи Шервуд Уошберн и К. С. Ланкастер в 1968: «В самом прямом смысле наш интеллект, интересы, эмоции и основная социальная жизнь — все это эволюционные продукты успешной адаптации к охоте». Наш большой мозг, например, развился из-за необходимости хранить больше информации о том, где и когда найти дичь. Охота также якобы привела к разделению труда между полами, когда женщины занимались добычей пищи. В связи с этим возникает вопрос: почему у женщин тоже большой мозг?
Охота также якобы привела к разделению труда между полами, когда женщины занимались добычей пищи. В связи с этим возникает вопрос: почему у женщин тоже большой мозг?
7. Мы обмениваем еду на секс : Точнее, моногамный секс. Решающий поворотный момент в эволюции человека, согласно теории, опубликованной в 1981 К. Оуэна Лавджоя, было появление моногамии шесть миллионов лет назад. До этого больше всего занимались сексом грубые альфа-самцы, которые отгоняли соперничающих женихов. Однако моногамные самки отдавали предпочтение самцам, которые были наиболее искусны в обеспечении пищей и оставались рядом, чтобы помочь вырастить младших. По словам Лавджоя, наши предки начали ходить прямо, потому что это освобождало их руки и позволяло нести домой больше продуктов.
На слоне, который умер естественной смертью, археологи проверили, насколько быстро они могут разделывать мясо с помощью примитивных каменных инструментов. Каждый человек срезал сто фунтов в час.
Фотография Дэвида Л. Брилла, Коллекция изображений Nat Geo
Брилла, Коллекция изображений Nat Geo
Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.
8. Мы едим (приготовленное) мясо : Большой мозг голоден — серое вещество требует в 20 раз больше энергии, чем мышцы. Некоторые исследователи утверждают, что они никогда не могли бы развиваться на вегетарианской диете; вместо этого наш мозг вырос только после того, как мы начали есть мясо, источник пищи, богатый белком и жиром, около двух-трех миллионов лет назад. И, по словам антрополога Ричарда Рэнэма, когда наши предки изобрели кулинарию — уникальное человеческое поведение, которое облегчает переваривание пищи, — они тратили меньше энергии на пережевывание или измельчение мяса, и поэтому у их мозга было еще больше энергии. В конце концов, эти мозги стали достаточно большими, чтобы принять осознанное решение стать веганом.
9. Мы едим (приготовленные) углеводы : Согласно недавней статье, возможно, наш больший мозг стал возможен благодаря углеводной нагрузке. Когда наши предки изобрели кулинарию, клубни и другие крахмалистые растения стали превосходным источником пищи для мозга, более доступным, чем мясо. Фермент в нашей слюне, называемый амилазой, помогает расщеплять углеводы на глюкозу, необходимую мозгу. Эволюционный генетик Марк Дж. Томас из Университетского колледжа Лондона отмечает, что наша ДНК содержит несколько копий гена амилазы, предполагая, что он — и клубни — способствовали взрывному росту человеческого мозга.
Когда наши предки изобрели кулинарию, клубни и другие крахмалистые растения стали превосходным источником пищи для мозга, более доступным, чем мясо. Фермент в нашей слюне, называемый амилазой, помогает расщеплять углеводы на глюкозу, необходимую мозгу. Эволюционный генетик Марк Дж. Томас из Университетского колледжа Лондона отмечает, что наша ДНК содержит несколько копий гена амилазы, предполагая, что он — и клубни — способствовали взрывному росту человеческого мозга.
10. Мы ходим на двух ногах : Наступил ли решающий поворотный момент в эволюции человека, когда наши предки сошли с деревьев и начали прямохождение? Сторонники «гипотезы саванны» говорят, что причиной этой адаптации стало изменение климата. Когда около трех миллионов лет назад Африка стала суше, леса сократились, и в ландшафте стали доминировать саванны. Это благоприятствовало приматам, которые могли стоять и видеть поверх высокой травы, чтобы наблюдать за хищниками, и которые могли более эффективно перемещаться по открытому ландшафту, где источники пищи и воды находились далеко друг от друга. Одной из проблем для этой гипотезы является 2009 г.открытие Ardipithecus ramidus, гоминида, жившего 4,4 миллиона лет назад на территории современной Эфиопии. Тогда этот регион был влажным и лесистым, но «Арди» мог ходить на двух ногах.
Одной из проблем для этой гипотезы является 2009 г.открытие Ardipithecus ramidus, гоминида, жившего 4,4 миллиона лет назад на территории современной Эфиопии. Тогда этот регион был влажным и лесистым, но «Арди» мог ходить на двух ногах.
По мере того как климат Африки становился более засушливым примерно три миллиона лет назад, леса уступали место пастбищам, и нашим предкам пришлось приспосабливаться.
Фотография Маурисио Антона, Коллекция изображений Nat Geo
Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.
909:36 11. Мы адаптируемся : Ричард Поттс, директор Смитсоновской программы «Происхождение человека», предполагает, что на эволюцию человека повлияли множественные изменения климата, а не одна тенденция. По его словам, появление линии Homo почти три миллиона лет назад совпало с резкими колебаниями между влажным и сухим климатом. Поттс утверждает, что естественный отбор благоприятствовал приматам, которые могли справляться с постоянными и непредсказуемыми изменениями: способность к адаптации сама по себе является определяющей характеристикой человека.
Метательное оружие, сделанное ранними Homo sapiens, , найденное в Пиннакл-Пойнт в Южной Африке, отражает человеческую способность к сотрудничеству, по словам антрополога Кертиса Мареана.
Фотография Пер-Андерса Петтерссона, Getty Images
Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.
12. Мы объединяемся и властвуем : Антрополог Кертис Мареан предлагает свое видение происхождения человека, хорошо подходящее для нашего глобализированного века: Мы — последний инвазивный вид. После десятков тысяч лет пребывания на одном континенте наши предки колонизировали земной шар. Как они совершили этот подвиг? Ключом, по словам Мареана, была генетическая предрасположенность к сотрудничеству, рожденная не из альтруизма, а из конфликта. Группы приматов, которые сотрудничали, получили конкурентное преимущество над соперничающими группами, и их гены выжили. «Сочетание этой уникальной склонности с развитыми когнитивными способностями наших предков позволило им быстро адаптироваться к новым условиям», — пишет Мареан. «Это также способствовало инновациям, породив революционную технологию: передовое метательное оружие».
«Это также способствовало инновациям, породив революционную технологию: передовое метательное оружие».
Так что же не так со всеми этими теориями?
Многие из них заслуживают внимания, но у них есть одно предубеждение: идея о том, что человечество может быть определено одной четко определенной чертой или группой черт и что один этап эволюции был решающим поворотным моментом на неизбежном пути к Хомо сапиенс.
Но наши предки не были бета-тестами. Они не эволюционировали к чему-то, они просто выживали как австралопитека или человека прямоходящего. И ни одна приобретенная ими черта не была поворотным моментом, потому что в результате никогда не было ничего неизбежного: изготовление орудий, метание камней, поедание мяса и картофеля, готовность к сотрудничеству, приспособляемость — и о-о-большие мозги. — обезьяна-убийца, то есть мы. И развивается до сих пор.
Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.
Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.
Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.
Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.
Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.
Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.
Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.
Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.
Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.
Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.
Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.
Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.
Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.
1 / 13
1 / 13
Археологи изучают колоссальную каменную голову ольмеков в Ла-Венте, Мексика. Фотография 1947 года National Geographic. Цивилизация ольмеков, первая в Мезоамерике, дает ценные сведения о развитии остальной части региона.
Археологи изучают колоссальную каменную голову ольмеков в Ла-Венте, Мексика, на этой фотографии 1947 года National Geographic . Цивилизация ольмеков, первая в Мезоамерике, дает ценные сведения о развитии остального региона.
Фотография Ричарда Хьюитта Стюарта, National Geographic
Читать дальше
10 национальных парков с самой красивой осенней листвой
- Путешествия
10 национальных парков с самой красивой осенней листвой От Флориды до яркой золотой березы на Аляске, откройте для себя лучшие моменты осени в самых диких и знаковых пейзажах Америки.

Удивительное и случайное открытие пещеры ледникового периода
- History Magazine
Удивительное и случайное открытие пещеры ледникового периода
Случайно обнаруженная в 1968 году пещера Тито Бустильо на протяжении 26 000 лет была заселена палеолитическими народами, которые покрыли ее извилистые проходы и скалистые стены сотнями ярких произведения искусства.
Эксклюзивный контент для подписчиков
Почему люди так одержимы Марсом?
Как вирусы формируют наш мир
Эпоха собачьих бегов в США подходит к концу
Узнайте, как люди представляли жизнь на Марсе на протяжении истории
Узнайте, как новый марсоход НАСА будет исследовать красную планету
2 Почему
люди настолько чертовски одержимы Марсом?
Как вирусы формируют наш мир
Эпоха собачьих бегов в США подходит к концу
Узнайте, как люди представляли себе жизнь на Марсе на протяжении всей истории
Посмотрите, как новый марсоход НАСА будет исследовать красную планету
Почему люди так одержимы Марсом?
Как вирусы формируют наш мир
Эпоха собачьих бегов в США подходит к концу будет исследовать красную планету
Подробнее
Наука и культура — PMC
Западная наука могла бы кое-что узнать из того, как наука делается в других культурах тысячелетие назад во времена Ренессанса в Европе. Но даже если мы думаем о великих мыслителях эпохи Возрождения, таких как Галилео Галилей, Леонардо да Винчи или сэр Исаак Ньютон, как о первых «настоящих ученых», мы не должны забывать, что все цивилизации на протяжении всей истории создавали и накапливали знания для понимания и объяснения мир, процесс, который часто сопровождался или стимулировался технологическим развитием. Действительно, взрыв знаний в эпоху Возрождения был вызван возродившимся интересом к трудам греческих, римских и арабских философов и ученых — слово «Возрождение» подразумевает возобновление интереса к классической культуре и знаниям. Но независимо от различных культур и цивилизаций, оказавших влияние на науку, всех ученых объединяет то, что они изучают природные явления с помощью соответствующего набора правил, чтобы делать обобщения и прогнозы о природе.
Но даже если мы думаем о великих мыслителях эпохи Возрождения, таких как Галилео Галилей, Леонардо да Винчи или сэр Исаак Ньютон, как о первых «настоящих ученых», мы не должны забывать, что все цивилизации на протяжении всей истории создавали и накапливали знания для понимания и объяснения мир, процесс, который часто сопровождался или стимулировался технологическим развитием. Действительно, взрыв знаний в эпоху Возрождения был вызван возродившимся интересом к трудам греческих, римских и арабских философов и ученых — слово «Возрождение» подразумевает возобновление интереса к классической культуре и знаниям. Но независимо от различных культур и цивилизаций, оказавших влияние на науку, всех ученых объединяет то, что они изучают природные явления с помощью соответствующего набора правил, чтобы делать обобщения и прогнозы о природе.
наука является частью культуры, и то, как… наука делается, во многом зависит от культуры, в которой она практикуется
Однако большинство современных исследований окружающего нас мира носит эмпирический характер, и ясно, что нужно понять гораздо больше, чем что изучается учеными. Понимание сложных систем остается главной задачей будущего, и сегодня ни один ученый не может утверждать, что у нас есть подходящие методы для достижения этой цели. Таким образом, мы не можем обсуждать будущее науки, не принимая во внимание философские проблемы, порожденные изучением сложности. Современная или западная наука, возможно, не лучшим образом подходит для выполнения этой задачи, поскольку ее взгляд на мир слишком ограничен характерным для нее эмпирическим и аналитическим подходом, который в прошлом сделал ее столь успешной. Поэтому мы должны помнить о вкладе других цивилизаций в понимание природы — в частности, о восприятии мира в таких областях, как Азия и Африка, или среди коренных жителей Австралии и Южной Америки. Такие традиционные или местные знания в настоящее время все чаще используются не только с целью поиска новых лекарств, но и для выведения новых концепций, которые могут помочь нам примирить эмпиризм и науку.
Понимание сложных систем остается главной задачей будущего, и сегодня ни один ученый не может утверждать, что у нас есть подходящие методы для достижения этой цели. Таким образом, мы не можем обсуждать будущее науки, не принимая во внимание философские проблемы, порожденные изучением сложности. Современная или западная наука, возможно, не лучшим образом подходит для выполнения этой задачи, поскольку ее взгляд на мир слишком ограничен характерным для нее эмпирическим и аналитическим подходом, который в прошлом сделал ее столь успешной. Поэтому мы должны помнить о вкладе других цивилизаций в понимание природы — в частности, о восприятии мира в таких областях, как Азия и Африка, или среди коренных жителей Австралии и Южной Америки. Такие традиционные или местные знания в настоящее время все чаще используются не только с целью поиска новых лекарств, но и для выведения новых концепций, которые могут помочь нам примирить эмпиризм и науку.
Открыть в отдельном окне
Этот глобус, основанный на карте мира начала девятого века, был заказан Калифом аль-Мамуном в Багдаде. Изображение предоставлено Фуатом Сезгином, Институт истории арабо-исламских наук Франкфуртского университета, Германия.
Изображение предоставлено Фуатом Сезгином, Институт истории арабо-исламских наук Франкфуртского университета, Германия.
В эпоху Возрождения европейские ученые и философы бросили вызов давним убеждениям и разработали новую натурфилософию. Наука и искусство действительно процветали в Европе, и этому способствовали различные позитивные события, происходившие в то время. Самое главное, новая философия положила начало процессу, который в конечном итоге привел к независимости научной мысли и теорий от мифов, религии и теологии. Во-вторых, взаимодействие между различными европейскими культурами стимулировало творчество посредством новых способов мышления и новых парадигм наблюдения за природой. Наконец, что не менее важно, основание научных академий, в частности Accademia dei Lincei, Королевского общества и Академии наук, а также учреждение университетов по всей Западной Европе способствовало научному прогрессу посредством распространения новых знаний.
Но основы современной науки были заложены задолго до этого времени, особенно под влиянием исламской цивилизации. Мусульмане были ведущими учеными между седьмым и пятнадцатым веками и были наследниками научных традиций Греции, Индии и Персии. После присвоения и ассимиляции они опирались на эти открытия и развили истинно исламскую науку, которая привела к мировым знаниям во всех областях науки, включая медицину. Эта деятельность была космополитической, в ней участвовали арабы, персы, выходцы из Центральной Азии, христиане и евреи, а позже в нее вошли индийцы и турки. Передача знаний исламской науки на Запад по различным каналам проложила путь Возрождению и научной революции в Европе. Общественность на Западе, как правило, не знает об этом важном вкладе в современную науку и культуру Средневековья. Исламская цивилизация является частью нашего собственного наследия, и великие исламские ученые, чьи работы были переведены на латынь, такие как Джабир ибн Хайан (Гебер), Ибн Сина (Авиценна), ар-Рази (Разес), Ибн аль-Хайтам (Адхазин) и аль-Хуорезми, столь же важны, как и любой великий европейский ученый. Рисунки в этой статье иллюстрируют некоторые замечательные продукты исламской науки.
Мусульмане были ведущими учеными между седьмым и пятнадцатым веками и были наследниками научных традиций Греции, Индии и Персии. После присвоения и ассимиляции они опирались на эти открытия и развили истинно исламскую науку, которая привела к мировым знаниям во всех областях науки, включая медицину. Эта деятельность была космополитической, в ней участвовали арабы, персы, выходцы из Центральной Азии, христиане и евреи, а позже в нее вошли индийцы и турки. Передача знаний исламской науки на Запад по различным каналам проложила путь Возрождению и научной революции в Европе. Общественность на Западе, как правило, не знает об этом важном вкладе в современную науку и культуру Средневековья. Исламская цивилизация является частью нашего собственного наследия, и великие исламские ученые, чьи работы были переведены на латынь, такие как Джабир ибн Хайан (Гебер), Ибн Сина (Авиценна), ар-Рази (Разес), Ибн аль-Хайтам (Адхазин) и аль-Хуорезми, столь же важны, как и любой великий европейский ученый. Рисунки в этой статье иллюстрируют некоторые замечательные продукты исламской науки.
Открыть в отдельном окне
Копия астролаборатории, построенной в 984 году нашей эры великим персидским астрономом и математиком аль-Худжанди. Оригинал выставлен в Национальном музее Катара. Изображение предоставлено Фуатом Сезгином, Институт истории арабо-исламских наук Франкфуртского университета, Германия.
Ученые эпохи Возрождения, опиравшиеся на эти знания, а также все их предшественники и коллеги из других цивилизаций, хотели понять и описать причины и следствия явлений, наблюдаемых ими в природе. Действительно, Аристотель и Платон, вероятно, были первыми, кто заявил, что наше понимание мира природы основано на наборе априорных убеждений, а именно об идеальных объектах или универсальных ценностях, которые позволяют нам воображать и описывать окружающий мир. Религиозные люди верят, что эти универсальные ценности диктует Бог; агностики и атеисты считают, что универсальные ценности присущи «человеческому разуму». Эти трансцендентные ценности являются источником человеческих верований, которые направляют человечество к социальным и этическим правилам и к наблюдению за природой (Iaccarino, 2001a; Stent, 1974). Другими словами, наука глубоко укоренена в метафизике, и между религией и наукой нет конфликта. Более того, хотя язык науки часто является специализированным и, следовательно, недоступным для неспециалистов, наука и культура не являются разными сущностями: наука является частью культуры, и то, как осуществляется наука, во многом зависит от культуры, в которой она практикуется.
Другими словами, наука глубоко укоренена в метафизике, и между религией и наукой нет конфликта. Более того, хотя язык науки часто является специализированным и, следовательно, недоступным для неспециалистов, наука и культура не являются разными сущностями: наука является частью культуры, и то, как осуществляется наука, во многом зависит от культуры, в которой она практикуется.
Наука оказывает все более сильное влияние на европейскую культуру. В девятнадцатом веке модным словом для науки был «порядок». Ученые обнаружили, что движение звезд предсказуемо и что все земные и небесные явления следуют одним и тем же научным законам, как часовой механизм. Согласно галилейскому видению, они верили, что книга природы написана на языке математики, а буквы представлены геометрическими объектами. Миссия науки заключалась в том, чтобы открыть законы природы и тем самым объяснить все природные явления. Эта вера в науку породила философское движение, называемое позитивизмом, которое привело к повсеместному доверию к науке и технике и повлияло на социальную теорию. Даже после того, как позитивизм исчез, дарвиновская теория эволюции по-прежнему влияла на социальные явления, в первую очередь на евгенику и расизм. Вера в возможности, предлагаемые научным прогрессом, до сих пор формирует убеждения и действия людей; на самом деле такие выражения, как «это было научно продемонстрировано», часто используются, чтобы прервать дискуссию.
Даже после того, как позитивизм исчез, дарвиновская теория эволюции по-прежнему влияла на социальные явления, в первую очередь на евгенику и расизм. Вера в возможности, предлагаемые научным прогрессом, до сих пор формирует убеждения и действия людей; на самом деле такие выражения, как «это было научно продемонстрировано», часто используются, чтобы прервать дискуссию.
Работа ученых предполагает, что они бросают вызов принятым объяснениям фактов и предлагают новые и оригинальные способы их интерпретации. Оригинальность, независимость мысли и инакомыслие являются характеристиками научной культуры и, следовательно, бросают вызов устоявшимся культурным ценностям. Гарантиями независимости являются свобода исследования, свобода мысли, свобода слова, терпимость и готовность разрешать споры на основе доказательств. Эти ценности не важны для самой науки, но оказали сильное влияние на развитие современных демократических и свободных обществ. Успехи науки и использование научных знаний глубоко изменили повседневную жизнь, главным образом в развитых странах. Ожидаемая продолжительность жизни резко увеличилась, и для многих болезней доступны лекарства; производительность сельского хозяйства увеличилась в соответствии с демографическими изменениями; технологии освободили человечество от тяжелого труда. Новые методы коммуникации, обработки информации и вычислений принесли беспрецедентные возможности и проблемы (Iaccarino, 2000, 2001b). Эти открытия или изобретения радикально изменили наш способ описания мира природы и повлияли на нашу повседневную жизнь. Сегодня даже организация самого общества во многом обязана научному мышлению (UNESCO/ISCU, 19).99).
Ожидаемая продолжительность жизни резко увеличилась, и для многих болезней доступны лекарства; производительность сельского хозяйства увеличилась в соответствии с демографическими изменениями; технологии освободили человечество от тяжелого труда. Новые методы коммуникации, обработки информации и вычислений принесли беспрецедентные возможности и проблемы (Iaccarino, 2000, 2001b). Эти открытия или изобретения радикально изменили наш способ описания мира природы и повлияли на нашу повседневную жизнь. Сегодня даже организация самого общества во многом обязана научному мышлению (UNESCO/ISCU, 19).99).
Большая часть этого прогресса произошла в Европе, а затем в Северной Америке, и эти континенты по-прежнему являются основными игроками в науке. показывает, что за последнее десятилетие три четверти мировых научных публикаций пришли из Западной Европы и Северной Америки; а если принять присуждение Нобелевских премий по науке за показатель научного совершенства, то мы можем увидеть из того, что более 90% лауреатов по естественным наукам тоже из западных стран, несмотря на то, что в них проживает только 10% населения мира. Небольшое количество нобелевских лауреатов из остального мира отражает различия в культуре и типе предлагаемого образования, а также более низкий уровень финансовой поддержки науки.
Небольшое количество нобелевских лауреатов из остального мира отражает различия в культуре и типе предлагаемого образования, а также более низкий уровень финансовой поддержки науки.
Table 1
Worldwide scientific publications
| 1997 (%) | Change after 1990 (%) | |
|---|---|---|
| Western Europe | 37.5 | 110 |
| North America | 36. 6 6 | 92 |
| Industrial Asia | 10.8 | 126 |
| Former Soviet Union | 3.7 | 54 |
| Oceania | 2.8 | 107 |
| China | 2. 0 0 | 170 |
| India | 1.9 | 89 |
| Latin America | 1.8 | 136 |
| Southern and Eastern Средиземноморье | 1,9 | 120 |
| Африка к югу от Сахары | 0,7 | 72 |
| 7 Остальная часть Азии | 81227 98 |
Открыть в отдельном окне
Источник: Indicateurs 2000, Observatoire des Sciences et des Techniques, Париж (www. obs-ost.fr/en/) sciences (1901–1998) by geographical region
obs-ost.fr/en/) sciences (1901–1998) by geographical region
| Region | Number of laureates | Percentage |
|---|---|---|
| Western Europe | 230 | 50.0 |
| North America | 200 | 43.0 |
| Eastern Europe | 13 | 2. 8 8 |
| Asia | 9 | 1.9 |
| Australasia | 4 | 0.8 |
| Latin America | 3 | 0.6 |
| Africa | 1 | 0. 2 2 |
| Arabic region | 0 | 0.0 |
Открыть в отдельном окне
Правительства развитых стран считают науку и технологии необходимыми для экономического прогресса и военной мощи и поэтому выделяют большие финансовые ресурсы на образование и исследования. В свою очередь, стимулирующая культурная среда, отчасти благодаря высокому уровню образования, привлекает инвестиции в частные исследования, тем самым усиливая общественную приверженность науке. Справедливо сказать, что в последние несколько столетий наука оказала сильное влияние на культурные ценности во всем мире, но не всегда положительное. В развивающихся странах научное образование основано на западных концепциях и культуре, и его преподают те, для кого наука часто не связана с их культурой. Это приводит к тому, что учащиеся отрицают достоверность и авторитетность знаний, переданных им их родителями, бабушками и дедушками, и создает напряженность в некоторых обществах. Даже в развитых странах общее образование является недавней тенденцией. В 1913, Дж. Маккин Кеттел, вице-президент Американской ассоциации содействия развитию науки, заявил, что: «Нет ни одного мулата, который сделал бы заслуживающую похвалы научную работу» (Cattell, 1914). Его замечание отражает культурное отношение на рубеже ХХ века в США, которое лишило чернокожих соответствующего образования и, как следствие, сделало их менее заинтересованными в научной карьере. Точно так же многим странам потребовалось столько же времени, чтобы предоставить женщинам те же права, что и мужчинам, и тем самым дать им возможность участвовать в научной деятельности.
Это приводит к тому, что учащиеся отрицают достоверность и авторитетность знаний, переданных им их родителями, бабушками и дедушками, и создает напряженность в некоторых обществах. Даже в развитых странах общее образование является недавней тенденцией. В 1913, Дж. Маккин Кеттел, вице-президент Американской ассоциации содействия развитию науки, заявил, что: «Нет ни одного мулата, который сделал бы заслуживающую похвалы научную работу» (Cattell, 1914). Его замечание отражает культурное отношение на рубеже ХХ века в США, которое лишило чернокожих соответствующего образования и, как следствие, сделало их менее заинтересованными в научной карьере. Точно так же многим странам потребовалось столько же времени, чтобы предоставить женщинам те же права, что и мужчинам, и тем самым дать им возможность участвовать в научной деятельности.
Но что мы подразумеваем под «современной наукой»? Основной характеристикой этого подхода является понимание природы путем анализа каждого явления в соответствии с заранее определенным набором правил. Научная работа может быть описательной, как в случае космологии, палеонтологии или анатомии. Эти описания затем приводят к теориям или парадигмам, согласно Куну (1970), которые интерпретируют причины и следствия событий и могут быть проверены с помощью экспериментов. Когда эти эксперименты доказывают, что теория неверна, выдвигаются и проверяются новые гипотезы. Цитируя Бертольда Брехта в его пьесе о Галилее: «Цель науки не в том, чтобы открыть дверь к бесконечной мудрости, а в том, чтобы положить предел бесконечным заблуждениям».
Научная работа может быть описательной, как в случае космологии, палеонтологии или анатомии. Эти описания затем приводят к теориям или парадигмам, согласно Куну (1970), которые интерпретируют причины и следствия событий и могут быть проверены с помощью экспериментов. Когда эти эксперименты доказывают, что теория неверна, выдвигаются и проверяются новые гипотезы. Цитируя Бертольда Брехта в его пьесе о Галилее: «Цель науки не в том, чтобы открыть дверь к бесконечной мудрости, а в том, чтобы положить предел бесконечным заблуждениям».
Еще одной характеристикой науки является то, что она опирается на прошлое, так что она постепенна. По мере того как каждая научная дисциплина описывает определенную область на основе набора установленных правил — например, описание биологии на анатомическом, гистологическом, клеточном или биохимическом уровне — каждый тип описания со временем становится все более и более полным. Подходит ли она к концу, как заявил Гюнтер Стент в отношении молекулярной биологии в 1968 г. (Stent, 1968)? Стент начал свою научную карьеру, когда многие люди в рамках виталистических теорий считали, что невозможно интерпретировать наследование генетических признаков в химических терминах. Выяснение генетического кода было для него победой, но в то же время и завершением испытания. Заявление Стента огорчило многих ученых того времени, считавших, что молекулярная биология еще жива, и мы действительно впоследствии стали свидетелями огромного количества новых открытий и новых знаний в этой области. Однако правда, что после 1968 работа по выяснению генетического кода сводилась лишь к выяснению деталей. Я считаю, что конкретные виды научного описания действительно подходят к концу, как и в случае с анатомией, которую много лет назад активно изучали, а сегодня эти знания в основном получают по учебникам.
(Stent, 1968)? Стент начал свою научную карьеру, когда многие люди в рамках виталистических теорий считали, что невозможно интерпретировать наследование генетических признаков в химических терминах. Выяснение генетического кода было для него победой, но в то же время и завершением испытания. Заявление Стента огорчило многих ученых того времени, считавших, что молекулярная биология еще жива, и мы действительно впоследствии стали свидетелями огромного количества новых открытий и новых знаний в этой области. Однако правда, что после 1968 работа по выяснению генетического кода сводилась лишь к выяснению деталей. Я считаю, что конкретные виды научного описания действительно подходят к концу, как и в случае с анатомией, которую много лет назад активно изучали, а сегодня эти знания в основном получают по учебникам.
Открыть в отдельном окне
Эти чрезвычайно точные «Весы мудрости» были построены в Институте истории арабо-исламских наук по описанию Абдаррахманала-Хазини из Хорасана в Северо-Восточной Персии, который усовершенствовал и описал их в первая половина двенадцатого века. Изображение предоставлено Фуатом Сезгином, Институт истории арабо-исламских наук Франкфуртского университета, Германия.
Изображение предоставлено Фуатом Сезгином, Институт истории арабо-исламских наук Франкфуртского университета, Германия.
Ученые добились больших успехов в изучении конкретных аспектов мира природы, поддающихся наблюдению и экспериментированию, поскольку были доступны необходимые теоретические и технические инструменты; это верно для микробиологии и открытия возбудителей инфекционных болезней в конце девятнадцатого века и для открытия витаминов в первые десятилетия двадцатого века. Ученые работают с простыми системами, которые обычно представляют собой идеализированные или примитивные модели реальной ситуации. Они также работают на определенном уровне анализа; например, физика элементарных частиц не способствует толкованию механизма мышечного сокращения. Говоря словами Альберта Сент-Дьёрдьи: «В поисках тайны жизни я начал свои исследования в области гистологии. Неудовлетворенный информацией, которую могла дать мне клеточная морфология о жизни, я обратился к физиологии. Найдя физиологию слишком сложной, я занялся фармакологией. По-прежнему находя ситуацию слишком сложной, я обратился к бактериологии. Но бактерии были даже слишком сложны, поэтому я опустился на молекулярный уровень, изучая химию и физическую химию. После двадцати лет работы я пришел к выводу, что для понимания жизни мы должны спуститься на электронный уровень и в мир волновой механики. Но электроны — это просто электроны, в них вообще нет жизни. Очевидно, в пути я потерял жизнь; он вытек между моими пальцами».
По-прежнему находя ситуацию слишком сложной, я обратился к бактериологии. Но бактерии были даже слишком сложны, поэтому я опустился на молекулярный уровень, изучая химию и физическую химию. После двадцати лет работы я пришел к выводу, что для понимания жизни мы должны спуститься на электронный уровень и в мир волновой механики. Но электроны — это просто электроны, в них вообще нет жизни. Очевидно, в пути я потерял жизнь; он вытек между моими пальцами».
Сент-Дьёрдьи описывает сегодняшние проблемы науки: неспособность интегрировать результаты и концепции, полученные из разных подходов и уровней анализа. Редукционистский подход большинства ученых состоит в том, чтобы игнорировать избранные факты и предлагать модель, основанную на том, что они считают ключевыми наблюдениями, что, безусловно, полезно, когда модель может быть проверена экспериментально. Биологические явления изучаются на разных уровнях организации, и теории, сформулированные на каждом уровне, могут объяснить лишь определенный набор фактов. При переходе от простого уровня к более сложному появляются новые модели поведения. Другими словами, целое больше, чем сумма частей, или отличается от суммы частей. Например, свойства белка отличаются от суммы свойств каждой аминокислоты, из которой он состоит. Свойства биологических структур, состоящих из макромолекул, удерживаемых вместе за счет нековалентных взаимодействий, отличаются от суммы свойств каждой макромолекулы. Изучение таких сложных систем в биологии или других дисциплинах остается серьезной задачей на будущее и может потребовать изменения подхода.
При переходе от простого уровня к более сложному появляются новые модели поведения. Другими словами, целое больше, чем сумма частей, или отличается от суммы частей. Например, свойства белка отличаются от суммы свойств каждой аминокислоты, из которой он состоит. Свойства биологических структур, состоящих из макромолекул, удерживаемых вместе за счет нековалентных взаимодействий, отличаются от суммы свойств каждой макромолекулы. Изучение таких сложных систем в биологии или других дисциплинах остается серьезной задачей на будущее и может потребовать изменения подхода.
В этом стремлении нам может оказаться полезным сравнить западную науку с традиционными знаниями. В то время как западная наука отдает предпочтение редукционистским, механистическим и количественным методам, традиционные знания рассматривают природные явления с глобальной точки зрения. Эти наблюдения строго связаны с местной культурой и господствующей философией. В доколониальной Африке специалисты хорошо знали особенности местного климата и почвы, могли дать квалифицированный совет, где и когда выращивать урожай. Они хорошо знали тропическую флору и кустарники пустыни и разработали сложную систему классификации растений по семействам и группам на основе их культурных и ритуальных свойств. Ученые майя в Южной Америке разработали очень сложный календарь, наблюдая за Солнцем и звездами. Американские индейцы и австралийские аборигены накопили огромное количество биологических знаний, основанных на их наблюдениях за природой. Медицинские теории йоруба Нигерии включали концепцию невидимых сущностей, вызывающих инфекционные заболевания, аналогичные бактериям западной медицины. Наука и технологии в Африке когда-то были весьма развиты, сравнимы с европейским уровнем того времени, в области медицины и ветеринарии, сельского хозяйства, консервирования пищевых продуктов, ферментации, металлургии и приготовления мыла и косметики (Mazrui & Ade Ajayi, 19).98). Культуры всех регионов мира разработали сложный взгляд на природу, уходящий корнями в их философию, что привело к их пониманию и объяснению мира природы.
Они хорошо знали тропическую флору и кустарники пустыни и разработали сложную систему классификации растений по семействам и группам на основе их культурных и ритуальных свойств. Ученые майя в Южной Америке разработали очень сложный календарь, наблюдая за Солнцем и звездами. Американские индейцы и австралийские аборигены накопили огромное количество биологических знаний, основанных на их наблюдениях за природой. Медицинские теории йоруба Нигерии включали концепцию невидимых сущностей, вызывающих инфекционные заболевания, аналогичные бактериям западной медицины. Наука и технологии в Африке когда-то были весьма развиты, сравнимы с европейским уровнем того времени, в области медицины и ветеринарии, сельского хозяйства, консервирования пищевых продуктов, ферментации, металлургии и приготовления мыла и косметики (Mazrui & Ade Ajayi, 19).98). Культуры всех регионов мира разработали сложный взгляд на природу, уходящий корнями в их философию, что привело к их пониманию и объяснению мира природы. Традиционные знания неевропейских культур являются выражением специфических способов жизни в мире, специфических отношений между обществом и культурой, а также специфического подхода к получению и построению знаний. Эти знания обеспечивают большую часть населения мира основным средством удовлетворения своих основных потребностей. Но колонизация европейцами уничтожила большую часть этих местных знаний и заменила их европейской образовательной и политической системой, которая впоследствии обесценила то, что от нее осталось. Постепенно важность и влияние традиционных знаний уменьшились из-за успехов современной науки и техники и сопутствующей им экономической мощи. По этим причинам системы знаний других культур о наблюдении за природой практически утеряны для западного мира.
Традиционные знания неевропейских культур являются выражением специфических способов жизни в мире, специфических отношений между обществом и культурой, а также специфического подхода к получению и построению знаний. Эти знания обеспечивают большую часть населения мира основным средством удовлетворения своих основных потребностей. Но колонизация европейцами уничтожила большую часть этих местных знаний и заменила их европейской образовательной и политической системой, которая впоследствии обесценила то, что от нее осталось. Постепенно важность и влияние традиционных знаний уменьшились из-за успехов современной науки и техники и сопутствующей им экономической мощи. По этим причинам системы знаний других культур о наблюдении за природой практически утеряны для западного мира.
Открыть в отдельном окне
Аппарат для дистилляции розовой воды. Реплика, построенная Институтом истории арабо-исламских наук по описанию врача аз-Захрави конца десятого века в мусульманской Испании. Изображение предоставлено Фуатом Сезгином, Институт истории арабо-исламских наук Франкфуртского университета, Германия.
Это большая потеря для современной науки. Хотя она заняла доминирующее положение, существуют и другие системы знаний, и мы должны признать, что наше понимание науки является одной из многих систем знаний (Nakashima, 2000). Традиционные знания не делят наблюдения на разные дисциплины в той же степени, что и наука, и этот более синтетический и целостный подход может помочь в разработке новых парадигм наблюдения и изучения сложных явлений. Большинство наших наблюдений за миром природы носят эмпирический характер, и ученые предлагают научное объяснение лишь части из них. Традиционное знание незападных культур помещает эмпирические наблюдения в другой, более широкий контекст. Таким образом, во всех культурах мы пытаемся согласовать эмпирические наблюдения, чтобы описать природу и иметь возможность интерпретировать и предсказывать ее. Поскольку современная наука достигает своих пределов, пытаясь объяснить внутреннее устройство окружающего нас мира, нам, возможно, следует вспомнить и переоценить вклад других культур в понимание природы, как это сделали ученые эпохи Возрождения с древними знаниями о Земле. Греческие и арабские ученые.
Греческие и арабские ученые.
Этот текст является развитием речи, произнесенной на пленарном заседании Папской академии наук в Ватикане в ноябре 2002 г.
Основные теории истории от греков до марксизма
История понимания Джорджа Новака
Исторические материалисты были бы неверны своим принципам, если бы не рассматривали свой метод истолкования истории как результат длительного, сложного и противоречивого процесса. Человечество творило историю в течение миллиона или более лет, продвигаясь от состояния приматов к атомному веку. Но историческая наука, способная установить законы коллективной деятельности человека на протяжении веков, является относительно недавним приобретением.
Только около 2500 лет назад были предприняты первые попытки обозреть долгий путь человеческой истории, изучить ее причины и изложить ее последовательные этапы с научной точки зрения. Эта задача, как и многие другие в области теории, первоначально была взята на себя греками.
Чувство истории есть предпосылка исторической науки. Это не врожденная, а культивируемая, исторически сформированная способность. Различение течения времени в четко определенных прошлом, настоящем и будущем коренится в эволюции организации труда. Сознание человеком жизни как состоящей из последовательных и меняющихся событий приобретало широту и глубину вместе с развитием и разнообразием общественного производства. Календарь впервые появляется не среди собирателей пищи, а в сельскохозяйственных общинах.
Первобытные народы от дикости до высших стадий варварства так же мало заботятся о прошлом, как и о будущем. То, что они переживают и делают, составляет часть объективной универсальной истории. Но они остаются в неведении относительно того места, которое они занимают, или той роли, которую они играют в прогрессе человечества.
Сама идея исторического продвижения от одной ступени к другой неизвестна. У них нет нужды исследовать движущие силы истории или выделять фазы общественного развития. Их коллективное сознание не достигло уровня исторического мировоззрения или социологического понимания.
Их коллективное сознание не достигло уровня исторического мировоззрения или социологического понимания.
Низкий уровень их производительных сил, незрелость их экономических форм, узость их деятельности и скудость их культуры и связей проявляются в их крайне ограниченных взглядах на ход событий.
О количестве исторических знаний, которыми обладают чрезвычайно примитивные умы, можно судить по следующим наблюдениям, сделанным отцом-иезуитом Джейкобом Бегертом в его «Отчете об аборигенах Калифорнийского полуострова».0008 написано 200 лет назад. «Ни один калифорнийец не знаком с событиями, происходившими в стране до его рождения, и даже не знает, кем были его родители, если бы он потерял их в младенчестве — калифорнийцы — верили, что Калифорния представляет собой весь мир, и сами они его единственные обитатели; ибо они ни к кому не ходили, и никто к ним не приходил, каждый народец оставался в пределах своего небольшого района».
В доиспанские времена они отмечали только одно повторяющееся событие — сбор плодов питахайи. Таким образом, промежуток в три года называется тремя питахайями. «Однако они редко пользуются такими фразами, потому что они почти никогда не говорят между собой о годах, а говорят только «давно» или «недавно», будучи совершенно безразличными, прошло ли два года или двадцать лет с тех пор, как произошло событие. определенное событие».
Таким образом, промежуток в три года называется тремя питахайями. «Однако они редко пользуются такими фразами, потому что они почти никогда не говорят между собой о годах, а говорят только «давно» или «недавно», будучи совершенно безразличными, прошло ли два года или двадцать лет с тех пор, как произошло событие. определенное событие».
Еще несколько тысяч лет назад люди считали само собой разумеющимся свою особую организацию социальных отношений. Оно казалось им таким же незыблемым и окончательным, как небо и земля, и таким же естественным, как их глаза и уши. Первые люди даже не отличали себя от остальной природы и не проводили резкой демаркационной линии между собой и другими живыми существами в их среде обитания. Им потребовалось гораздо больше времени, чтобы научиться отличать то, что принадлежит природе, от того, что принадлежит обществу.
Пока общественные отношения остаются простыми и устойчивыми, изменяясь крайне медленно и почти незаметно на протяжении огромных промежутков времени, общество сливается с фоном природы и не выделяется резким контрастом с ней. Опыт одного поколения не сильно отличается от опыта другого. Если привычная организация с ее традиционным распорядком нарушается, она либо исчезает, либо строится заново по старому образцу. Более того, окружающие сообщества, насколько они известны (а знакомство не простирается очень далеко ни в пространстве, ни во времени), почти такие же. До прихода европейцев североамериканские индейцы могли путешествовать от Атлантики до Тихого океана, а аборигены Австралии могли преодолевать тысячи миль, не сталкиваясь с радикально отличающимися типами человеческих обществ.
Опыт одного поколения не сильно отличается от опыта другого. Если привычная организация с ее традиционным распорядком нарушается, она либо исчезает, либо строится заново по старому образцу. Более того, окружающие сообщества, насколько они известны (а знакомство не простирается очень далеко ни в пространстве, ни во времени), почти такие же. До прихода европейцев североамериканские индейцы могли путешествовать от Атлантики до Тихого океана, а аборигены Австралии могли преодолевать тысячи миль, не сталкиваясь с радикально отличающимися типами человеческих обществ.
При таких обстоятельствах ни общество вообще, ни собственный особый образ жизни не рассматриваются как особый объект, заслуживающий особого внимания и изучения. Потребность в теоретизировании истории или природы общества не возникает до тех пор, пока цивилизация не достигнет высокого уровня развития и не произойдут внезапные, насильственные и далеко идущие потрясения в социальных отношениях при жизни людей или в памяти их старших.
Когда от одной формы социальной структуры к другой совершаются быстрые шаги, старые времена и обычаи резко контрастируют и даже противоречат новым. Через торговлю, путешествия и войны представители расширяющейся социальной системы, строящейся или перестраивающейся, вступают в контакт с народами совершенно иных обычаев, находящихся на более низких уровнях культуры.
Более того, вопиющие различия в условиях жизни внутри их собственных сообществ и ожесточенные конфликты между антагонистическими классами побуждают мыслящих людей, располагающих средствами для таких занятий, размышлять о происхождении таких противоречий, сравнивать различные виды обществ и правительств, и попытаться расположить их в порядке последовательности или ценности.
Английский историк М.И. Финли делает то же самое в рецензии на три недавние книги о древнем Востоке от 20 августа 1919 г.65, New Statesman : «Наличие или отсутствие «исторического смысла» есть не что иное, как интеллектуальное отражение очень широких различий в самом историческом процессе».
Он цитирует ученого-марксиста, профессора Д.Д. Косамби, который приписывает «полное отсутствие исторического смысла» в древней Индии узкому взгляду на деревенскую жизнь, связанному с ее способом сельскохозяйственного производства. «Важна смена сезонов, в то время как в деревне из года в год практически не наблюдается кумулятивных изменений. Это дает иностранным наблюдателям общее ощущение «Вневременного Востока».
У других цивилизованных народов древнего Ближнего и Среднего Востока также отсутствовало чувство истории. Нет ничего, отмечает профессор Лео Оппенхельм, «что свидетельствовало бы об осознании писцами существования исторического континуума в месопотамской цивилизации». Это подтверждается тем фактом, что «самые длинные и наиболее четкие ассирийские царские надписи — были встроены в основание храма или дворца, защищены от человеческих глаз и могли быть прочитаны только божеством, которому они были адресованы».
Основные предпосылки исторического воззрения на историю на Западе возникли примерно с 1100 по 700 г. до н.э. в результате перехода от бронзового века к железному в ближневосточных и эгейских цивилизациях. Сравнительно самодостаточные земледельческие царства и поселения дополнялись или вытеснялись шумными торговыми центрами, особенно в финикийских и ионийских портах Малой Азии. Там новые классы — купцы, судовладельцы, фабриканты, ремесленники, мореплаватели — вышли на первый план и бросили вызов институтам, идеям и власти старых дворян-землевладельцев. Патриархальное рабство превратилось в рабство движимое. Товарные отношения, металлические деньги, ипотечный долг разъедали архаичные социальные уклады. Первые демократические революции и олигархические контрреволюции зародились в городах-государствах.
до н.э. в результате перехода от бронзового века к железному в ближневосточных и эгейских цивилизациях. Сравнительно самодостаточные земледельческие царства и поселения дополнялись или вытеснялись шумными торговыми центрами, особенно в финикийских и ионийских портах Малой Азии. Там новые классы — купцы, судовладельцы, фабриканты, ремесленники, мореплаватели — вышли на первый план и бросили вызов институтам, идеям и власти старых дворян-землевладельцев. Патриархальное рабство превратилось в рабство движимое. Товарные отношения, металлические деньги, ипотечный долг разъедали архаичные социальные уклады. Первые демократические революции и олигархические контрреволюции зародились в городах-государствах.
Ионийские греки, составившие первые правдивые письменные истории, были соратниками торговцев, инженеров, ремесленников и путешественников. Пионер западных историков Гекаэтей жил в том же торговом городе Милете, что и первые философы и ученые, и принадлежал к тому же материалистическому направлению мысли.
Написание истории вскоре породило интерес к исторической науке. Как только сформировалась привычка рассматривать события в последовательности их изменений, возникли вопросы: как разворачивалась история? Была ли какая-то различимая закономерность в его движении? Если да, то что это было? И каковы были его причины?
Первое действительно рациональное объяснение исторического процесса в целом дали выдающиеся греческие историки от Геродота до Полибия. Это была циклическая концепция исторического движения. Согласно этой точке зрения, общество, как и природа, проходило через одинаковые модели развития в периодически повторяющихся кругах.
Фукидид, выдающийся греческий историк, заявил, что он написал свой отчет о Пелопоннесских войнах, чтобы преподать людям уроки, поскольку идентичные события должны были произойти снова. Платон учил учению о Великом Году, в конце которого планеты займут те же положения, что и раньше, и все подлунные события будут повторяться. Эта концепция была выражена в виде популярной аксиомы у Екклесиаста: «Нет ничего нового под солнцем».
Циклический характер человеческих дел был тесно связан с концепцией всемогущей, непостижимой, непреклонной Судьбы, пришедшей на смену богам как властелину истории. Это было мифологизировано в лицах Трех Судеб и далее рационализировалось учеными людьми как высший закон жизни. Это представление о космической трагической судьбе, от которой человеческое обращение или бегство невозможно, не только стало главной темой классических греческих драматургов, но и заложено в историческом творчестве Геродота.
Сравнение с другими народами или между греческими государствами, находившимися на разных стадиях социального, экономического и политического развития, породило сравнительную историю наряду с первыми намеками на историческую прогрессию. Еще в восьмом веке до нашей эры поэт Гесиод говорил о медном веке, предшествовавшем железному. Спустя несколько столетий Геродот, первый антрополог и отец истории, собрал ценные сведения об обычаях средиземноморских народов, живших в условиях дикости, варварства и цивилизации. Фукидид указывал, что греки когда-то жили так же, как варвары в его время. Платон в его Республика , L aws и другие сочинения, а Аристотель в своей Политике собрал образцы различных форм государственного правления. Они называли, классифицировали и критиковали их. Они стремились установить не только наилучший способ правления города-государства, но и порядок их форм развития и причины политических вариаций и революций.
Фукидид указывал, что греки когда-то жили так же, как варвары в его время. Платон в его Республика , L aws и другие сочинения, а Аристотель в своей Политике собрал образцы различных форм государственного правления. Они называли, классифицировали и критиковали их. Они стремились установить не только наилучший способ правления города-государства, но и порядок их форм развития и причины политических вариаций и революций.
Полибий, греческий историк возникновения Римской империи, рассматривал ее как превосходный пример естественных законов, регулирующих циклическую трансформацию одной формы правления в другую. Он считал, как и Платон, что все государства неизбежно проходят через фазы царствования, аристократии и демократии, которые вырождаются в родственные им формы деспотизма, олигархии и мафии. Возникновение и вырождение этих последовательных стадий правления было обусловлено естественными причинами. «Это регулярный цикл конституционных революций и естественный порядок, в котором институты меняются, трансформируются и возвращаются на свою первоначальную стадию», — писал он.
Точно так же, как они знали и называли основные виды политической организации от монархии до демократии, греческие мыслители как идеалистической, так и материалистической школы создали основные типы исторической интерпретации, сохранившиеся до наших дней.
Они были первыми, кто попытался объяснить эволюцию общества в материалистическом ключе, какими бы грубыми и неуклюжими ни были их первоначальные попытки. Атомисты, софисты и медицинская школа Гиппократа выдвинули идею о том, что природная среда является решающим фактором в формировании человечества. В своих крайних проявлениях это направление мысли сводило социально-исторические изменения к последствиям географического театра и его климатической обусловленности. Так, Полибий писал: «Мы, смертные, имеем непреодолимую склонность поддаваться климатическим влияниям; и по этой причине, а не по какой-либо другой, можно проследить большие различия, которые преобладают среди нас в характере, физическом строении и цвете лица, а также в большинстве наших привычек, меняющихся в зависимости от национальности и большого местного разделения».
Эти первые социологи учили, что человечество поднялось от дикости к цивилизации, подражая природе и совершенствуя ее действия. Лучшим представителем этого материалистического взгляда в греко-римской культуре был Лукреций, который в своей поэме «О природе вещей» дал блестящую характеристику ступеней развития общества.
Однако среди греческих мыслителей преобладали те виды объяснений, которые с тех пор были в ходу у исторических идеалистов. Таких было пять.
1. Теория Великого Бога. Наиболее примитивными попытками объяснить происхождение и развитие мира и человека являются мифы о сотворении мира, встречающиеся у дописьменных народов. Мы лучше всего знакомы с Книгой Бытия , которая приписывает создание неба и земли со всеми их особенностями и творениями Господу Богу, работавшему по шестидневному графику. Эти причудливые истории не имеют никакого научного обоснования.
Сырье для подлинного написания истории впервые было собрано в анналах царствования и хрониках царей цивилизаций речных долин Ближнего Востока, Индии и Китая. Первая синтетическая концепция истории возникла в результате слияния элементов, заимствованных из древних мифов о сотворении мира, с обзором этих записей. Это был Великий Бог, или теологическая версия истории, которая утверждала, что божественные существа управляют человеческими делами вместе с остальной частью космоса.
Первая синтетическая концепция истории возникла в результате слияния элементов, заимствованных из древних мифов о сотворении мира, с обзором этих записей. Это был Великий Бог, или теологическая версия истории, которая утверждала, что божественные существа управляют человеческими делами вместе с остальной частью космоса.
Подобно тому, как королевские деспоты господствовали над городами-государствами и их империями, так и воля, страсти, планы и потребности богов были конечными причинами событий. Король — это агент, который поддерживает существование мира посредством ежегодного состязания с силами хаоса. Эта теологическая теория была разработана шумерами, вавилонянами и египтянами, прежде чем дошла до греков и римлян. Она была изложена в израильских писаниях, откуда она была перенята и изменена христианской и мусульманской религиями и их государствами.
При теократических монархиях Востока божественное руководство человеческими делами было связано с богоподобной природой царя-жреца. В Вавилоне, Египте, Александрийской империи и Риме верховная правящая сила вселенной и могущественный правитель царства считались в равной степени божественными. Великий Бог и Великий Человек были одним и тем же.
В Вавилоне, Египте, Александрийской империи и Риме верховная правящая сила вселенной и могущественный правитель царства считались в равной степени божественными. Великий Бог и Великий Человек были одним и тем же.
2. Теория великого человека. Прямой теологический взгляд на историю слишком груб и наивен, слишком близок к первобытному анимизму, слишком сильно противоречит цивилизованному просвещению, чтобы сохраняться без критики или изменений, кроме как среди самых невежественных и набожных. Оно было вытеснено более утонченными версиями того же типа мышления.
Теория Великого Человека возникла в результате диссоциации двойственных компонентов теории Великого Бога. Огромные силы, приписываемые богам, передаются и концентрируются в какой-либо фигуре во главе государства, церкви или другого ключевого учреждения или движения. Этот исключительно помещенный персонаж якобы был наделен способностью формировать события по своему желанию. Это первоисточник живучей веры в то, что необыкновенно влиятельные и способные личности определяют главное направление истории.
Фетишистское поклонение Великому Человеку прошло через века от богов-царей Месопотамии до поклонения Гитлеру. Он имел многочисленные воплощения в соответствии с ценностями, которые в разное время приписывались разными людьми различным областям социальной деятельности. В древности это были божественный монарх, тиран, законодатель (Солон), военный завоеватель (Александр), диктатор (Цезарь), герой-освободитель (Давид) и религиозный лидер (Христос, Будда, Мухаммед). . Все это было поставлено на место Всемогущего как перводвигателя и создателя человеческой истории.
Самым прославленным толкователем этой точки зрения в последнее время был Карлейль, который писал: «Всеобщая история, история того, что человек совершил в этом мире, есть, в сущности, история великих людей, работавших здесь».
3. Теория Великого Разума. Более утонченный и философский вариант линии мысли Великого Богочеловека — это представление о том, что история тянется вперед или движется вперед некой идеальной силой, чтобы осуществить свои предвзятые цели. Грек Анаксагор сказал: «Разум ( Nous ) правит миром». Аристотель считал, что перводвигателем вселенной и, следовательно, главным вдохновителем всего в ней был Бог, который определялся как чистый разум, занятый размышлениями о самом себе.
Грек Анаксагор сказал: «Разум ( Nous ) правит миром». Аристотель считал, что перводвигателем вселенной и, следовательно, главным вдохновителем всего в ней был Бог, который определялся как чистый разум, занятый размышлениями о самом себе.
Гегель был выдающимся современным представителем этой теории, согласно которой прогресс человечества состоит в разработке и осуществлении идеи. Он писал: «Дух, или Разум, есть единственный движущий принцип истории». Основополагающей целью Мирового Духа и результатом его кропотливого развития было осуществление идеи свободы.
Теория Великого Разума легко скатывается к представлению о том, что какой-то набор блестящих умов или даже один умственный гений являются главной движущей силой человеческого прогресса. Платон учил, что есть «некоторые натуры, которые должны изучать философию и быть руководителями в государстве; и другие, которые не рождены быть философами и предназначены быть последователями, а не лидерами».
Таким образом, некоторые рационалисты 18-го века, которые считали, что «мнение правит человечеством», смотрели на просвещенного монарха, чтобы провести необходимую прогрессивную перестройку государства и общества. Более широкое проявление такого подхода противопоставляет бездумной толпе какой-то высший слой населения как образец разума, которому только и может быть доверено политическое руководство и власть.
Более широкое проявление такого подхода противопоставляет бездумной толпе какой-то высший слой населения как образец разума, которому только и может быть доверено политическое руководство и власть.
4. Теория лучших людей. Во всех подобных интерпретациях пропитано предубеждение, что история вершится только какой-то элитой, лучшей расой, привилегированной нацией, правящим классом. Ветхий Завет предполагал, что израильтяне были избранным Богом народом. Греки считали себя вершиной культуры, во всех отношениях лучше варваров. Платон и Аристотель считали рабовладельческую аристократию естественно выше низших сословий.
5. Теория природы человека. Наиболее стойким является мнение, что история в конечном счете определялась качествами человеческой натуры, хорошими или плохими. Человеческая природа, как и сама природа, считалась жесткой и неизменной от поколения к поколению. Задача историка состояла в том, чтобы показать, что представляют собой эти инвариантные черты человеческой конституции и характера, как они проявляются в ходе истории и как социальная структура формировалась или должна была быть перестроена в соответствии с ними. Такое определение сущностной человеческой природы было отправной точкой для социального теоретизирования Сократа, Платона и Аристотеля и других великих идеалистов.
Такое определение сущностной человеческой природы было отправной точкой для социального теоретизирования Сократа, Платона и Аристотеля и других великих идеалистов.
Но она также лежит в основе социальной и политической философии самых различных школ. Так, эмпирик Дэвид Юм прямо утверждает в «Исследовании о человеческом понимании» : «Человечество настолько одинаково во все времена и во всех местах, что история не сообщает нам ничего нового или странного в этом конкретном случае. Главное его предназначение — открывать постоянные и универсальные принципы человеческой природы».
Многие из первооткрывателей социальных наук XIX века цеплялись за этот старый принцип «постоянных и универсальных принципов человеческой природы». Например, Э.Б. Тайлор, основатель британской антропологии, писал в 1889 г.: «Человеческие институты, подобно слоистым скалам, последовательно сменяют друг друга, по существу однородные по всему земному шару, независимо от того, что кажется сравнительно поверхностным различием расы и языка, но формируются сходной человеческой природой».
Хотя мыслители-идеалисты и материалисты, возможно, придерживались разных мнений о том, каковы основные качества человечества, в качестве последнего средства для объяснения социальных и исторических явлений апеллировали к постоянным принципам человеческой природы. Таким образом, материалистически настроенный Фукидид, как говорит нам М. И. Финли в своем предисловии к Греческие историки полагали, что «человеческая природа и человеческое поведение были — по существу фиксированными качествами, одинаковыми в одном столетии и в другом».
В течение многих столетий после греков научное понимание хода истории мало продвинулось вперед. При христианстве и феодализме теологическая концепция, согласно которой история есть проявление плана Бога, монополизировала социальную философию. В отличие от стагнации науки в Западной Европе, мусульмане и евреи продвигали вперед как социальные, так и естественные науки. Наиболее оригинальным и непревзойденным исследователем социальных процессов между древними и современными был мыслитель Магриба XIV в. Ибн Хальдун, анализировавший этапы развития магометанских стран и культур и причины их типичных институтов и особенностей в наиболее материалистическом плане. манера своей эпохи.
Ибн Хальдун, анализировавший этапы развития магометанских стран и культур и причины их типичных институтов и особенностей в наиболее материалистическом плане. манера своей эпохи.
Этот выдающийся мусульманский государственный деятель был, вероятно, первым ученым, сформулировавшим четкую концепцию социологии, науки об общественном развитии. Он сделал это под названием изучения культуры.
Он писал: «История — это летопись человеческого общества или мировой цивилизации; изменений, происходящих в природе этого общества, таких как дикость, общительность и групповая солидарность; о революциях и восстаниях одной группы людей против другой с образовавшимися королевствами и государствами, с их различными рангами; о различных видах деятельности и занятиях людей, будь то для получения средств к существованию или в различных науках и ремеслах; и вообще всех преобразований, которым подвергается общество по самой своей природе».
Следующим крупным шагом вперед в научном понимании истории стало возникновение буржуазного общества и открытие других регионов земного шара, связанных с его торговой и морской экспансией. В своих конфликтах с господствующей феодальной иерархией и церковью интеллектуальные представители прогрессивных буржуазных сил вновь открыли и подтвердили идеи классовой борьбы, впервые отмеченные греками, и установили исторические сравнения с античностью, чтобы подкрепить свои претензии. Их новые революционные взгляды требовали не только более широкого взгляда на мир, но и более глубокого проникновения в механизм социальных изменений.
В своих конфликтах с господствующей феодальной иерархией и церковью интеллектуальные представители прогрессивных буржуазных сил вновь открыли и подтвердили идеи классовой борьбы, впервые отмеченные греками, и установили исторические сравнения с античностью, чтобы подкрепить свои претензии. Их новые революционные взгляды требовали не только более широкого взгляда на мир, но и более глубокого проникновения в механизм социальных изменений.
Такие смелые представители буржуазной мысли, как Макиавелли и Вико в Италии, Гоббс, Харрингтон, Локк и экономисты-классики в Англии, шотландская школа Адама Фергюсона, Вольтера, Руссо, Монтескье, Д’Гольбаха и др. во Франции помогли накопить материалы и расчистите место для более реалистичной картины общества и более строгого понимания его способов и стадий развития.
На гораздо более высокой ступени общественного и научного развития историческая мысль 17-19 вв.XX века имели тенденцию к поляризации, как в Греции, между идеалистическими и материалистическими способами объяснения. Обе школы мысли были вдохновлены общей целью. Они верили, что история имеет умопостигаемый характер и что можно установить природу и источники ее законов.
Обе школы мысли были вдохновлены общей целью. Они верили, что история имеет умопостигаемый характер и что можно установить природу и источники ее законов.
Богословские толкователи, такие как епископ Босуэ, продолжали видеть в Боге руководителя исторической процессии. В то время как большинство других мыслителей не оспаривали тот факт, что божественное провидение в конечном итоге определило ход событий, их гораздо больше интересовали мирские пути и средства, с помощью которых действовала история.
Джамбаттиста Вико из Неаполя был великим пионером среди этих мыслителей. Он утверждал в начале 18 века, что, поскольку история, или «мир народов», была создана людьми, ее могут понять ее создатели. Он подчеркивал, что социальные и культурные явления проходят через закономерную последовательность стадий, которая носит циклический характер.
Он настаивал на том, что «порядок идей должен следовать за порядком вещей» и что «порядок человеческих вещей» — это «сначала леса, потом хижины, потом деревни, затем города и, наконец, академии». Его «новая наука» об истории стремилась открыть и применить «универсальные и вечные принципы, на которых были основаны все народы и которые до сих пор сохраняют себя». Вико выдвигает классовую борьбу в своей интерпретации истории, особенно в героическую эпоху, представленную конфликтом между плебеями и патрициями Древнего Рима.
Его «новая наука» об истории стремилась открыть и применить «универсальные и вечные принципы, на которых были основаны все народы и которые до сих пор сохраняют себя». Вико выдвигает классовую борьбу в своей интерпретации истории, особенно в героическую эпоху, представленную конфликтом между плебеями и патрициями Древнего Рима.
Теоретики-материалисты, пришедшие после Вико в Западную Европу, искали эти «всеобщие и вечные принципы», определяющие историю, совсем в других сферах, чем идеалисты. Но ни одна из школ не сомневалась в том, что история, как и природа, подчинена общим законам, которые философ истории обязан найти.
Ключевая мысль английских и французских материалистов XVII и XVIII веков заключалась в том, что люди являются продуктом своего природного и социального окружения. Как Чарльз Брокден Браун, американский писатель начала 1920-го века, сформулировал это так: «Человеческие существа формируются обстоятельствами, в которых они находятся». В соответствии с этим принципом они обращались к объективным реалиям природы и общества для объяснения исторического процесса.
Монтескье, например, считал географию и правительство двумя главными детерминантами истории и общества. Физический фактор имел наибольшее влияние на более ранних и примитивных стадиях человеческого существования, хотя его действие никогда не прекращалось; политический фактор стал более доминирующим по мере развития цивилизации.
Он и его современные материалисты в значительной степени игнорировали экономические условия, стоявшие между природой и политическими институтами. Экономическая основа и подоплека политических систем и борьба соперничающих классов, вытекающая из экономических противоречий, были вне поля их зрения.
Французские историки начала XIX века глубже проникли в экономическую обусловленность исторического процесса благодаря своим исследованиям английской и французской революций. Они наблюдали, как французская революция прошла полный цикл. Это началось со свержения абсолютной монархии, прошло через революционный режим Робеспьера и буржуазно-военную диктатуру Наполеона и закончилось Реставрацией Бурбонов. В свете этих превратностей они осознали решающую роль классовой борьбы в продвижении истории вперед и указали на стремительные сдвиги в собственности как на главную причину социальных потрясений. Но они так и не смогли раскрыть фундаментальные детерминанты, которые привели к реконструкции и замене отношений собственности, а также политических форм.
В свете этих превратностей они осознали решающую роль классовой борьбы в продвижении истории вперед и указали на стремительные сдвиги в собственности как на главную причину социальных потрясений. Но они так и не смогли раскрыть фундаментальные детерминанты, которые привели к реконструкции и замене отношений собственности, а также политических форм.
Многие ведущие философы буржуазной эпохи придерживались материалистического взгляда на природу и отношения человека с окружающим миром. Но ни одному из них не удалось выработать последовательную или всеобъемлющую концепцию общества и истории в материалистическом духе. В определенный момент в своем анализе они отошли от материалистических предпосылок и процедур, приписывая конечные причины человеческих дел неизменной человеческой природе, дальновидному человеческому разуму или великому индивидууму.
Что вообще было ответственно за их неспособность докопаться до основ и их уклон в сторону нематериалистических типов объяснения в фундаментальных областях исторической и социальной детерминации? Как буржуазные мыслители они были скованы и сдерживались неизбежными ограничениями капиталистического горизонта. Пока восходящая буржуазия была на пути к господству, ее наиболее просвещенные идеологи были страстно и настойчиво заинтересованы в том, чтобы глубоко проникнуть в экономические, социальные и политические реалии. После того как буржуазия упрочила свое положение господствующего класса, ее мыслители перестали докапываться до сути социальных и политических процессов. Они становились все более и более вялыми и недальновидными в области социологии и истории, поскольку обнаружение глубинных причин изменений в этих областях могло лишь угрожать сохранению капиталистического господства.
Пока восходящая буржуазия была на пути к господству, ее наиболее просвещенные идеологи были страстно и настойчиво заинтересованы в том, чтобы глубоко проникнуть в экономические, социальные и политические реалии. После того как буржуазия упрочила свое положение господствующего класса, ее мыслители перестали докапываться до сути социальных и политических процессов. Они становились все более и более вялыми и недальновидными в области социологии и истории, поскольку обнаружение глубинных причин изменений в этих областях могло лишь угрожать сохранению капиталистического господства.
Одним из больших препятствий на пути углубления социальных наук было их молчаливое предположение, что буржуазное общество и его основные институты воплощают в себе высшую достижимую форму социальной организации. Все предыдущие общества вели к этому моменту и на нем останавливались. Очевидно, не было прогрессивного выхода из капиталистической системы. Вот почему идеологи английской буржуазии от Локка до Рикардо и Спенсера пытались подогнать свои представления о смысле всех социальных явлений к категориям и отношениям этого преходящего порядка. Из-за этой узости им было одинаково трудно расшифровывать прошлое, докапываться до сути своего настоящего и предвидеть будущее.
Из-за этой узости им было одинаково трудно расшифровывать прошлое, докапываться до сути своего настоящего и предвидеть будущее.
Идеалистические толкования истории пропагандировались и продвигались многочисленными теоретиками от Лейбница до Фихте. Их работа была завершена Гегелем. В первые десятилетия XIX века Гегель произвел революцию в понимании всемирной истории, поставив ее на самую широкую точку зрения буржуазной эпохи. Его вклад можно суммировать в тринадцати пунктах.
1. Гегель подходил ко всем историческим явлениям с точки зрения их эволюции, рассматривая их как моменты, элементы, фазы единого творческого, совокупного, поступательного и непрекращающегося процесса становления.
2. Поскольку окружающий его мир, который он называл «объективным умом», был делом рук человека, он, как и Вико, был убежден, что он постижим и может быть объяснен пытливым умом.
3. Он понимал историю как всеобщий процесс, в котором все социальные образования, нации и лица занимали подобающее, но подчиненное место. Ни одно государство или народ не доминировали в мировой истории; каждый должен был оцениваться по его роли в развитии тотальности.
Ни одно государство или народ не доминировали в мировой истории; каждый должен был оцениваться по его роли в развитии тотальности.
4. Он утверждал, что исторический процесс был по существу рациональным. У него была имманентная логика, которая развертывалась закономерным образом, определяемым диалектическим процессом. Каждая стадия целого была необходимым продуктом обстоятельств своего времени и места.
5. Все существенные элементы каждой ступени висели вместе как компоненты единого целого, выражавшего господствующий принцип своей эпохи. Каждый этап вносит свой уникальный вклад в развитие человечества.
6. Истина истории конкретна. Как писал русский мыслитель Чернышевский: «Каждый предмет, каждое явление имеет свое значение, и о нем надо судить по обстоятельствам, среде, в которой он находится. все обстоятельства, от которых это зависит».
7. История меняется диалектически. Каждая стадия общественного развития имела достаточно причин для возникновения. Он имеет противоречивую конституцию, возникающую из трех различных элементов. Это долговременные достижения, унаследованные от его предшественников, особые условия, необходимые для его собственного существования, и противодействующие силы, действующие внутри него самого. Развитие его внутренних антагонизмов обеспечивает его динамизм и порождает его рост. Обострение его противоречий ведет к его распаду и, в конечном счете, к отчуждению от более высокой и противоположной формы, которая вырастает из него путем революционного скачка.
Он имеет противоречивую конституцию, возникающую из трех различных элементов. Это долговременные достижения, унаследованные от его предшественников, особые условия, необходимые для его собственного существования, и противодействующие силы, действующие внутри него самого. Развитие его внутренних антагонизмов обеспечивает его динамизм и порождает его рост. Обострение его противоречий ведет к его распаду и, в конечном счете, к отчуждению от более высокой и противоположной формы, которая вырастает из него путем революционного скачка.
8. Таким образом, все ступени социальной организации связаны между собой диалектически определенным рядом от низшего к высшему.
9. Гегель выдвинул ту глубокую истину, развитую впоследствии историческим материализмом, что труд навязывается человеку как следствие его потребностей и что человек есть исторический продукт своего собственного труда.
10. История полна иронии. У него есть общая объективная логика, которая ставит в тупик его самых влиятельных участников и организации. Хотя главы государств проводят определенную политику, а народы и отдельные личности сознательно преследуют свои цели, историческая действительность не совпадает с их планами и не согласуется с ними. Ход и исход истории определяются преобладающими внутренними потребностями, которые не зависят от воли и сознания любого из ее институциональных или личных факторов. Человек предполагает — историческая необходимость Идеи располагает.
Хотя главы государств проводят определенную политику, а народы и отдельные личности сознательно преследуют свои цели, историческая действительность не совпадает с их планами и не согласуется с ними. Ход и исход истории определяются преобладающими внутренними потребностями, которые не зависят от воли и сознания любого из ее институциональных или личных факторов. Человек предполагает — историческая необходимость Идеи располагает.
11. Итог истории, результат ее мучительного труда есть рост разумной свободы. Свобода человека происходит не от произвольного, волевого вмешательства в события, а от растущего понимания необходимости объективных, всеобщих, противоречивых процессов становления.
12. Потребности истории не всегда одинаковы; они превращаются в свои противоположности по мере того, как одна стадия сменяет другую. Фактически, этот конфликт низших и высших потребностей является генератором прогресса. Большая и растущая необходимость действует в рамках существующего порядка, отрицая условия, поддерживающие его. Эта необходимость постоянно лишает наличную необходимость ее оснований для существования, расширяется за ее счет, делает ее изжившей и в конце концов вытесняет ее.
Эта необходимость постоянно лишает наличную необходимость ее оснований для существования, расширяется за ее счет, делает ее изжившей и в конце концов вытесняет ее.
13. Изменяются от одной ступени к другой не только общественные формации и их специфические господствующие принципы, но и специфические законы развития.
Этот метод истолкования истории был гораздо более правильным, всеобъемлющим и глубоким, чем любой из его предшественников. Тем не менее, он страдал от двух неустранимых недостатков. Во-первых, он был неизлечимо идеалистичен. Гегель изображал историю как продукт абстрактных принципов, представляющих различные степени непрестанной борьбы между рабством и свободой. Через это диалектическое развитие Абсолютной Идеи постепенно осуществлялась свобода человека.
Такая логика истории была интеллектуализированной версией представления о том, что Бог направляет вселенную, а история есть исполнение Его замысла, которым в данном случае является свобода человечества. По замыслу Гегеля, эта свобода осуществлялась не через освобождение человечества от гнетущих и рабских общественных условий, а через преодоление ложных, неадекватных идей.
По замыслу Гегеля, эта свобода осуществлялась не через освобождение человечества от гнетущих и рабских общественных условий, а через преодоление ложных, неадекватных идей.
Во-вторых, Гегель закрыл ворота для дальнейшего развития истории, фактически завершив ее германским королевством и буржуазным обществом его собственной эпохи. Сторонник всеобщей и бесконечной истории пришел к выводу, что ее конечным агентом было национальное государство, характерный продукт ее буржуазной фазы. И в своей монархической форме, измененной конституцией! Он принял преходящее творение истории за ее окончательное и совершенное воплощение. Ограничив таким образом процесс становления, он нарушил основное положение своей собственной диалектики.
Эти недостатки помешали Гегелю прийти к истинной природе общественных отношений и основным причинам социальных изменений. Однако его эпохальные прозрения повлияли на все последующие размышления и письма об истории. С необходимыми исправлениями все они были включены в структуру исторического материализма.
Гегель, диалектик-идеалист, был выдающимся теоретиком эволюционного процесса в целом. Французские социальные мыслители и историки продвинули материалистическое понимание истории и общества настолько далеко, насколько это было возможно в их время. Но даже в своих провинциях оба потерпели неудачу. Гегель не мог дать удовлетворительной теории социальной эволюции, а материалисты не проникали в самые основные движущие силы истории.
Только после того, как истинные элементы этих двух противоположных направлений мысли сошлись и соединились в умах Маркса и Энгельса в середине XIX века, возникла всесторонняя концепция истории, прочно укоренившаяся в диалектическом развитии материальных условий общества. общественное существование от появления первобытного человека до современной жизни.
Все различные типы исторических объяснений, возникшие в ходе эволюции человеческой мысли, сохранились до наших дней. Ни один из них не был навсегда похоронен, каким бы устаревшим, неадекватным или научно неверным он ни был. Самые старые интерпретации могут быть возрождены и вновь появиться в современной одежде, чтобы служить какой-то социальной потребности или слою.
Самые старые интерпретации могут быть возрождены и вновь появиться в современной одежде, чтобы служить какой-то социальной потребности или слою.
Какая буржуазная нация не провозглашала во время войны, что «Бог на нашей стороне», направляющий ее судьбу? Теория Великого Человека расхаживала под свастикой в знак уважения к Гитлеру. Шпенглер в Германии и Тойнби в Англии предлагают свои переиздания циклического витка истории. Школа геополитики превращает географические условия в форме центра и отдаленных регионов в первостепенную детерминанту современной истории.
Нацистская Германия, Южная Африка Фервурда и сторонники превосходства белой расы Юга превозносят господствующую расу в диктатора истории в ее самой грубой форме. Представление о том, что человеческая природа должна быть основой социальной структуры, является последней защитой противников социализма, а также отправной точкой для утопического социализма американского психоаналитика Эриха Фромма и других.
Наконец, представление о том, что разум является движущей силой в истории, разделяют все виды ученых. Американский антрополог Александр Гольденвейзер заявил в книге «Ранняя цивилизация »: «Таким образом, вся цивилизация, если следовать шаг за шагом в обратном направлении, в конечном итоге оказалась бы без остатка разложенной на фрагменты идей в умах людей». Здесь идеи и личности являются творческими факторами истории.
Американский антрополог Александр Гольденвейзер заявил в книге «Ранняя цивилизация »: «Таким образом, вся цивилизация, если следовать шаг за шагом в обратном направлении, в конечном итоге оказалась бы без остатка разложенной на фрагменты идей в умах людей». Здесь идеи и личности являются творческими факторами истории.
Описывая свою философию, итальянский мыслитель Кроче писал: «История — это летопись творений человеческого духа во всех областях, как теоретических, так и практических. И эти духовные творения всегда рождаются в сердцах и умах гениальных людей, художников, мыслителей, людей действия, нравственных и религиозных реформаторов». Эта позиция сочетает идеализм с элитарностью, дух, использующий гениев, или творческое меньшинство как агент, спасающий массы.
Эти разнообразные элементы исторической интерпретации могут проявляться в самых нелепых сочетаниях в данной стране, школе мысли или индивидуальном сознании. Сталинизм дал наиболее яркий пример такого нелогичного синтеза. Приверженцы «культа личности» стремились соединить традиции и воззрения марксизма, самой современной и научной философии, с архаической великочеловеческой версией современного исторического процесса.
Приверженцы «культа личности» стремились соединить традиции и воззрения марксизма, самой современной и научной философии, с архаической великочеловеческой версией современного исторического процесса.
За исключением маоистского Китая, эта странная и несостоятельная смесь идей уже распалась. Тем не менее он демонстрирует, как обобщенное мышление об историческом процессе может регрессировать после огромного скачка вперед. История исторической науки по-своему доказывает, что прогресс не равномерен и не постоянен на протяжении всей истории. Фукидид, рассказчик Пелопоннесских войн в четвертом веке до нашей эры, имел гораздо более реалистичный взгляд на историю, чем святой Августин, прославляющий Город Божий, в четвертом веке нашей эры.
Марксизм включил в свою теорию общественного развития не только проверенные результаты современных научных исследований, но и все взгляды на историю своих философских предшественников, материалистических, идеалистических или эклектических, которые доказали свою состоятельность и жизнеспособность. Поступать иначе означало бы пренебрегать мандатом своего собственного метода, который учит, что каждая школа мысли, каждая стадия научного познания есть продукт прошлой работы людей, измененный, а иногда и революционизированный господствующими условиями и концепциями их существования. Научные исследования истории и общества, как и самого исторического процесса, дали положительные, постоянные и прогрессивные результаты.
Поступать иначе означало бы пренебрегать мандатом своего собственного метода, который учит, что каждая школа мысли, каждая стадия научного познания есть продукт прошлой работы людей, измененный, а иногда и революционизированный господствующими условиями и концепциями их существования. Научные исследования истории и общества, как и самого исторического процесса, дали положительные, постоянные и прогрессивные результаты.
В то же время марксизм отвергает все версии устаревших теорий, которые не смогли дать адекватного или правильного объяснения происхождения и эволюции общества. Он не отрицает, что исторические идеализмы содержат существенные составляющие истины и могут даже демонстрировать движение вперед. Основная тенденция их продвижения со времен греков была от неба к земле, от Бога к человеку, от воображаемого к реальному. Индивидуумы, влиятельные или незначительные, и идеи, новаторские или традиционные, являются неотъемлемой частью общества; их роль в создании истории должна быть принята во внимание.
Идеалисты справедливо обращают внимание на эти факторы. В чем они ошибаются, так это в том, что приписывают им решающее значение в общем процессе исторической детерминации. Их метод ограничивает их анализ внешними слоями социальной структуры, так что они остаются на поверхности событий. Наука должна проникнуть в ядро общества, где действуют реальные силы, определяющие направление истории.
Исторический материализм отвращается от Божественного Направителя, Великого Человека, Вселенского Разума, Интеллектуального Гения, Элиты и неизменной и единообразно действующей Человеческой Природы для объяснения истории. Формирование, преобразование и трансформацию социальных структур за последние миллионы лет нельзя понять, обращаясь к каким-либо сверхъестественным существам, идеальным факторам, мелким личным или инвариантным причинам.
Бог не создавал мир и не руководил развитием человечества. Напротив, человек создал идею богов как фантазию, чтобы компенсировать отсутствие реального контроля над силами природы и общества.
Человек создал себя, воздействуя на природу и изменяя ее элементы для удовлетворения своих потребностей в процессе труда. Человек проделал свой путь в мире. Дальнейшее развитие и диверсификация процесса труда от дикости до нашей нынешней цивилизации продолжали трансформировать его способности и характеристики.
История — это не достижение выдающихся личностей, какими бы могущественными, одаренными или занимающими стратегическое положение они ни были. Еще во время Французской революции Кондорсе протестовал против этой узко-элитарной точки зрения, которая не учитывала ни того, что движет массами человечества, ни того, как массы, а не господа, делают историю. «До сих пор история политики, как и история философии или науки, была историей лишь нескольких личностей: того, что действительно составляет человеческий род, огромной массы семей, живущих по большей части плодами их труд, забыт, и даже из тех, кто следует общественным профессиям и работает не для себя, а для общества, кто занимается учением, управлением, защитой или исцелением других, только вожди держали в поле зрения историк», — написал он.
Марксизм строится на том понимании, что история есть результат коллективных действий множества, массовых усилий, продолжающихся в течение продолжительных периодов в рамках производственных мощностей, которые они получили и расширили, и способов производства, которые они создали, создали и создали. произвел революцию.
Не элиты, а многочленное тело народа поддерживало историю, поворачивало ее в новых направлениях в критические поворотные моменты и шаг за шагом поднимало человечество вверх.
История не была порождена, и ее ход не направлялся предвзятыми идеями в каком-либо уме. Социальные системы не были созданы архитекторами с чертежами в руках. История развивалась не по какому-либо предварительному плану. Общественно-экономические формации выросли из наличных производительных сил; его члены сформировали свои отношения, обычаи, учреждения и идеи в соответствии со своей организацией труда.
Человеческая природа не может объяснить ход событий или особенности общественной жизни. Именно изменения в условиях жизни и труда лежат в основе создания и переделки нашей человеческой природы.
Именно изменения в условиях жизни и труда лежат в основе создания и переделки нашей человеческой природы.
Во введении к английскому изданию Socialism: Utopian and Scientific Энгельс определял исторический материализм как «тот взгляд на ход истории, который ищет конечную причину и великую движущую силу всех исторических событий в экономическом развитии общества, в изменениях способов производства и обмена, в последующем разделении общества на отдельные классы и в борьбе этих классов друг против друга».
Таковы основные принципы, из которых вытекает остальная часть марксистской теории исторического процесса. Они пришли из двух с половиной тысячелетий исследования законов человеческой деятельности и общественного развития. Они представляют собой его наиболее обоснованные выводы. Исторический материализм сам по себе является синтетическим продуктом исторически выработанных фактов и идей, которые уходят своими корнями в экономику и осуществляются в науке об обществе на всем протяжении его развития.
