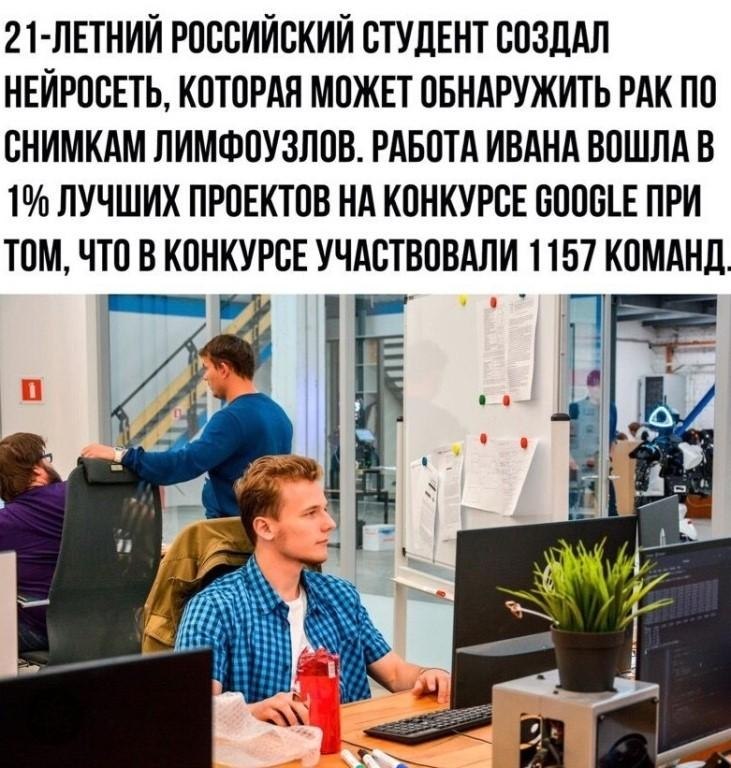Содержание
Аргументы и Факты: новости России и мира
В ЛНР признали референдум по вхождению в РФ состоявшимся
02:20,
АрмияМобилизованные могут взять с собой кнопочные телефоны, но не смартфоны
02:08,
ЭкономикаЭксперт назвал курс доллара, который выгоден для России
01:45,
В миреВ Польше больше не впускают россиян с шенгеном через воздушные пункты
01:39,
В миреГлава МИД Венгрии заявил о полном провале санкционной стратегии Европы
01:11,
НаукаЮпитер 26 сентября окажется максимально близко к Земле за последние 59 лет
01:03,
В миреВ ЦИК ДНР назвали ложью использование исчезающих чернил на референдуме
00:40,
В миреНа выборах в парламент Италии лидирует правоцентристская коалиция
00:25,
ЭкономикаВ США меры по снижению инфляции могут привести к потере рабочих мест — CBS
00:12,
ПроисшествияВ Италии в самолет с 90 пассажирами ударила молния, пострадавших нет
25.
 09.2022 23:55,
09.2022 23:55,
ЭкономикаЗапад на пороге худшего с 1949 года кризиса — Bloomberg
Все новости
Под канонаду и с жертвами. Как прошел третий день референдума?
В мире
«Птичка» счастья. Как голосуют жители Донецка, несмотря на рев артиллерии
В мире
«Расистские инстинкты в отношении России». О чём Сергей Лавров сказал в ООН
В мире
Кому добавки? В бюджете прописали индексацию зарплат, пенсий и пособий
Экономика
21.09.2022
Еженедельник «Аргументы и Факты» №38
Отопительный резонОформить подписку
13.09.2022
«АиФ. Здоровье» №АиФ Здоровье № 17
Стоп, плоскостопие! Простые упражнения решат проблемуОформить подписку
20. 09.2022
09.2022
«АиФ. На даче» №АиФ на Даче № 18
Время высаживать луковичныеОформить подписку
«Россия для Донбасса — крепость». Как в Москве следят за референдумами
В мире
Из тыквы или брокколи? Какие оригинальные драники приготовить на завтрак
Продукты и напитки
Иностранные наблюдатели и украинские обстрелы. Как проходят референдумы?
В мире
Предательства не простила даже отцу. Семейные тайны русской Софи Лорен
Персона
Сергей Карякин: «Безопасность — главное, чего ждут жители Донбасса»
Персона
Вопрос-ответ
Что делать ИТ-специалистам, имеющим право на отсрочку, но получившим отказ?
Специалисты ИТ получат право на отсрочку.
Узнать
Право
Урна на линии фронта. Как прошел первый день референдума в Лисичанске
В мире
Играл с Фирсовым, взял 8 чемпионств с ЦСКА. Скончался хоккеист Сенюшкин
Хоккей
Царь-глобус. Шедевр Блау раскрывал секреты голландцев и хранил тайны России
История
Возвращение отметили победой. Россия справилась в Бишкеке с Киргизией
Футбол
Вам повестка. Юрист ответил на популярные вопросы о мобилизации
Право
Вопрос-ответ
Как понять, что вы попали под частичную мобилизацию? Пошаговая инструкция
Aif.ru дает пошаговую инструкцию, куда заглянуть и как понять, попадаете вы под мобилизацию, либо имеете отсрочку, либо временно не годны по состоянию здоровья.
Узнать
Армия
Хочу больше
1.6.5. Модель науки Т.Куна — Департамент философии
“История… могла бы стать основой для решительной перестройки
тех представлений о науке,
которые сложились у нас к настоящему времени” (Т.Кун [Кун, с. 23]])
Концепция Томаса Куна (Kuhn, 1922–1996) вырастает в споре с К.Поппером и его последователями (И.Лакатос и др.). Пафос ее состоит в том, что ни верификационизм логических позитивистов, ни фальсификационизм Поппера не описывают реальную историю науки. «Вынесение приговора, которое приводит ученого к отказу от ранее принятой теории, – говорит Кун, – всегда основывается на чем-то большем, нежели сопоставление теории с окружающим нас миром” [Кун, с.112–13]. «Вряд ли когда-либо, – вторит ему П.Фейерабенд, – теории непосредственно сопоставлялись с «фактами» или со «свидетельствами». Что является важным свидетельством, а что не является таковым, обычно определяет сама теория, а также другие дисциплины, которые можно назвать «вспомогательными науками» [Фейерабенд, с.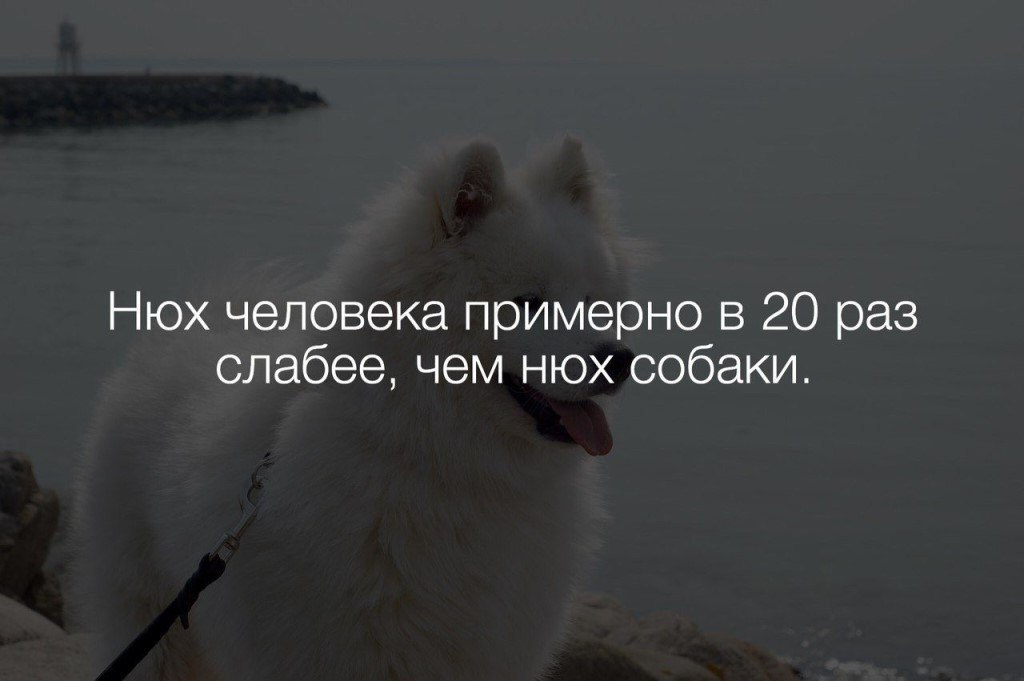 118]. В основе историцистской критики Т.Куном и логического позитивизма, и фальсификационизма К.Поппера лежит тезис об отсутствии в реальной истории науки «решающего эксперимента» (т.е. такого, который отличает правильную теорию от неправильной). Таковыми их объявляют много позже, в учебниках. Поэтому Кун разрабатывает свою модель развития науки, в которой делает акцент на наличии скачков-революций. Последние характеризуются такими понятиями, как “ несоизмеримость” и “некумулятивность”.
118]. В основе историцистской критики Т.Куном и логического позитивизма, и фальсификационизма К.Поппера лежит тезис об отсутствии в реальной истории науки «решающего эксперимента» (т.е. такого, который отличает правильную теорию от неправильной). Таковыми их объявляют много позже, в учебниках. Поэтому Кун разрабатывает свою модель развития науки, в которой делает акцент на наличии скачков-революций. Последние характеризуются такими понятиями, как “ несоизмеримость” и “некумулятивность”.
Основными элементами куновской модели являются четыре понятия: «научная парадигма«, «научное сообщество«, «нормальная наука» и “научная революция”. Взаимоотношение этих понятий, образующих систему, составляет ядро куновской модели функционирования и развития науки. С этим ядром связаны такие характеристики как “несоизмеримость” теорий, принадлежащих разным парадигмам, “некумулятивный” характер изменений, отвечающих “научной революции” в противоположность “кумулятивному” характеру роста “нормальной науки”, наличие у парадигмы не выражаемых явно элементов.
«Нормальная наука» противопоставляется “научной революции”. «Нормальная наука» – это рост научного знания в рамках одной парадигмы. Парадигма – центральное понятие куновской модели – задает образцы, средства постановки и решения проблем в рамках нормальной науки. Научная революция – это смена парадигмы и, соответственно, переход от одной “нормальной науки” к другой. Этот переход описывается с помощью пары понятий “парадигма – сообщество”, где высвечивается другая сторона понятия “парадигмы” –как некоторого содержательного центра, вокруг которого объединяется некоторое научное сообщество. Согласно куновской модели в периоды революций возникает конкурентная борьба пар “парадигма – сообщество”, которая разворачивается между сообществами. Поэтому победа в этой борьбе определяется, в первую очередь, социально-психологическими, а не содержательно-научными факторами (это связано со свойством “несоизмеримости” теороий, порожденных разными парадигмами).
Вот как эта система понятий задается Т.Куном в его книге “Структура научных революций” (1962).
“Термин “нормальная наука”, – говорит Кун, – означает исследование, прочно опирающееся на одно или несколько прошлых научных достижений (как мы увидим позже, это и есть “парадигма” – А.Л.) – достижений, которые в течение некоторого времени признаются определенным научным сообществом как основа для его дальнейшей практической деятельности. В наши дни такие достижения излагаются… учебниками… До того как подобные учебники стали общераспространенными, что произошло в начале XIX столетия… аналогичную функцию выполняли знаменитые классические труды ученых: “Физика” Аристотеля, “Альмагест” Птолемея, “Начала” и “Оптика” Ньютона… Долгое время они неявно определяли правомерность проблем и методов исследования каждой области науки для последующих поколений ученых. Это было возможно благодаря двум существенным особенностям этих трудов. Их создание было в достаточной степени беспрецедентным (т. е., как мы увидим позже, это “научные революции” –А.Л.), чтобы привлечь на длительное время группу сторонников из конкурирующих направлений научных исследований (т.е. “научное сообщество” – А.Л.). В то же время они были достаточно открытыми, чтобы новые поколения ученых могли в их рамках найти для себя нерешенные проблемы любого вида. Достижения, обладающие двумя этими характеристиками, я, – говорит Кун, – буду далее называть “парадигмами”, термином, тесно связанным с понятием “нормальной науки”» [Кун, с. 34].
е., как мы увидим позже, это “научные революции” –А.Л.), чтобы привлечь на длительное время группу сторонников из конкурирующих направлений научных исследований (т.е. “научное сообщество” – А.Л.). В то же время они были достаточно открытыми, чтобы новые поколения ученых могли в их рамках найти для себя нерешенные проблемы любого вида. Достижения, обладающие двумя этими характеристиками, я, – говорит Кун, – буду далее называть “парадигмами”, термином, тесно связанным с понятием “нормальной науки”» [Кун, с. 34].
По сути, здесь дано весьма четкое определение системы указанных четырех основных понятий. Как и во всякой системе, главными здесь являются отношения между понятиями.
Отношение между «научной парадигмой» и «научным сообществом» стоит в том, что «“парадигма” – это то, что объединяет членов научного сообщества, и, наоборот, научное сообщество состоит из людей, признающих парадигму… Парадигмы являют собой нечто такое, что принимается членами таких групп” [Кун, с.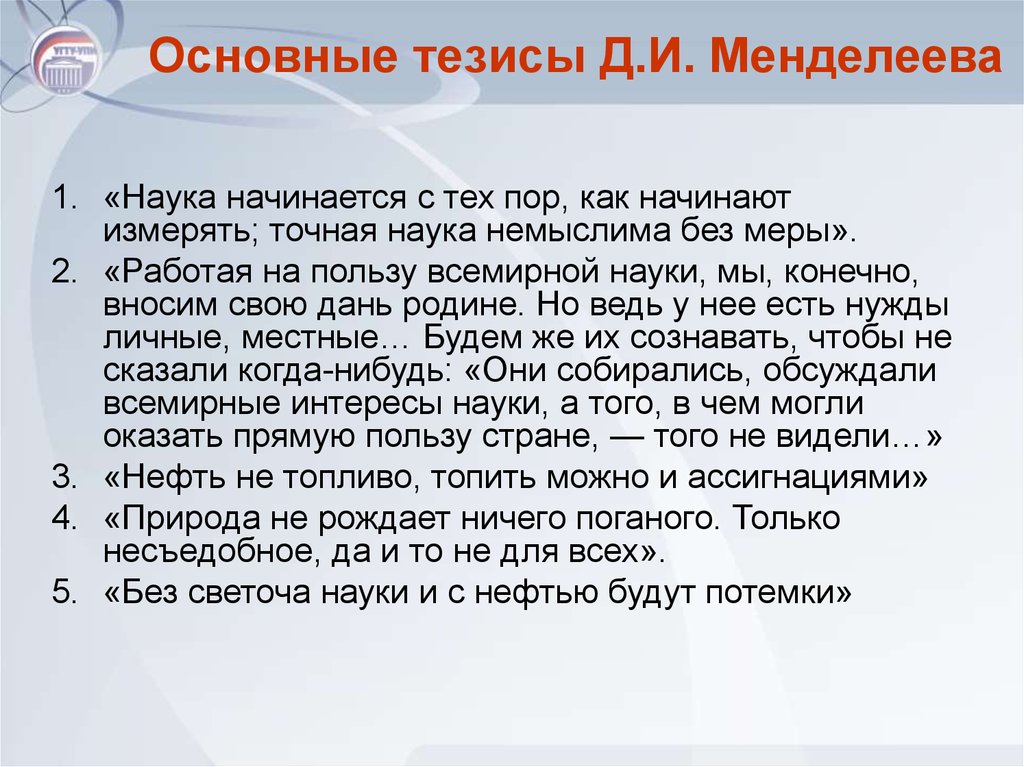 226]. То есть эти два центральных понятия, строго говоря, определяются друг через друга[1]. К этому добавляются два очень простых отношения-определения: “нормальная наука” – это работа в рамках заданной парадигмы; “научная революция” – это переход от одной парадигмы к другой. При этом “и нормальная наука, и научные революции являются… видами деятельности, основанными на существовании сообществ” [Кун, с. 231].
226]. То есть эти два центральных понятия, строго говоря, определяются друг через друга[1]. К этому добавляются два очень простых отношения-определения: “нормальная наука” – это работа в рамках заданной парадигмы; “научная революция” – это переход от одной парадигмы к другой. При этом “и нормальная наука, и научные революции являются… видами деятельности, основанными на существовании сообществ” [Кун, с. 231].
В плане непосредственного сравнения “нормальной науки” и научной революции как двух фаз развития науки, следует отметить куновское “понимание революционных изменений как противоположных кумулятивным” [Кун, с. 232], характерным для нормальной науки. Согласно Куну, предшествовавшая ему позитивистская история науки исходила из кумулятивной модели развития науки и рассматривала науку “как совокупность фактов, теорий и методов… Развитие науки при таком подходе – это постепенный процесс, в котором факты, теории и методы слагаются во все возрастающий запас достижений, представляющих собой научную методологию и знание” [Кун, с.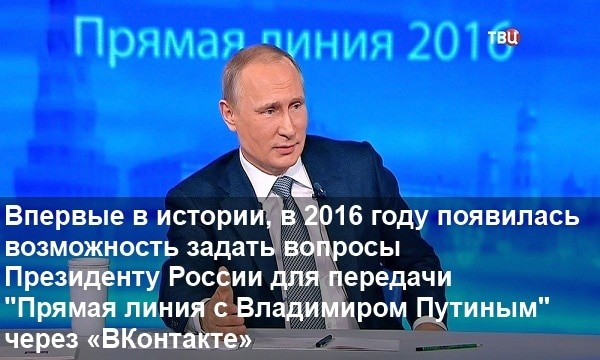 24]. Подобное кумулятивное развитие, по Куну, действительно имеет место, но лишь в рамках нормальной науки, это одно из характерных ее свойств. “Нормальная наука… представляет собой в высшей степени кумулятивное предприятие, необычайно успешное в достижении своей цели, т.е. в постоянном расширении пределов научного знания и его уточнения” [Кун, с. 83][2]. При этом “три класса проблем – установление значительных фактов, сопоставление фактов и теории, разработка теории – исчерпывают… поле нормальной науки, как эмпирической, так и теоретической» [Кун, с. 62].
24]. Подобное кумулятивное развитие, по Куну, действительно имеет место, но лишь в рамках нормальной науки, это одно из характерных ее свойств. “Нормальная наука… представляет собой в высшей степени кумулятивное предприятие, необычайно успешное в достижении своей цели, т.е. в постоянном расширении пределов научного знания и его уточнения” [Кун, с. 83][2]. При этом “три класса проблем – установление значительных фактов, сопоставление фактов и теории, разработка теории – исчерпывают… поле нормальной науки, как эмпирической, так и теоретической» [Кун, с. 62].
По Куну, ученые в рамках нормальной науки заняты тем, что “расширяют область и повышают точность применения парадигмы” и “не стремятся к неожиданным новостям” [Кун, с. 64], т.е. к тому, что не согласуется с принятой парадигмой. “Нормальная наука, на развитие которой вынуждено тратить почти все время большинство ученых, основывается на допущении, что научное сообщество знает, каков окружающий нас мир” [Кун, с. 28]. “Большинство ученых в ходе их научной деятельности” занято “наведением порядка”. “Вот это и составляет то, – пишет Т. Кун, – что я называю здесь нормальной наукой. При ближайшем рассмотрении этой деятельности… создается впечатление, будто бы природу пытаются «втиснуть» в парадигму, как в заранее сколоченную и довольно тесную коробку. Цель нормальной науки ни в коей мере не требует предсказания новых видов явлений: явления, которые не вмещаются в эту коробку, часто, в сущности, вообще упускаются из виду. Ученые в русле нормальной науки не ставят себе цели создания новых (в смысле выхода за границы парадигмы – А.Л.) теорий… Напротив, исследование в нормальной науке направлено на разработку тех явлений и теорий, существование которых парадигма заведомо предполагает… [Кун, с. 50–51].
28]. “Большинство ученых в ходе их научной деятельности” занято “наведением порядка”. “Вот это и составляет то, – пишет Т. Кун, – что я называю здесь нормальной наукой. При ближайшем рассмотрении этой деятельности… создается впечатление, будто бы природу пытаются «втиснуть» в парадигму, как в заранее сколоченную и довольно тесную коробку. Цель нормальной науки ни в коей мере не требует предсказания новых видов явлений: явления, которые не вмещаются в эту коробку, часто, в сущности, вообще упускаются из виду. Ученые в русле нормальной науки не ставят себе цели создания новых (в смысле выхода за границы парадигмы – А.Л.) теорий… Напротив, исследование в нормальной науке направлено на разработку тех явлений и теорий, существование которых парадигма заведомо предполагает… [Кун, с. 50–51].
Процессу кумулятивного «развития через накопления», характерному для нормальной науки, Кун противопоставляет “научные революции” (или «аномальные» фазы развития науки), суть которых состоит в смене лидирующей парадигмы. “Усвоение новой теории требует перестройки прежней и переоценки прежних фактов …, [а] не просто добавляет еще какое-то количество знания в мир ученых” [Кун, с. 30]. “Переход… к новой парадигме, от которой может родиться новая традиция нормальной науки, представляет собой процесс далеко не кумулятивный и не такой, который мог бы быть осуществлен посредством более четкой разработки или расширения старой парадигмы. Этот процесс скорее напоминает реконструкцию области на новых основаниях” [Кун, с. 121] или “трактовку того же самого набора данных, который был и раньше, но теперь их нужно разместить в новой системе связей друг с другом, изменяя всю схему”, – говорит Кун [Кун, с. 122]. “Каждая научная революция меняет историческую перспективу для сообщества, которое переживает эту революцию” [Кун, с. 18]. “Научные революции рассматриваются здесь как такие некумулятивные эпизоды развития науки, во время которых старая парадигма замещается целиком или частично новой парадигмой, несовместимой со старой” [Кун, с.
“Усвоение новой теории требует перестройки прежней и переоценки прежних фактов …, [а] не просто добавляет еще какое-то количество знания в мир ученых” [Кун, с. 30]. “Переход… к новой парадигме, от которой может родиться новая традиция нормальной науки, представляет собой процесс далеко не кумулятивный и не такой, который мог бы быть осуществлен посредством более четкой разработки или расширения старой парадигмы. Этот процесс скорее напоминает реконструкцию области на новых основаниях” [Кун, с. 121] или “трактовку того же самого набора данных, который был и раньше, но теперь их нужно разместить в новой системе связей друг с другом, изменяя всю схему”, – говорит Кун [Кун, с. 122]. “Каждая научная революция меняет историческую перспективу для сообщества, которое переживает эту революцию” [Кун, с. 18]. “Научные революции рассматриваются здесь как такие некумулятивные эпизоды развития науки, во время которых старая парадигма замещается целиком или частично новой парадигмой, несовместимой со старой” [Кун, с.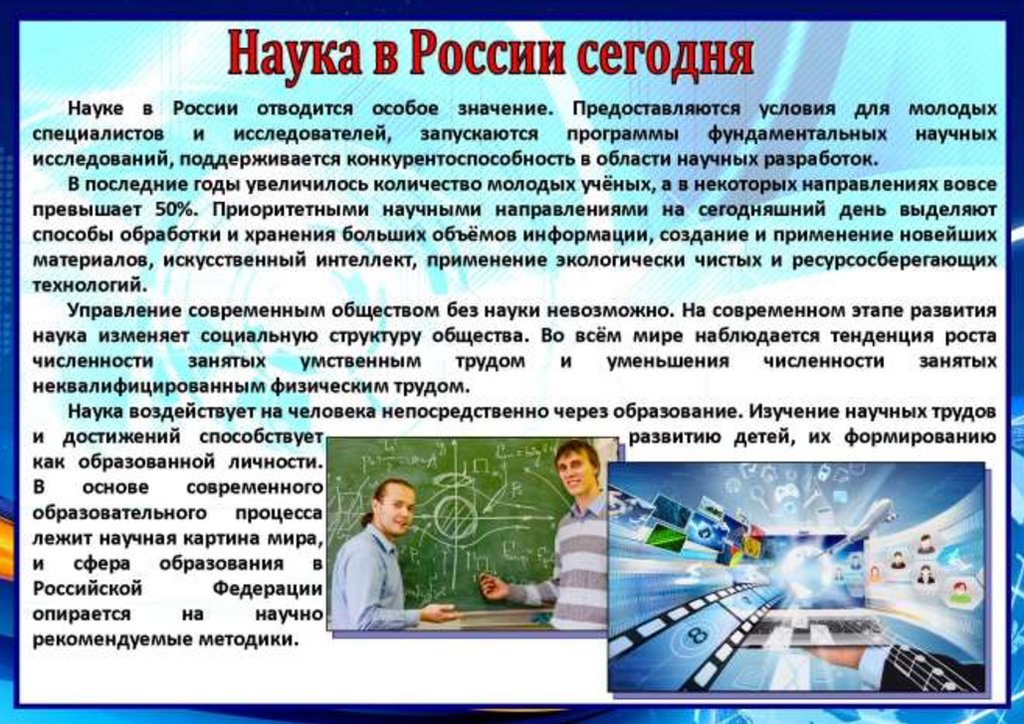 129]. Кун рассматривает “научную революцию как смену понятийной сетки, через которую ученые рассматривают мир” [Кун, с. 141], и, “поскольку они (ученые) видят этот мир не иначе, как через призму своих воззрений и дел, постольку у нас может возникнуть желание сказать, что после революции ученые имеют дело с иным миром” [Кун, с. 151]. “Следующие друг за другом парадигмы по-разному характеризуют элементы универсума и поведение этих элементов” [Кун, с. 142].[3]
129]. Кун рассматривает “научную революцию как смену понятийной сетки, через которую ученые рассматривают мир” [Кун, с. 141], и, “поскольку они (ученые) видят этот мир не иначе, как через призму своих воззрений и дел, постольку у нас может возникнуть желание сказать, что после революции ученые имеют дело с иным миром” [Кун, с. 151]. “Следующие друг за другом парадигмы по-разному характеризуют элементы универсума и поведение этих элементов” [Кун, с. 142].[3]
Эта характеристика некумулятивного типа изменений при научной революции тесно связана с тезисом Куна (и Фейерабенда) о “несоизмеримости теорий”, отвечающих разным парадигмам. “Конкуренция между парадигмами не является видом борьбы, которая может быть разрешена с помощью доводов… – говорит Кун. – Вместе взятые эти причины следовало бы описать как несоизмеримость предреволюционных и послереволюционных нормальных научных традиций… Прежде всего защитники конкурирующих парадигм часто не соглашаются с перечнем проблем, которые должны быть разрешены с помощью каждого кандидата в парадигмы.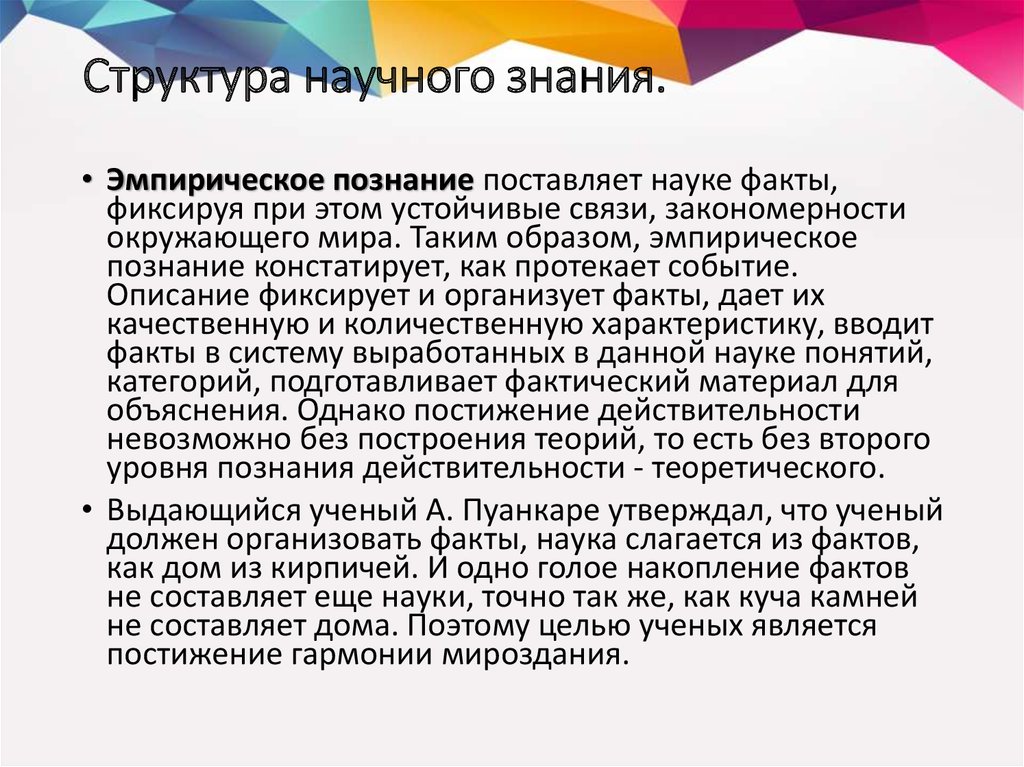 Их стандарты или определения науки не одинаковы” [Кун, с. 193], переход между различными парадигмами – это “переход между несовместимыми структурами” [Кун, с. 196]. Другими словами, несоизмеримость теорий возникает тогда, когда сторонники двух конкурирующих теорий не могут логическими средствами доказать, что одна из теорий является более истинной или более общей, чем другая[4]. В истории науки в революционные периоды такие случаи наблюдаются часто.
Их стандарты или определения науки не одинаковы” [Кун, с. 193], переход между различными парадигмами – это “переход между несовместимыми структурами” [Кун, с. 196]. Другими словами, несоизмеримость теорий возникает тогда, когда сторонники двух конкурирующих теорий не могут логическими средствами доказать, что одна из теорий является более истинной или более общей, чем другая[4]. В истории науки в революционные периоды такие случаи наблюдаются часто.
Несоизмеримость парадигм обусловливает важнейшую черту куновской модели научной революции, противопоставляющую его модель модели «объективного знания» К.Поппера (п. 1.6.1). Суть научной революции, по Куну, состоит в переходе от одной парадигмы (старой) к другой (новой): согласно Куну, в силу несоизмеримости парадигм их конкуренция происходит как конкуренция научных сообществ и победа определяется не столько внутринаучными, сколько социокультурными или даже социально-психологическими процессами («многие из моих обобщений касаются области социологии науки и психологии ученых«, – говорит Кун [Кун, с.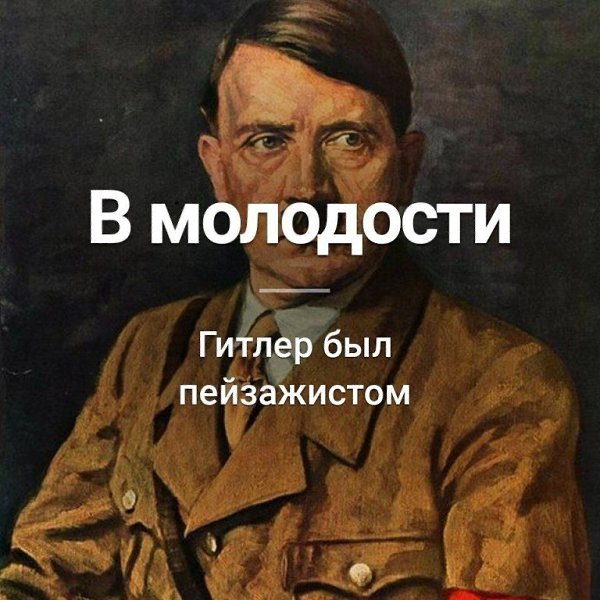 32]). «Сами по себе наблюдения и опыт еще не могут определить специфического содержания науки, – утверждает Кун. – Формообразующим ингредиентом убеждений, которых придерживается данное научное сообщество в данное время, всегда являются личные и исторические факторы» [Кун, с. 27]. «Конкуренция между различными группами научного сообщества (т.е. между научными сообществами – А.Л.) является единственным историческим процессом, который эффективно приводит к отрицанию некоторой ранее принятой теории…» [Кун, с. 31].
32]). «Сами по себе наблюдения и опыт еще не могут определить специфического содержания науки, – утверждает Кун. – Формообразующим ингредиентом убеждений, которых придерживается данное научное сообщество в данное время, всегда являются личные и исторические факторы» [Кун, с. 27]. «Конкуренция между различными группами научного сообщества (т.е. между научными сообществами – А.Л.) является единственным историческим процессом, который эффективно приводит к отрицанию некоторой ранее принятой теории…» [Кун, с. 31].
Подтверждением этого тезиса является приводимое Куном высказывание Макса Планка: “Новая научная истина прокладывает дорогу к триумфу не посредством убеждения оппонентов и принуждения их видеть мир в новом свете, но скорее потому, что ее оппоненты рано или поздно умирают и вырастает новое поколение, которое привыкло к ней” [Кун, с. 196–197]. Согласно Куну “некоторые ученые, особенно немолодые и более опытные, могут сопротивляться сколь угодно долго… новой парадигме” [Кун, с. 198]. Подобно выбору между конкурирующими политическими институтами[5], выбор между конкурирующими парадигмами оказывается выбором между несовместимыми моделями жизни сообщества… каждая парадигма использует свою собственную парадигму для аргументации в защиту этой же парадигмы” [Кун, с. 131]. “Принятие решения такого типа может быть основано только на вере” [Кун, с. 204].
198]. Подобно выбору между конкурирующими политическими институтами[5], выбор между конкурирующими парадигмами оказывается выбором между несовместимыми моделями жизни сообщества… каждая парадигма использует свою собственную парадигму для аргументации в защиту этой же парадигмы” [Кун, с. 131]. “Принятие решения такого типа может быть основано только на вере” [Кун, с. 204].
Важной чертой куновской парадигмы является наличие у нее неэксплицируемой (не выраженной явно) части, которая растворена в образцах непосредственной профессиональной деятельности[6]. “Вводя этот термин (парадигма – А.Л.), я имел в виду, – говорит он, – что некоторые общепринятые примеры фактической практики научных исследований – примеры, которые включают закон, теорию, их практическое применение и необходимое оборудование, все в совокупности дают нам модели, из которых возникают конкретные традиции научного исследования. Таковы традиции, которые историки науки описывают под рубриками “астрономия Птолемея (или Коперника)”, “аристотелевская (или ньютоновская) динамика”, “корпускулярная (или волновая) оптика” и т. д. ” [Кун, с. 149]. “Изучение парадигм, в том числе парадигм гораздо более специализированных, чем названные мною здесь в целях иллюстрации, является тем, что главным образом и подготавливает студента к членству в том или ином научном сообществе, поскольку он присоединяется таким образом к людям, которые изучали основы их научной области на тех же самых конкретных моделях…” [Кун, с. 34–35]. “Осваивая парадигму, ученый овладевает сразу теорией, методами и стандартами, которые обычно самым теснейшим образом переплетаются между собой” [Кун, с. 149]. “Ряд повторяющихся и типичных иллюстраций различных теорий в их концептуальном, исследовательском и инструментальном применении… представляют парадигмы того или иного научного сообщества, раскрывающиеся в его учебниках, лекциях и лабораторных работах. Изучая и практически используя их, члены данного сообщества овладевают навыками своей профессии” [Кун, с. 73][7]. Парадигма «располагает обоснованными ответами на вопросы, подобные следующим: каковы фундаментальные сущности, из которых состоит универсум? Как они взаимодействуют друг с другом и с органами чувств? Какие вопросы ученый имеет право ставить в отношении таких сущностей и какие методы могут быть использованы для их решения?» Все это вводится в сознание неофита соответствующим научным сообществом в ходе получения профессионального образования [Кун, с.
д. ” [Кун, с. 149]. “Изучение парадигм, в том числе парадигм гораздо более специализированных, чем названные мною здесь в целях иллюстрации, является тем, что главным образом и подготавливает студента к членству в том или ином научном сообществе, поскольку он присоединяется таким образом к людям, которые изучали основы их научной области на тех же самых конкретных моделях…” [Кун, с. 34–35]. “Осваивая парадигму, ученый овладевает сразу теорией, методами и стандартами, которые обычно самым теснейшим образом переплетаются между собой” [Кун, с. 149]. “Ряд повторяющихся и типичных иллюстраций различных теорий в их концептуальном, исследовательском и инструментальном применении… представляют парадигмы того или иного научного сообщества, раскрывающиеся в его учебниках, лекциях и лабораторных работах. Изучая и практически используя их, члены данного сообщества овладевают навыками своей профессии” [Кун, с. 73][7]. Парадигма «располагает обоснованными ответами на вопросы, подобные следующим: каковы фундаментальные сущности, из которых состоит универсум? Как они взаимодействуют друг с другом и с органами чувств? Какие вопросы ученый имеет право ставить в отношении таких сущностей и какие методы могут быть использованы для их решения?» Все это вводится в сознание неофита соответствующим научным сообществом в ходе получения профессионального образования [Кун, с. 27]. Такое описание процесса приобщения к парадигме, напоминающее обучение мастерству в средневековых цехах, несколько гипертрофировано. Оно не совсем адекватно реальному положению дел, хотя и схватывает некоторые важные моменты. Критический анализ куновского видения этого процесса представлен в гл. 8.
27]. Такое описание процесса приобщения к парадигме, напоминающее обучение мастерству в средневековых цехах, несколько гипертрофировано. Оно не совсем адекватно реальному положению дел, хотя и схватывает некоторые важные моменты. Критический анализ куновского видения этого процесса представлен в гл. 8.
Так выглядит “ядро” куновской модели, образуемое этими понятиями. Одно из важнейших достижений этой модели состоит в том, что она делает явными трудности внедрения принципиально новых (революционных) идей и теорий. “В науке…, – говорит Кун, – открытие всегда сопровождается трудностями, встречает сопротивление, утверждается вопреки основным принципам, на которых основано ожидание” [Кун, с. 97].
При конкретизации и применении той модели к истории науки Кун вводит дополнительные (“надстроечные”) пояснения и понятия: “аномалия”, “кризис”, “дисциплинарная матрица”. Все это помогает понять, как реализуется в истории науки куновская модель функционирования и развития науки, наполнить исходные понятия более конкретным содержанием и сделать их более ясными.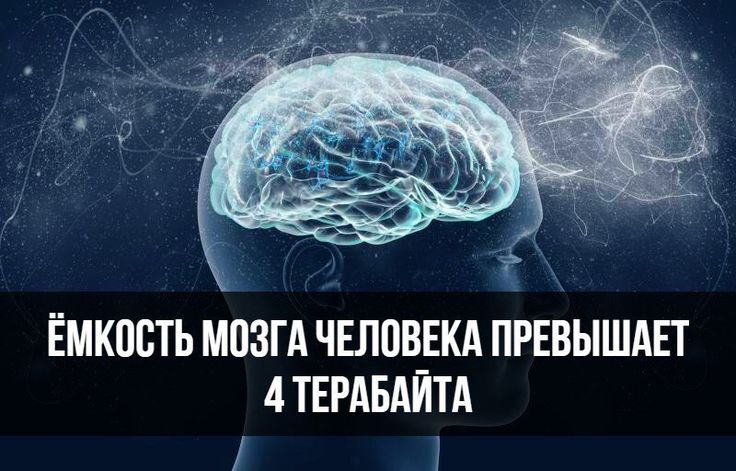 Некоторые из этих уточнений и конкретизаций являются спорными (это частично обсуждается в гл. 8), что никак не перечеркивает основу куновской модели, которая будет работать даже в случае, если любой из этих дополнительных элементов надстройки будет оспорен[8].
Некоторые из этих уточнений и конкретизаций являются спорными (это частично обсуждается в гл. 8), что никак не перечеркивает основу куновской модели, которая будет работать даже в случае, если любой из этих дополнительных элементов надстройки будет оспорен[8].
То же можно сказать и о его попытке конкретизировать понятие “парадигмы” с помощью понятия “дисциплинарной матрицы”: “Что объединяет его (сообщество специалистов) членов?… Ученые сами обычно говорят, что они разделяют теорию или множество теорий… Однако, – справедливо замечает Кун, – термин “теория” в том смысле, в каком он обычно используется в философии науки, означает структуру значительно более ограниченную по ее природе и объему, чем структура, которая требуется здесь… С этой целью я предлагаю термин “дисциплинарная матрица”: “дисциплинарная” потому, что она учитывает обычную принадлежность ученых-исследователей к определенной дисциплине; матрица – потому, что она составлена из упорядоченных элементов различного рода… Все или большинство из предписаний из той группы предписаний, которые я в первоначальном тексте называю парадигмой, частью парадигмы или как имеющую парадигмальный характер, являются компонентами дисциплинарной матрицы. В этом качестве они образуют единое целое…” [Кун, с. 234]. Что же, с точки зрения Куна, представляют собой некоторые, наиболее важные компоненты этой дисциплинарной матрицы. Во-первых, это “символические обобщения”, примерами которых являются F=ma, I=V/R, “действие равно противодействию”. Благодаря им ученые “могут применять мощный аппарат логических и математических формул… Эти обобщения внешне напоминают законы природы”. Могут они выступать и “в роли определений… Второй тип компонентов, составляющих дисциплинарную матрицу,… я называю “метафизическими парадигмами”… Я здесь имею в виду общепризнанные предписания, такие, как: тепло представляет собой кинетическую энергию частей,… как убеждения в специфических моделях… спектра концептуальных моделей, начиная от эвристических и кончая онтологическими моделями… В качестве третьего вида элементов дисциплинарной матрицы я рассматриваю ценности… Вероятно, наиболее глубоко укоренившиеся ценности касаются предсказаний: они должны быть точными;… К четвертому [типу компонентов относится] … конкретное решение проблемы, с которым сталкиваются студенты… Все физики, например, начинают с изучения одних и тех же образцов: задачи – наклонная плоскость…” [Кун, с.
В этом качестве они образуют единое целое…” [Кун, с. 234]. Что же, с точки зрения Куна, представляют собой некоторые, наиболее важные компоненты этой дисциплинарной матрицы. Во-первых, это “символические обобщения”, примерами которых являются F=ma, I=V/R, “действие равно противодействию”. Благодаря им ученые “могут применять мощный аппарат логических и математических формул… Эти обобщения внешне напоминают законы природы”. Могут они выступать и “в роли определений… Второй тип компонентов, составляющих дисциплинарную матрицу,… я называю “метафизическими парадигмами”… Я здесь имею в виду общепризнанные предписания, такие, как: тепло представляет собой кинетическую энергию частей,… как убеждения в специфических моделях… спектра концептуальных моделей, начиная от эвристических и кончая онтологическими моделями… В качестве третьего вида элементов дисциплинарной матрицы я рассматриваю ценности… Вероятно, наиболее глубоко укоренившиеся ценности касаются предсказаний: они должны быть точными;… К четвертому [типу компонентов относится] … конкретное решение проблемы, с которым сталкиваются студенты… Все физики, например, начинают с изучения одних и тех же образцов: задачи – наклонная плоскость…” [Кун, с. 234–240].
234–240].
Однако не в понятии “дисциплинарной матрицы” и попытке описания ее компонентов суть и сила куновской модели. Повторю еще раз: она состоит, во-первых, в системе четырех понятий, составляющих “ядро” его концепции. Вторым достижением модели Куна является ее применение к анализу материала истории науки, которое наполняет их конкретным содержанием. Содержательное наполнение этих понятий, и в первую очередь понятия парадигмы, в разных случаях будет разным и с трудом поддается более точному определению. Поэтому перейдем к описанию этого “исторического пояса” куновской модели.
В истории любой науки Кун выделяет фазы или периоды: допарадигмальный, нормальной науки и научной революции. Допарадигмальный период характеризуется “множеством противоборствующих школ[9] и школок, большинство из которых придерживались той или другой … теории” [Кун, с. 37]. “Каждый автор… выбирал эксперименты и наблюдения в поддержку своих взглядов” [Кун, с. 38]. “Когда в развитии естественной науки отдельный ученый или группа исследователей впервые создают синтетическую теорию, способную привлечь большинство представителей следующего поколения исследователей, прежние школы постепенно исчезают… С первым принятием парадигмы связаны создание специальных журналов, организация научных обществ, требования о выделении специального курса в академическом образовании” [Кун, с. 44–46].
44–46].
“Формирование парадигмы… является признаком зрелости развития любой научной дисциплины” [Кун, с. 36] – это период нормальной науки. “Успех парадигмы… вначале представляет собой в основном открывающуюся перспективу успеха в решении ряда проблем … Нормальная наука состоит в реализации этой перспективы [Кун, с. 50].
Как же происходит рождение новой парадигмы? Кун полагает, что новая парадигма рождается из аномалии (экспериментальной или теоретической). Аномалия – это “явление, к восприятию которого парадигма не подготовила исследователя”, таким образом, “аномалия появляется только на фоне парадигмы”. Осознание аномалии играет “главную роль в подготовке почвы для понимания новшества” [Кун, с. 89, 98]. Кун перечисляет ряд общих черт, “характеризующих открытие новых явлений. Эти характеристики включают: предварительное осознание аномалии, постепенное или мгновенное ее признание – как опытное, так и понятийное, и последующее изменение парадигмальных категорий и процедур, которые часто встречают сопротивление [Кун, с. 95][10]. Источник сопротивления лежит, с одной стороны, в убежденности, что старая парадигма в конце концов решит все проблемы [Кун, с. 197]. С другой стороны, “ученый, который прерывает свою работу для анализа каждой замеченной им аномалии, редко добивается значительных успехов” [Кун, с. 118], более того, тогда “наука перестала бы существовать” [Кун, с. 240].
95][10]. Источник сопротивления лежит, с одной стороны, в убежденности, что старая парадигма в конце концов решит все проблемы [Кун, с. 197]. С другой стороны, “ученый, который прерывает свою работу для анализа каждой замеченной им аномалии, редко добивается значительных успехов” [Кун, с. 118], более того, тогда “наука перестала бы существовать” [Кун, с. 240].
На пути рождения новой парадигмы есть много препятствий. Во-первых, нет четких критериев, по которым можно было бы отличить аномалию от пока еще не решенной проблемы (“головоломки”) в рамках имеющейся парадигмы (нормальной науки)[11]. Во-вторых, утверждает Кун, – ученые “никогда не отказываются легко от парадигмы, которая ввергла их в кризис. Иными словами, они не рассматривают аномалии как контрпримеры… Достигнув однажды статуса парадигмы, научная теория объявляется недействительной только в том случае, если альтернативный вариант пригоден к тому, чтобы занять ее место… Решение отказаться от парадигмы всегда одновременно есть решение принять другую парадигму… Отказ от какой-либо парадигмы без одновременной замены ее другой означает отказ от науки вообще. Но этот акт отражается не на парадигме, а на ученом. Своими коллегами он неизбежно будет осужден как “плохой плотник, который в своих неудачах винит инструменты””[12]» [Кун, с. 112–114]. “Как и в производстве, в науке смена инструментов (т.е. парадигмы. – А.Л.) – крайняя мера, к которой прибегают лишь в случае действительной необходимости. Значение кризисов заключается именно в том, что они говорят о своевременности смены инструментов” [Кун, с. 111]. Третье препятствие вытекает из указанного выше тезиса о несоизмеримости теорий (парадигм).
Но этот акт отражается не на парадигме, а на ученом. Своими коллегами он неизбежно будет осужден как “плохой плотник, который в своих неудачах винит инструменты””[12]» [Кун, с. 112–114]. “Как и в производстве, в науке смена инструментов (т.е. парадигмы. – А.Л.) – крайняя мера, к которой прибегают лишь в случае действительной необходимости. Значение кризисов заключается именно в том, что они говорят о своевременности смены инструментов” [Кун, с. 111]. Третье препятствие вытекает из указанного выше тезиса о несоизмеримости теорий (парадигм).
Как же в таком случае происходит переход к новой парадигме? Логически последовательный “жесткий” вариант куновского механизма появления новой пары “парадигма – сообщество”, индифферентный к процессам, идущим в старой паре, относится к логическому “ядру” модели и описан выше. Но в “исторической пристройке” Кун смягчает эту модель, добавляя идею о том, что в реальной истории смене парадигмы предшествует кризис, переживаемый старой парадигмой.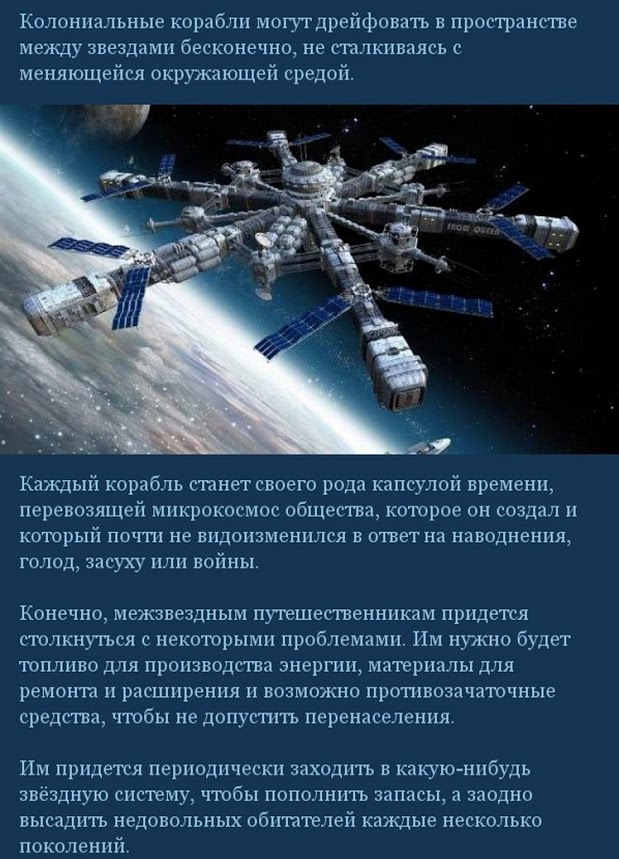 Это существенно облегчает революционный момент смены парадигмы. “Возникновению новых теорий, говорит он, – как правило, предшествует период резко выраженной профессиональной неуверенности… (т.е. кризиса – А.Л). Банкротство существующих правил означает прелюдию к поиску новых” [Кун, с. 101]. Кун приводит три типичных, с его точки зрения, примера, в каждом из которых “новая теория возникла только после резко выраженных неудач в деятельности по нормальному решению проблем…” [Кун, с. 109]. Так, Кун приводит высказывание А. Эйнштейна, характеризующее состояние умов накануне создания теории относительности: “Ощущение было такое, как если бы из-под ног уходила земля, и нигде не было видно твердой почвы, на которой можно было бы строить” [Кун, с. 120]. В результате “кризис ослабляет правила нормального решения головоломок таким образрм, что в конечном счете дает возможность возникнуть новой парадигме… Теперь становится все более широко признанным в кругу профессионалов, что они имеют дело именно с аномалией как отступлением от путей нормальной науки.
Это существенно облегчает революционный момент смены парадигмы. “Возникновению новых теорий, говорит он, – как правило, предшествует период резко выраженной профессиональной неуверенности… (т.е. кризиса – А.Л). Банкротство существующих правил означает прелюдию к поиску новых” [Кун, с. 101]. Кун приводит три типичных, с его точки зрения, примера, в каждом из которых “новая теория возникла только после резко выраженных неудач в деятельности по нормальному решению проблем…” [Кун, с. 109]. Так, Кун приводит высказывание А. Эйнштейна, характеризующее состояние умов накануне создания теории относительности: “Ощущение было такое, как если бы из-под ног уходила земля, и нигде не было видно твердой почвы, на которой можно было бы строить” [Кун, с. 120]. В результате “кризис ослабляет правила нормального решения головоломок таким образрм, что в конечном счете дает возможность возникнуть новой парадигме… Теперь становится все более широко признанным в кругу профессионалов, что они имеют дело именно с аномалией как отступлением от путей нормальной науки.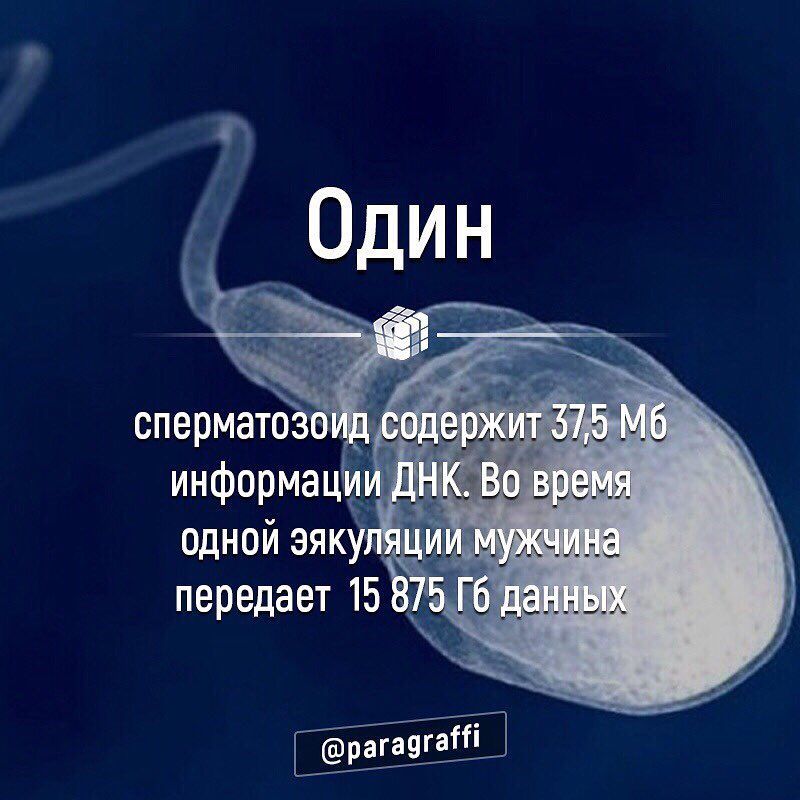 Ей уделяется теперь все больше и больше внимания со стороны все большего числа виднейших представителей данной области исследования…” [Кун, с. 115, 119]. Это приводит к “увеличению конкурирующих вариантов, готовность опробовать что-либо еще… – все это симптомы перехода от нормального исследования к экстраординарному” [Кун, с. 128]. “Новая теория, – по его мнению, – предстает как непосредственная реакция на кризис” [Кун, с. 109][13]. Кризис способствует и тому, что “большинство ученых так или иначе переходит к новой парадигме” [Кун, с. 198]. “Это одна из причин, в силу которых предшествующий кризис оказывается столь важным” [Кун, с. 204]. Но с логической точки зрения, кризис старой парадигмы не является обязательным для того, чтобы возникла новая.
Ей уделяется теперь все больше и больше внимания со стороны все большего числа виднейших представителей данной области исследования…” [Кун, с. 115, 119]. Это приводит к “увеличению конкурирующих вариантов, готовность опробовать что-либо еще… – все это симптомы перехода от нормального исследования к экстраординарному” [Кун, с. 128]. “Новая теория, – по его мнению, – предстает как непосредственная реакция на кризис” [Кун, с. 109][13]. Кризис способствует и тому, что “большинство ученых так или иначе переходит к новой парадигме” [Кун, с. 198]. “Это одна из причин, в силу которых предшествующий кризис оказывается столь важным” [Кун, с. 204]. Но с логической точки зрения, кризис старой парадигмы не является обязательным для того, чтобы возникла новая.
Таковы основные и вспомогательные элементы куновской модели развития науки. Наиболее бурные споры вызвал предложенный им способ выбора революционных альтернатив, т.е., на языке Куна, выбор между парадигмами. Многие его оппоненты, в том числе И. Лакатос, относили предлагаемые им основания для выбора теорий к иррациональным, поскольку центр тяжести этого выбора переносился с содержания теорий на психологию сообщества. Однако Кун так не считал, он полагал, что его модель является тоже рациональной.
Лакатос, относили предлагаемые им основания для выбора теорий к иррациональным, поскольку центр тяжести этого выбора переносился с содержания теорий на психологию сообщества. Однако Кун так не считал, он полагал, что его модель является тоже рациональной.
[1] Правда, сам Кун в дополнении, написанном в 1969 г., хочет уйти от такой совместной формы определения понятий, характеризуя ее как “логический круг”, который “в данном случае является источником логических трудностей”, и пытается определить понятие «научного сообщества» независимо от других понятий: «Научные сообщества могут и должны быть выделены как объект без обращения к парадигме; последняя может быть обнаружена затем путем тщательного изучения поведения членов данного сообщества» [Кун, с.226]. Для этого он предлагает опереться на то, что «научное сообщество состоит из исследователей с определенной научной специальностью…. Они получили сходное образование и профессиональные навыки; в процессе обучения они усвоили одну и ту же учебную литературу и извлекли из нее одни и те же уроки….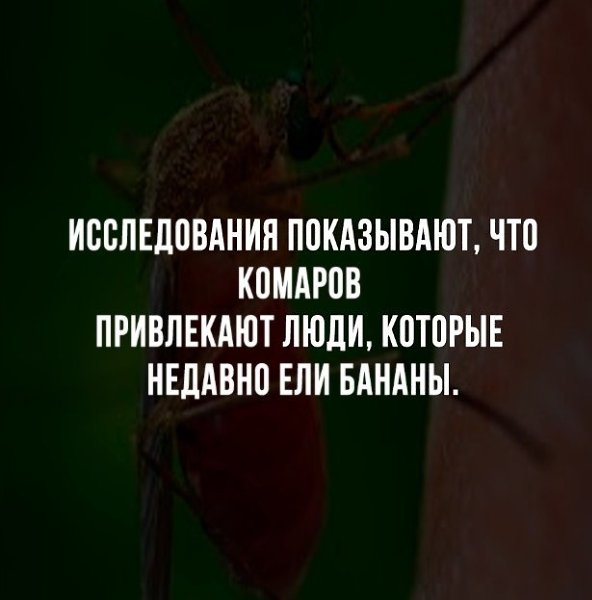 » [Кун, с. 227–228]. Отсюда следует широкая программа исследований по социологии науки, которая стала реализовываться после его работы. Однако мы здесь имеем скорее способ нахождения сообщества (а заодно и связанной с ним парадигмы), чем ее определение (в [Липкин 2005] в качестве опоры для выявления сообщества и парадигмы в некоторой узкой области физических иследований были выбраны конференции по данной теме, из матералов которых легко извлекались соответствующие журналы, лаборатории и даже парадигма).
» [Кун, с. 227–228]. Отсюда следует широкая программа исследований по социологии науки, которая стала реализовываться после его работы. Однако мы здесь имеем скорее способ нахождения сообщества (а заодно и связанной с ним парадигмы), чем ее определение (в [Липкин 2005] в качестве опоры для выявления сообщества и парадигмы в некоторой узкой области физических иследований были выбраны конференции по данной теме, из матералов которых легко извлекались соответствующие журналы, лаборатории и даже парадигма).
[2] Кун связывает это с тем, что “…ученые концентрируют внимание на проблемах, решению которых им может помешать только недостаток собственной изобретательности” [Кун, с. 66]. Речь идет об уподоблении “нормальной науке” “решению головоломок” [Кун, с. 71]. Последние характеризуются наличием “гарантированного решения” и жесткими “правилами решения”, как в “составной фигуре-головоломке” или кроссворде [Кун, с. 65, 67]. Эту метафору часто используют для характеристики нормальной науки и Кун, и его оппоненты. В обсуждении куновского понятия нормальной науки она занимает непомерно большое место. В гл. 8 будет показано, что эта метафора неверна. Тем не менее, это никак не подрывает куновскую модель, поскольку это уподобление не входит в ее ядро.
В обсуждении куновского понятия нормальной науки она занимает непомерно большое место. В гл. 8 будет показано, что эта метафора неверна. Тем не менее, это никак не подрывает куновскую модель, поскольку это уподобление не входит в ее ядро.
[3] При этом “факт и теория, открытие и исследование не разделены категорически и окончательно” [Кун, с. 99]. “Открытие нового вида явлений представляет собой по необходимости сложное событие… С открытием неразрывно связано не только наблюдение, но и концептуализация, обнаружение самого факта и усвоение его теорией, тогда открытие есть процесс и должно быть длительным по времени” [Кун, с. 87].
[4] Более строгое определение выглядит так: “Концептуальные аппараты теорий T и T’ таковы, что нельзя ни определить исходные дескриптивные термины T’на базе основных дескриптивных терминов T, ни установить корректных эмпирических отношений между терминами двух данных теорий… В этом случае объяснение теории T’ на базе T или редукция T’ к T, очевидно невозможны… В общем, использование T сделает необходимым устранение концептуального аппарата и законов теории T’ [Фейерабенд, с. 65].
65].
[5] Кун показывает неслучайность аналогии научной и политической революций: “политические революции направлены на изменение политических институтов способами, которые эти институты сами по себе запрещают, …” [Кун, с. 130]. Когда… поляризация произошла, политический выход из создавшегося положения оказывается невозможным …. [Кун, с. 131].
[6] Схожие идеи несколько ранее были высказаны М.Полани (1891–1976) в его книге «Личностное знание», в центре которой стоит концепция «неявного знания». «Оригинальность подхода к науке, проведенного в книге, состоит прежде всего в последовательном отстаивании тезиса о том, что наука делается людьми, овладевшими соответствующими навыками и умениями познавательной деятельности, мастерством познания, которое не поддается исчерпывающему описанию и выражению средствами языка, сколь бы развитым и мощным этот язык ни был. Поэтому явно выраженное, артикулированное научное знание, в частности то, которое представлено в текстах научных статей и учебниках,— это, согласно Полани, лишь некоторая находящаяся в фокусе сознания часть знания. Восприятие смысла всего этого невозможно вне контекста периферического, неявного знания… Смысл научных утверждений определяется неявным контекстом скрытого (или молчаливого) знания, которое, по существу, имеет инструментальный хар-р «знания как», знания-умения, в своих глубинных основах задаваемого всей телесной организацией человека как живого существа. Тем самым смысл научного высказывания (как и всякого др. высказывания), возникающий в процессе своеобразного опыта внутр. «прочтения» формирующегося текста «для себя» и усилий его артикуляции «во-вне» посредством сотворенной человеком языковой системы, в к-рой он пребывает в данный момент,— этот смысл принципиально неотделим от того инструментального знания, к-рое осталось неартикулированным. Более того, он неотделим также и от той личностной уверенности в истинности, которая вкладывается в провозглашаемое научное суждение. Речь в данном случае идет не об обязательной невыразимости в языке к.-л. сторон внутр. человеческого опыта; речь идет о том, что процесс «считывания» и артикуляции смысла, находящегося в фокусе осознания, невозможен без целостного, недетализируемого в данный момент, а потому к неартикулируемого контекста…» [Аршинов В.
Восприятие смысла всего этого невозможно вне контекста периферического, неявного знания… Смысл научных утверждений определяется неявным контекстом скрытого (или молчаливого) знания, которое, по существу, имеет инструментальный хар-р «знания как», знания-умения, в своих глубинных основах задаваемого всей телесной организацией человека как живого существа. Тем самым смысл научного высказывания (как и всякого др. высказывания), возникающий в процессе своеобразного опыта внутр. «прочтения» формирующегося текста «для себя» и усилий его артикуляции «во-вне» посредством сотворенной человеком языковой системы, в к-рой он пребывает в данный момент,— этот смысл принципиально неотделим от того инструментального знания, к-рое осталось неартикулированным. Более того, он неотделим также и от той личностной уверенности в истинности, которая вкладывается в провозглашаемое научное суждение. Речь в данном случае идет не об обязательной невыразимости в языке к.-л. сторон внутр. человеческого опыта; речь идет о том, что процесс «считывания» и артикуляции смысла, находящегося в фокусе осознания, невозможен без целостного, недетализируемого в данный момент, а потому к неартикулируемого контекста…» [Аршинов В.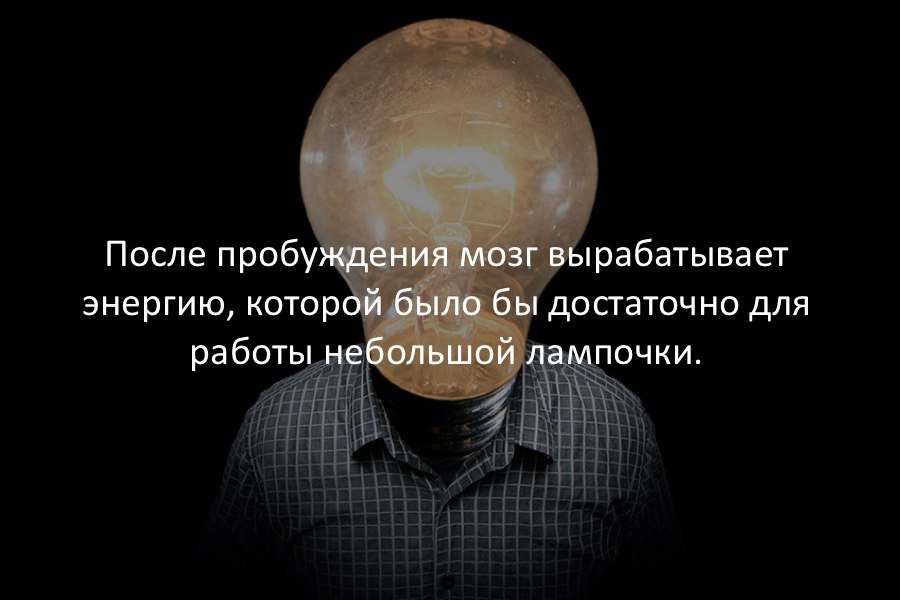 И. «Личностное знание» // СЗФ, С. 159–160]
И. «Личностное знание» // СЗФ, С. 159–160]
[7] “Ученые исходят в своей работе из моделей, усвоенных в процессе обучения и из последующего их изложения в литературе” [Кун, с. 76].
[8] “Ряд критиков сомневался, предшествует ли кризис… революции… Ничего существенного в моих аргументах не ставится в зависимость от той предпосылки, что революциям неизбежно предшествуют кризисы…”, справедливо отвечает критикам Кун [Кун, с. 232–233].
[9] Понятие «школы» Кун не определяет, считая, по-видимому, его достаточно ясным – это сообщество ученых, объединяющееся вокруг лидера (учителя), а не парадигмы.
[10] Кун подчеркивает, что часто “новая парадигма… возникает сразу, иногда среди ночи, в голове человека, глубоко втянутого в водоворот кризиса… Почти всегда люди, которые успешно осуществляют фундаментальную разработку новой парадигмы, были либо очень молодыми, либо новичками в той области, парадигму которой они преобразовали” [Кун, с. 127].
[11] Мне представляется, что это не всегда так. Иногда аномалия имеет четкую теоретическую формулировку, как это было с проблемой спектра теплового излучения черного тела накануне создания “старой” квантовой теории и с корпускулярно-волновым дуализмом накануне создания “новой” квантовой механики – А.Л.
Иногда аномалия имеет четкую теоретическую формулировку, как это было с проблемой спектра теплового излучения черного тела накануне создания “старой” квантовой теории и с корпускулярно-волновым дуализмом накануне создания “новой” квантовой механики – А.Л.
[12] И действительно, “большинство аномалий разрешается нормальными средствами; также и большинство заявок на новые теории оказываются беспочвенными” [Кун, с. 239].
[13] При этом в этих случаях “разрешение кризиса в каждом из них было, по крайней мере частично, предвосхищено…, но при отсутствии кризиса эти предвосхищения игнорировались” [Кун, с. 110]
от логического позитивизма к эпистемологическому анархизму» — Департамент философии
Содержание главы IV:
• Предмет философии науки
• Логический позитивизм
• Фальсификационизм (К. Поппер)
• Концепция научных революций (Т. Кун)
• Методология научно-исследовательских программ (И. Лакатос)
• Эпистемологический анархизм (П.
 Фейерабенд)
Фейерабенд)
1. Предмет философии науки
Философией науки обычно называют ту ветвь аналитической философии, которая занимается изучением науки и претендует на научную обоснованность своих выводов.
Не секрет, что жизнь современного человека в значительной степени связана с достижениями науки и техники. Ежедневно люди пользуются холодильниками и телевизорами, компьютерами и сотовыми телефонами, ездят на автомобилях, летают на самолетах; общество избавилось от холеры и оспы — болезней, которые когда-то опустошали целые селения; человек высадился на Луну и теперь готовит научные экспедиции на другие планеты Солнечной системы. В настоящее время нет практически ни одной сферы человеческой деятельности, где можно было бы обойтись без использования научного знания, и поэтому дальнейший прогресс человечества многие люди тесно увязывают с новыми научно-техническими достижениями.
Такое огромное влияние науки на жизнедеятельность современного человека заставило философов обратить внимание на саму науку и сделать ее предметом своих размышлений.
Что такое наука? Чем отличается научное знание от мифологических и религиозных представлений о мире? В чем ценность науки? Как она развивается? Какими методами пользуются ученые для достижения своих результатов?
Попытки найти ответ на эти и многие другие вопросы, связанные с пониманием науки как особой сферы человеческой деятельности, привели к возникновению особого направления — философии науки, которая сформировалась в XX веке на стыке самой науки, ее истории и собственно философии.
Разумеется, трудно указать тот момент, когда философия науки оформляется как особая область философии. Рассуждения о специфике научного знания и методов науки можно найти еще в работах Ф. Бэкона и Р. Декарта — первых представителей философии Нового времени. Каждый философ XVII-XIX веков, размышлявший над проблемами теории познания, обращал свой взор так или иначе на науку и ее методы. Однако все это время рассмотрение науки осуществлялось в рамках теоретико-познавательного анализа. Лишь постепенно научное познание (в трудах О. Конта, Дж. С. Милля, Э. Маха) становится главным предметом теории познания, а А. Пуанкаре, П. Дюгем (Дюэм), Б. Рассел уже специально анализируют структуру науки и ее методы. Но только логический позитивизм в начале XX века четко разграничил научное и обыденное познание и провозгласил науку единственной сферой человеческой деятельности, вырабатывающей обоснованное знание. И именно тогда изучение науки было впервые отчетливо отделено от исследования общих проблем познания.
Лишь постепенно научное познание (в трудах О. Конта, Дж. С. Милля, Э. Маха) становится главным предметом теории познания, а А. Пуанкаре, П. Дюгем (Дюэм), Б. Рассел уже специально анализируют структуру науки и ее методы. Но только логический позитивизм в начале XX века четко разграничил научное и обыденное познание и провозгласил науку единственной сферой человеческой деятельности, вырабатывающей обоснованное знание. И именно тогда изучение науки было впервые отчетливо отделено от исследования общих проблем познания.
Однако прежде чем приступить к исследованию науки и пытаться давать ответы на вопросы, касающиеся научного знания, необходимо иметь определенное представление о том, что такое человеческое познание вообще, какова его природа и социальные функции, его связь с производственной практикой и т.п. Ответы на эти вопросы дает философия, и в частности такой ее раздел, как теория познания, причем различные философские направления обычно предлагают разные ответы. Поэтому каждый философ науки с самого начала отталкивается от той или иной философской системы.
Кроме того, современная наука слишком обширна, чтобы один исследователь мог охватить ее всю целиком. Отсюда каждый философ науки избирает для изучения и анализа какие-то отдельные научные дисциплины, например математику, физику, химию или биологию, а иногда и просто отдельные научные теории. Обычно этот выбор определяется его философскими предпочтениями или случайностями его образования.
Если принять во внимание, что представители философии науки могут быть сторонниками различных философских направлений и в своих исследованиях ориентироваться на разные научные дисциплины и их историю, то сразу же станет ясно, почему они зачастую приходят к выработке очень разных представлений о науке. Конкретно это проявляется в том, что в философии науки существует множество различных методологических концепций, которые дают систематизированные и логически согласованные ответы на указанные выше вопросы о природе науки и ее методах.
Так, в конце XIX-начале XX века широкой известностью пользовались методологические концепции, созданные австрийским физиком и философом-позитивистом Э.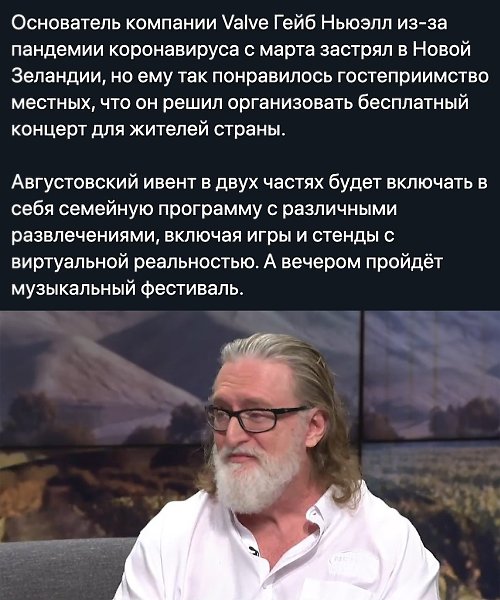 Махом, французским математиком А. Пуанкаре, французским физиком П. Дюгемом (Дюэмом). С конца 20-х годов XX века почти всеобщее признание получила методологическая концепция логического позитивизма. Во второй половине XX века выступили со своими методологическими концепциями такие философы и ученые, как К. Поппер, Т. Кун, И. Лакатос, П. Фейерабенд и многие другие.
Махом, французским математиком А. Пуанкаре, французским физиком П. Дюгемом (Дюэмом). С конца 20-х годов XX века почти всеобщее признание получила методологическая концепция логического позитивизма. Во второй половине XX века выступили со своими методологическими концепциями такие философы и ученые, как К. Поппер, Т. Кун, И. Лакатос, П. Фейерабенд и многие другие.
2. Логический позитивизм
В 1922 году на кафедре натуральной философии Венского университета, которую после смерти Э. Маха возглавил профессор М. Шлик, собралась группа молодых ученых, поставивших перед собой смелую цель — реформировать науку и философию. Эта группа вошла в историю под именем Венского кружка. В нее входили сам М. Шлик, Р. Карнап (вскоре ставший признанным лидером нового направления), О. Нейрат, Г. Фейгль, В. Дубислав и другие. После прихода к власти в Германии нацистской партии члены кружка и их сторонники в Берлине, Варшаве и других научных центрах континентальной Европы постепенно эмигрировали в Англию и США, что способствовало распространению их взглядов в этих странах.
Философско-методологическая концепция Венского кружка получила наименование «логический позитивизм» или «неопозитивизм», поскольку его члены вдохновлялись как позитивистскими идеями О. Конта и Э. Маха, так и достижениями символической логики, разработанной Г. Фреге, Б. Расселом и А. Н. Уайтхедом, причем в логике неопозитивисты увидели тот инструмент, который должен был стать основным средством методологического анализа науки.
Фундаментальные идеи своей концепции неопозитивисты заимствовали из «Логико-философского трактата» Л. Витгенштейна, который в ранний период своего творчества онтологизировал структуру языка той логической системы, которая была создана Г. Фреге, Б. Расселом и А. Н. Уайтхедом. Витгенштейн полагал, что поскольку язык логики состоит из простых, или атомарных, предложений, которые с помощью логических связок могут соединяться в сложные, молекулярные, предложения, то и реальность состоит из атомарных фактов, которые могут объединяться в молекулярные факты. Атомарные факты причинно никак не связаны друг с другом, поэтому в мире нет никаких закономерных связей.
Атомарные факты причинно никак не связаны друг с другом, поэтому в мире нет никаких закономерных связей.
Поскольку действительность представляет собой лишь различные комбинации элементов одного уровня — фактов, постольку и наука должна быть не более чем комбинацией предложений, отображающих факты и их различные сочетания. Все, что претендует на выход за пределы этого «одномерного» мира фактов, все, что апеллирует к причинным связям фактов или к глубинным сущностям, изгоняется из науки. Конечно, в языке науки очень много предложений, которые непосредственно как будто не отображают фактов. Но это обусловлено тем, что используемый в науке естественный язык — будь то немецкий, английский или какой-нибудь еще — искажает мысли. Поэтому в языке науки, как и в повседневном языке, так много бессмысленных предложений — предложений, которые действительно не говорят о фактах. Для выявления и отбрасывания таких бессмысленных предложений требуется логический анализ языка науки. Такой анализ и должен стать главным делом философов.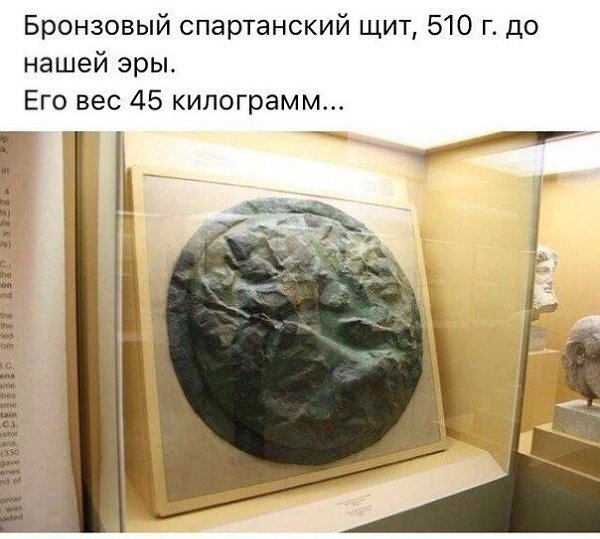
Эти идеи Витгенштейна были подхвачены и переработаны членами Венского кружка, которые заменили его онтологию следующими теоретико-познавательными принципами.
1. Всякое знание — это знание о том, что дано человеку в чувственном восприятии. Атомарные факты Витгенштейна логические позитивисты заменили чувственными восприятиями субъекта и комбинациями этих чувственных восприятий. Как и атомарные факты, отдельные чувственные восприятия не связаны между собой. У Витгенштейна мир — это калейдоскоп фактов, а у логических позитивистов мир оказывается калейдоскопом чувственных восприятий. Вне чувственных восприятий нет никакой реальности, во всяком случае ученые ничего не могут сказать о ней. Таким образом, всякое знание может относиться только к чувственным восприятиям.
2. То, что дано в чувственном восприятии, мы можем знать с абсолютной достоверностью. Структура предложений у Витгенштейна совпадала со структурой факта, поэтому истинное предложение было абсолютно истинным, поскольку оно не только верно описывало некоторое положение дел, но и в своей структуре «показывало» структуру этого положения дел. Поэтому истинное предложение не могло быть ни изменено, ни отброшено. Логические позитивисты заменили атомарные предложения Витгенштейна протокольными предложениями, выражающими чувственные восприятия субъекта. Истинность протокольного предложения, выражающего то или иное восприятие, для субъекта также является несомненной.
Поэтому истинное предложение не могло быть ни изменено, ни отброшено. Логические позитивисты заменили атомарные предложения Витгенштейна протокольными предложениями, выражающими чувственные восприятия субъекта. Истинность протокольного предложения, выражающего то или иное восприятие, для субъекта также является несомненной.
3. Все функции знания сводятся к описанию чувственных данных. Если мир представляет собой комбинацию чувственных данных и знание может относиться только к чувственным данным, то оно сводится лишь к фиксации этих данных. Объяснение и предсказание исчезают. Объяснить чувственные данные можно было бы, только апеллируя к их источнику — внешнему миру. Логические позитивисты отказываются и от объяснения. Предсказание должно опираться на существенные связи явлений, на знание причин, управляющих их возникновением и исчезновением. Логические позитивисты отвергают существование таких связей и причин. Таким образом, остается только описание явлений, поиски ответов на вопрос «как?», а не «почему?».
Такова модель науки, предлагаемая логическим позитивизмом. Итак, в основе науки, по мнению неопозитивистов, лежат протокольные предложения, выражающие чувственные данные субъекта. Истинность этих предложений абсолютно достоверна и несомненна. Совокупность истинных протокольных предложений образует эмпирический уровень научного знания — его твердый базис.
Для методологической концепции логического позитивизма характерно резкое разграничение эмпирического и теоретического уровней знания. Однако первоначально логические позитивисты полагали, что все предложения науки — подобно протокольным предложениям — говорят о чувственных данных. Поэтому каждое научное предложение, считали они, можно свести к протокольным предложениям. Достоверность протокольных предложений передается всем научным предложениям, отсюда наука состоит только из достоверно истинных предложений.
С точки зрения логического позитивизма деятельность ученого в основном должна сводиться к двум процедурам: установлению протокольных предложений; изобретению способов объединения и обобщения этих предложений.
Научная теория мыслилась в форме пирамиды, на вершине которой находятся основные понятия, определения и постулаты; ниже располагаются предложения, логически выводимые из постулатов; вся пирамида опирается на совокупность протокольных предложений, обобщением которых она является. Прогресс науки выражается в построении таких пирамид и в последующем слиянии теорий, построенных в некоторой конкретной области науки, в более общие теории, которые, в свою очередь, объединяются в еще более общие и так далее, до тех пор, пока все научные теории и области не сольются в одну громадную систему — единую унифицированную науку. В этой примитивно-накопительной модели развития не происходит никаких потерь или отступлений: каждое установленное протокольное предложение навечно ложится в фундамент науки; если некоторое предложение обосновано с помощью протокольных предложений, то оно прочно занимает свое место в пирамиде научного знания.
Первоначально модель науки и научного прогресса, построенная логическими позитивистами, была настолько искусственной и примитивной, настолько далекой от реальной науки и ее истории, что это бросалось в глаза даже самим ее создателям. Они предприняли попытки усовершенствовать эту модель, чтобы приблизить ее к реальной науке. В ходе этих попыток им пришлось постепенно отказываться от своих первоначальных установок. Однако, несмотря на все изменения и усовершенствования, модель науки логического позитивизма постоянно сохраняла некоторые особенности, обусловленные первоначальной наивной схемой. Это прежде всего выделение в научном знании некоторой твердой эмпирической основы; резкое противопоставление эмпирического и теоретического уровней знания; отрицательное отношение к философии и всему тому, что выходит за пределы эмпирического знания; абсолютизация логических методов анализа и построения научного знания; ориентация в истолковании природы научного знания на математические дисциплины и т.п.
Они предприняли попытки усовершенствовать эту модель, чтобы приблизить ее к реальной науке. В ходе этих попыток им пришлось постепенно отказываться от своих первоначальных установок. Однако, несмотря на все изменения и усовершенствования, модель науки логического позитивизма постоянно сохраняла некоторые особенности, обусловленные первоначальной наивной схемой. Это прежде всего выделение в научном знании некоторой твердой эмпирической основы; резкое противопоставление эмпирического и теоретического уровней знания; отрицательное отношение к философии и всему тому, что выходит за пределы эмпирического знания; абсолютизация логических методов анализа и построения научного знания; ориентация в истолковании природы научного знания на математические дисциплины и т.п.
Попытки устранить пороки методологической концепции, преодолеть трудности, обусловленные ошибочными теоретико-познавательными предпосылками, поглощали все внимание логических позитивистов, и они, в сущности, так и не дошли до реальной науки и ее методологических проблем. Правда, методологические конструкции неопозитивизма никогда и не рассматривались как отображение реальных научных теорий и познавательных процедур. В них скорее видели идеал, к которому должна стремиться наука. В последующем развитии философии науки по мере ослабления жестких методологических стандартов, норм и разграничительных линий происходит постепенный поворот от логики к истории науки. Методологические концепции начинают сравнивать не с логическими системами, а с реальными историческими процессами развития научного знания. По мере того как на формирование методологических концепций начинает оказывать влияние история науки, изменяется и проблематика философии науки. Анализ языка и статичных структур отходит на второй план.
Правда, методологические конструкции неопозитивизма никогда и не рассматривались как отображение реальных научных теорий и познавательных процедур. В них скорее видели идеал, к которому должна стремиться наука. В последующем развитии философии науки по мере ослабления жестких методологических стандартов, норм и разграничительных линий происходит постепенный поворот от логики к истории науки. Методологические концепции начинают сравнивать не с логическими системами, а с реальными историческими процессами развития научного знания. По мере того как на формирование методологических концепций начинает оказывать влияние история науки, изменяется и проблематика философии науки. Анализ языка и статичных структур отходит на второй план.
Важную роль в этом повороте сыграл К. Поппер. И хотя сам он провел молодые годы в Вене и первоначально был весьма близок к членам Венского кружка как по стилю мышления, так и по обсуждаемой проблематике, его критика ускорила разложение логического позитивизма, а его оригинальные идеи привели к возникновению новой методологической концепции и оформлению нового течения в философии науки.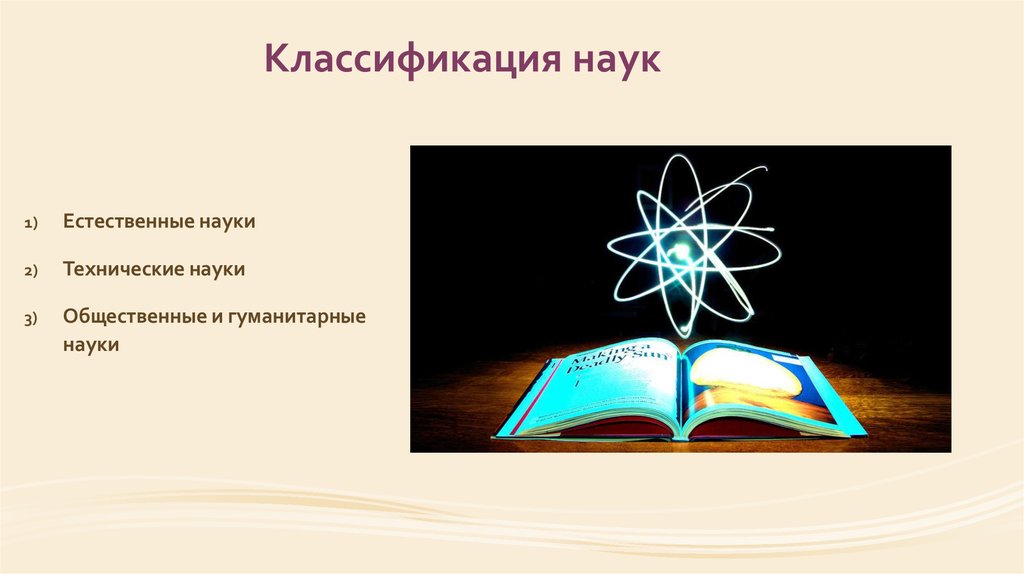
3. Фальсификационизм (К. Поппер)
Методологическая концепция Карла Рай-мунда Поппера (1902- 1994) получила название «фальсификационизм», так как ее основным принципом является принцип фальсифицируемости (опровержимости) положений науки. Что побудило Поппера положить именно этот принцип в основу своей методологии?
Во-первых, он руководствовался некоторыми логическими соображениями. Логические позитивисты заботились о верификации утверждений науки, то есть об их подтверждении эмпирическими данными. Они полагали, что такого обоснования можно достигнуть посредством индуктивного метода — вывода утверждений науки из эмпирических предложений. Однако это оказалось невозможным, поскольку ни одно общее предложение нельзя вполне обосновать с помощью частных предложений. Частные предложения вполне могут лишь опровергнуть общие. Например, для верификации (подтверждения) общего предложения «Все деревья теряют листву зимой» нам нужно осмотреть миллиарды деревьев, в то время как опровергается это предложение всего лишь одним примером дерева, сохранившего листву среди зимы.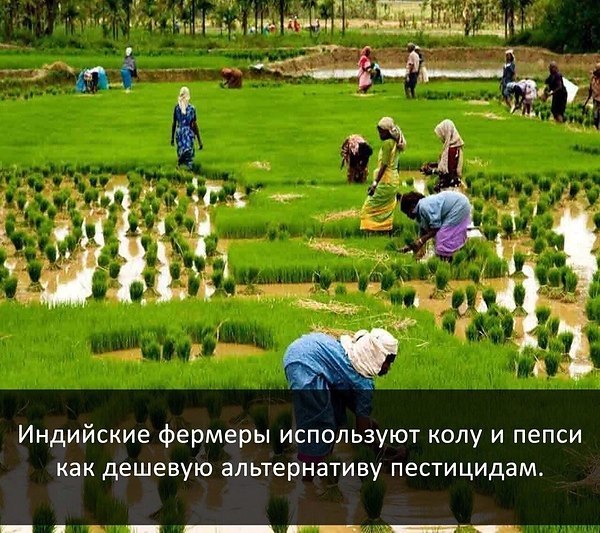 Такая асимметрия между подтверждением и опровержением общих предложений и критика индукции как метода обоснования знания и привели Поппера к фальсификационизму.
Такая асимметрия между подтверждением и опровержением общих предложений и критика индукции как метода обоснования знания и привели Поппера к фальсификационизму.
Во-вторых, у него были и более глубокие — философские — основания для того, чтобы сделать фальсификационизм ядром своей методологии. Поппер верит в объективное существование физического мира и признает, что человеческое познание стремится к истинному описанию именно этого мира. Он даже готов согласиться с тем, что человек может получить истинное знание о мире. Однако Поппер отвергает существование критерия истины — критерия, который позволял бы нам выделять истину из всей совокупности наших убеждений. Даже если бы мы в процессе научного поиска случайно и натолкнулись на истину, то все равно не смогли бы с уверенностью знать, что это — истина. Ни непротиворечивость, ни подтверждаемость эмпирическими данными не могут, согласно Попперу, служить критерием истины. Любую фантазию можно представить в непротиворечивом виде, а ложные убеждения часто находят подтверждение. Пытаясь понять мир, люди выдвигают гипотезы, создают теории и формулируют законы, но они никогда не могут с уверенностью сказать, что из созданного ими — истинно. Единственное, на что они способны, — это обнаружить ложь в своих воззрениях и отбросить ее. Постоянно выявляя и отбрасывая ложь, они тем самым могут приблизиться к истине. Это оправдывает их стремление к познанию и ограничивает скептицизм. Можно сказать, что научное познание и философия науки опираются на две фундаментальные идеи: идею о том, что наука способна дать и дает нам истину, и идею о том, что наука освобождает нас от заблуждений и предрассудков. Поппер отбросил первую из них и положил в основу своей методологии — вторую.
Пытаясь понять мир, люди выдвигают гипотезы, создают теории и формулируют законы, но они никогда не могут с уверенностью сказать, что из созданного ими — истинно. Единственное, на что они способны, — это обнаружить ложь в своих воззрениях и отбросить ее. Постоянно выявляя и отбрасывая ложь, они тем самым могут приблизиться к истине. Это оправдывает их стремление к познанию и ограничивает скептицизм. Можно сказать, что научное познание и философия науки опираются на две фундаментальные идеи: идею о том, что наука способна дать и дает нам истину, и идею о том, что наука освобождает нас от заблуждений и предрассудков. Поппер отбросил первую из них и положил в основу своей методологии — вторую.
Попытаемся теперь понять смысл важнейших понятий попперовской концепции — понятий фальсифицруемости и фальсификации.
Подобно логическим позитивистам Поппер противопоставляет теорию эмпирическим предложениям. К числу последних он относит единичные предложения, описывающие факты, например: «Здесь стоит стол», «10 февраля 1998 года в Москве шел снег» и т. п. Совокупность всех возможных эмпирических, или, как предпочитает говорить Поппер, базисных, предложений образует некоторую эмпирическую основу науки, в которую входят и не совместимые между собой базисные предложения. Научная теория, считает Поппер, всегда может быть выражена в виде совокупности общих утверждений типа: «Все тигры полосаты», «Все рыбы дышат жабрами» и т.п. Утверждения подобного рода можно выразить в эквивалентной форме: «Неверно, что существует неполосатый тигр». Поэтому всякую теорию можно рассматривать как запрещающую существование некоторых фактов или как говорящую о ложности некоторых базисных предложений. Например, наша «теория» утверждает ложность базисных предложений типа: «Там-то и там-то имеется неполосатый тигр». Вот эти базисные предложения, запрещаемые теорией, Поппер и называет потенциальными фальсификаторами теории. Фальсификаторами — потому, что если запрещаемый теорией факт имеет место и описывающее его базисное предложение истинно, то теория считается опровергнутой.
п. Совокупность всех возможных эмпирических, или, как предпочитает говорить Поппер, базисных, предложений образует некоторую эмпирическую основу науки, в которую входят и не совместимые между собой базисные предложения. Научная теория, считает Поппер, всегда может быть выражена в виде совокупности общих утверждений типа: «Все тигры полосаты», «Все рыбы дышат жабрами» и т.п. Утверждения подобного рода можно выразить в эквивалентной форме: «Неверно, что существует неполосатый тигр». Поэтому всякую теорию можно рассматривать как запрещающую существование некоторых фактов или как говорящую о ложности некоторых базисных предложений. Например, наша «теория» утверждает ложность базисных предложений типа: «Там-то и там-то имеется неполосатый тигр». Вот эти базисные предложения, запрещаемые теорией, Поппер и называет потенциальными фальсификаторами теории. Фальсификаторами — потому, что если запрещаемый теорией факт имеет место и описывающее его базисное предложение истинно, то теория считается опровергнутой.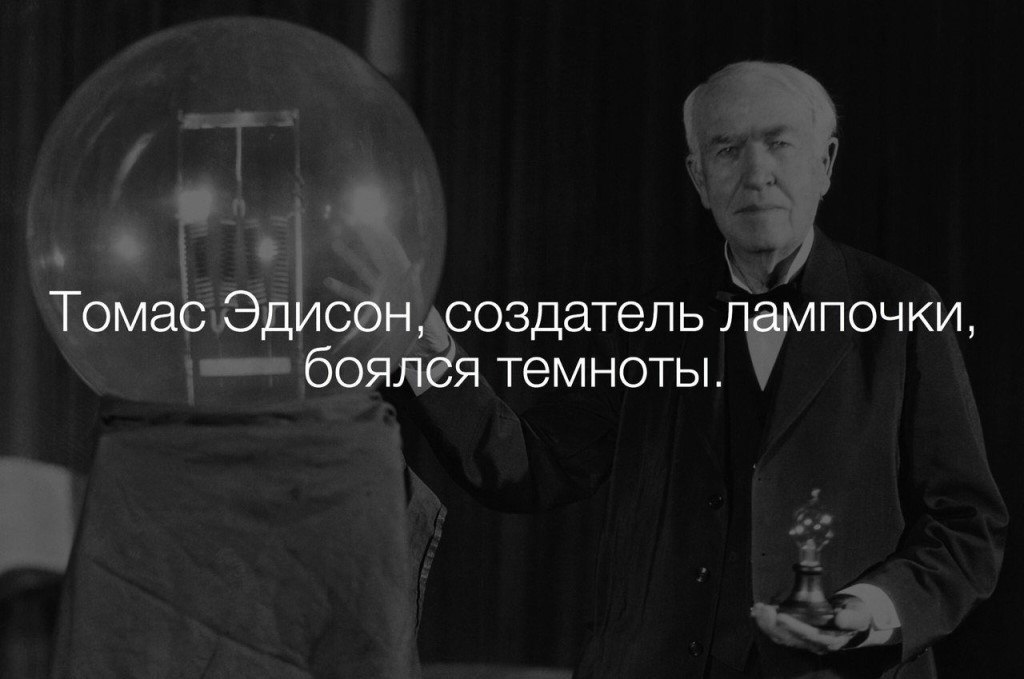 Потенциальными — потому, что эти предложения могут фальсифицировать теорию, но лишь в том случае, когда будет установлена их истинность. Отсюда понятие фальсифщируемости определяется следующим образом: «теория фальсифицируема, если класс ее потенциальных фальсификаторов не пуст» [Поппер К. Р. Логика научного исследования // Поппер К. Р. Логика и рост научного знания. М., 1983. С. 115.].
Потенциальными — потому, что эти предложения могут фальсифицировать теорию, но лишь в том случае, когда будет установлена их истинность. Отсюда понятие фальсифщируемости определяется следующим образом: «теория фальсифицируема, если класс ее потенциальных фальсификаторов не пуст» [Поппер К. Р. Логика научного исследования // Поппер К. Р. Логика и рост научного знания. М., 1983. С. 115.].
Фальсифицированная теория должна быть отброшена. Поппер решительно настаивает на этом. Она обнаружила свою ложность, поэтому мы не можем сохранять ее в своем знании. Всякие попытки в этом направлении могут привести лишь к задержке в развитии познания, к догматизму в науке и потере ею своего эмпирического содержания.
«Проблему нахождения критерия, который дал бы нам в руки средства для выявления различия между эмпирическими науками, с одной стороны, и математикой, логикой и «метафизическими» системами — с другой, я называю, — говорил Поппер, — проблемой демаркации» [Поппер К. Р. Логика научного исследования // Поппер К.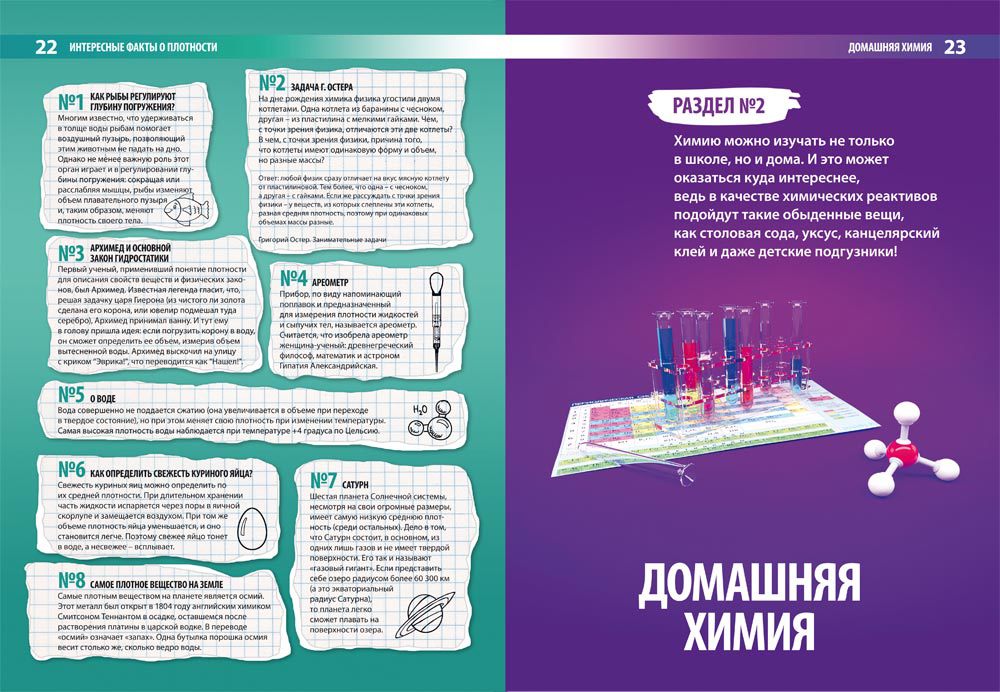 Р. Логика и рост научного знания. С. 55.].
Р. Логика и рост научного знания. С. 55.].
При этом Поппер отверг индукцию и верифицируемость в качестве критерия демаркации. Их защитники видят характерную черту науки в обоснованности и достоверности, а особенность ненауки, скажем метафизики, — в недостоверности и ненадежности. Однако полная обоснованность и достоверность в науке недостижимы, а возможность частичного подтверждения не помогает отличить науку от ненауки: например, учение астрологов о влиянии звезд на судьбы людей подтверждается громадным эмпирическим материалом. Подтвердить можно все, что угодно, — это еще не свидетельствует о научности. То, что некоторое утверждение или система утверждений говорят о физическом мире, проявляется не в подтверждаемости их опытом, а в том, что опыт может их опровергнуть. Если система опровергается с помощью опыта, значит, она приходит в столкновение с действительным положением дел, но это как раз и свидетельствует о том, что она что-то говорит о мире. Исходя из этих соображений, Поппер в качестве критерия демаркации принимает фальсифицируемость, то есть эмпирическую опровержимость теории: «Эмпирическая система должна допускать опровержение путем опыта» [Там же. С. 63.].
С. 63.].
Поппер соглашается с тем, что ученые стремятся получить истинное описание мира и дать истинные объяснения наблюдаемым фактам. Однако, по его мнению, эта цель актуально недостижима, и мы способны лишь приближаться к истине. Научные теории представляют собой лишь догадки о мире, необоснованные предположения, в истинности которых мы никогда не можем быть уверены: «С развиваемой нами здесь точки зрения все законы и теории остаются принципиально временными, предположительными или гипотетическими даже в том случае, когда мы чувствуем себя неспособными сомневаться в них» [Поппер К. Р. Предположения и опровержения. Рост научного знания // Там же. С. 269.]. Эти предположения невозможно верифицировать, их можно лишь подвергнуть проверкам, которые рано или поздно выявят ложность этих предположений.
Важнейшим, а иногда и единственным методом научного познания долгое время считали индуктивный метод. Согласно индуктивистской методологии научное познание начинается с наблюдений и констатации фактов.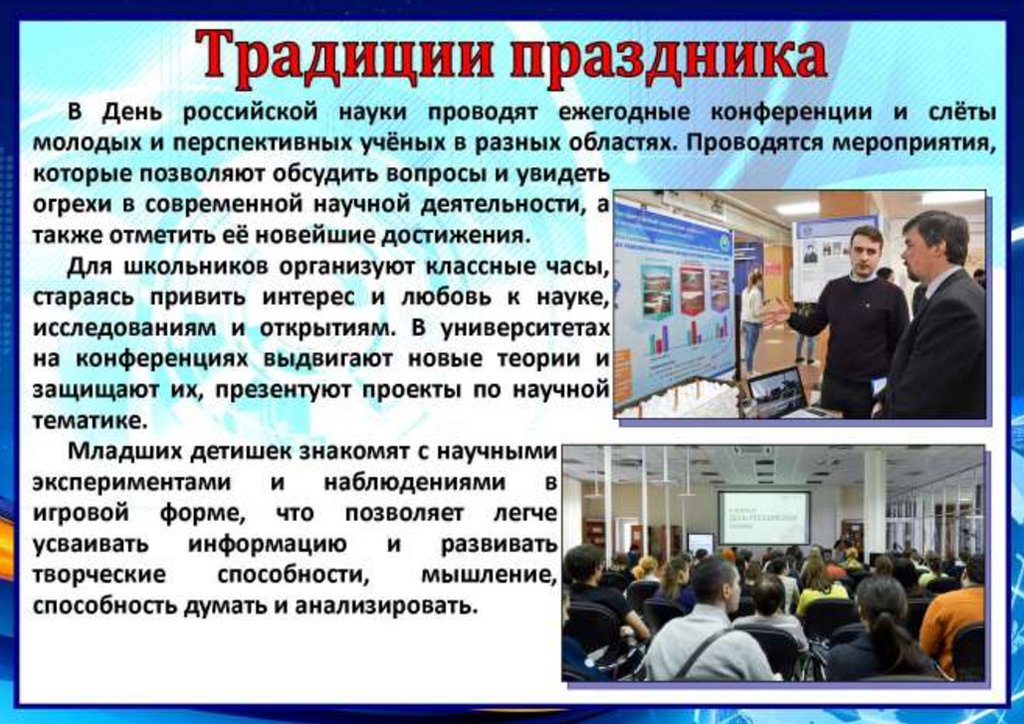 После того как факты установлены, мы приступаем к их обобщению и выдвижению теории. Теория рассматривается как обобщение фактов и поэтому считается достоверной. Правда, еще Д. Юм заметил, что общее утверждение нельзя вывести из фактов, и поэтому всякое индуктивное обобщение недостоверно. Так возникла проблема оправдания индуктивного вывода: что позволяет нам от фактов переходить к общим утверждениям? Осознание неразрешимости этой проблемы и уверенность в гипотетичности (предположительности) всякого человеческого знания привели Поппера к отрицанию индуктивного метода познания вообще. «Индукция, — утверждает он, — то есть вывод, опирающийся на множество наблюдений, представляет собой миф. Она не является ни психологическим фактом, ни фактом обыденной жизни, ни фактом научной практики» [Там же. С. 271-272.].
После того как факты установлены, мы приступаем к их обобщению и выдвижению теории. Теория рассматривается как обобщение фактов и поэтому считается достоверной. Правда, еще Д. Юм заметил, что общее утверждение нельзя вывести из фактов, и поэтому всякое индуктивное обобщение недостоверно. Так возникла проблема оправдания индуктивного вывода: что позволяет нам от фактов переходить к общим утверждениям? Осознание неразрешимости этой проблемы и уверенность в гипотетичности (предположительности) всякого человеческого знания привели Поппера к отрицанию индуктивного метода познания вообще. «Индукция, — утверждает он, — то есть вывод, опирающийся на множество наблюдений, представляет собой миф. Она не является ни психологическим фактом, ни фактом обыденной жизни, ни фактом научной практики» [Там же. С. 271-272.].
В своем познании действительности человек всегда опирается на определенные верования, ожидания, теоретические предпосылки; процесс познания начинается не с наблюдений, а с выдвижения догадок, предположений, объясняющих мир.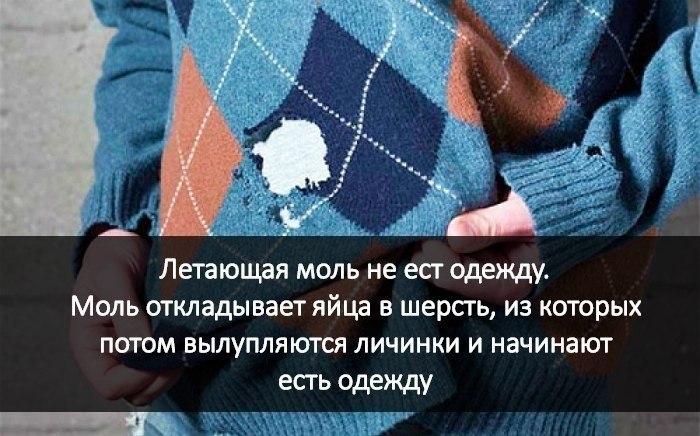 Свои догадки мы соотносим с результатами наблюдений и отбрасываем их после фальсификации, заменяя новыми догадками. Пробы и ошибки — вот из чего складывается, считает Поппер, метод науки. Для познания мира, утверждает он, «у нас нет более рациональной процедуры, чем метод проб и ошибок — предположений и опровержений: смелое выдвижение теорий, стремление сделать все возможное для того, чтобы показать ошибочность этих теорий, и временное их признание, если наша критика оказывается безуспешной» [Поппер К. Р. Предположения и опровержения. Рост научного знания // Поппер К. Р. Логика и рост научного знания. С. 268-269.]. Метод проб и ошибок характерен не только для научного, но и для всякого познания вообще. И амеба, и Эйнштейн пользуются им в своем познании окружающего мира, говорит Поппер. Более того, метод проб и ошибок является не только методом познания, но и методом всякого развития. Природа, создавая и совершенствуя биологические виды, действует методом проб и ошибок. Каждый отдельный организм — это очередная проба; успешная проба выживает, дает потомство; неудачная проба устраняется как ошибка.
Свои догадки мы соотносим с результатами наблюдений и отбрасываем их после фальсификации, заменяя новыми догадками. Пробы и ошибки — вот из чего складывается, считает Поппер, метод науки. Для познания мира, утверждает он, «у нас нет более рациональной процедуры, чем метод проб и ошибок — предположений и опровержений: смелое выдвижение теорий, стремление сделать все возможное для того, чтобы показать ошибочность этих теорий, и временное их признание, если наша критика оказывается безуспешной» [Поппер К. Р. Предположения и опровержения. Рост научного знания // Поппер К. Р. Логика и рост научного знания. С. 268-269.]. Метод проб и ошибок характерен не только для научного, но и для всякого познания вообще. И амеба, и Эйнштейн пользуются им в своем познании окружающего мира, говорит Поппер. Более того, метод проб и ошибок является не только методом познания, но и методом всякого развития. Природа, создавая и совершенствуя биологические виды, действует методом проб и ошибок. Каждый отдельный организм — это очередная проба; успешная проба выживает, дает потомство; неудачная проба устраняется как ошибка.
Итогом и концентрированным выражением фальсификационизма является схема развития научного знания, принимаемая Поппером. Как мы уже отмечали, фальсификационизм был порожден глубоким философским убеждением Поппера в том, что у нас нет никакого критерия истины и мы способны обнаружить и выделить лишь ложь. Из этого убеждения естественно следует: понимание научного знания как набора догадок о мире — догадок, истинность которых установить нельзя, но можно обнаружить их ложность; критерий демаркации: лишь то знание научно, которое фальсифицируемо; метод науки: пробы и ошибки.
Научные теории рассматриваются Поппером как необоснованные догадки, которые мы стремимся проверить, с тем чтобы обнаружить их ошибочность. Фальсифицированная теория отбрасывается как негодная проба, не оставляющая после себя следов. Сменяющая ее теория не имеет с ней никакой связи, напротив, новая теория должна максимально отличаться от старой теории. Развития в науке нет, признается только изменение: сегодня вы вышли из дома в пальто, но на улице жарко; завтра вы выходите в рубашке, но льет дождь; послезавтра вы вооружаетесь зонтиком, однако на небе — ни облачка, и вы никак не можете привести свою одежду в соответствие с погодой. Даже если однажды вам это удастся, все равно, утверждает Поппер, вы этого не поймете и останетесь недовольны. Вот упрощенный очерк фальсификационистской методологии Поппера.
Даже если однажды вам это удастся, все равно, утверждает Поппер, вы этого не поймете и останетесь недовольны. Вот упрощенный очерк фальсификационистской методологии Поппера.
Поппер внес большой вклад в философию науки. Прежде всего он намного раздвинул ее границы. Логические позитивисты сводили методологию к анализу структуры знания и его эмпирическому оправданию. Поппер основной проблемой философии науки сделал проблему изменения знания — анализ выдвижения, формирования, проверки и смены научных теорий. Переход от анализа структуры к анализу изменения знания существенно обогатил проблематику философии науки. Еще более важно то, что методологический анализ изменения знания потребовал обращения к реальным примерам истории науки. Сам Поппер, особенно в начальный период своего творчества, еще в значительной мере ориентируется на логику, но его ученики и последователи уже широко используют историю науки в своих методологических исследованиях. Обращение к реальной истории быстро показало существенные недостатки методологии Поппера, однако развитие философии науки после крушения логического позитивизма в значительной степени было связано с критикой и разработкой идей Поппера.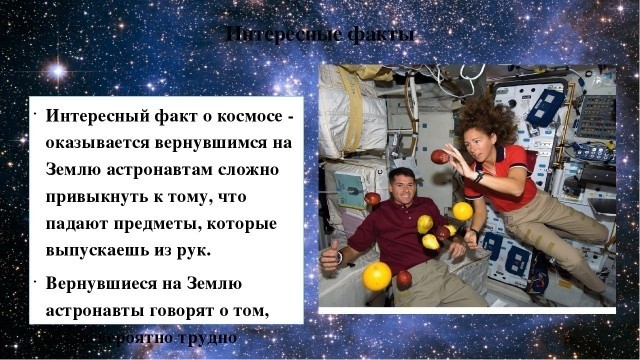
4. Концепция научных революций (Т. Кун)
Обращение Поппера к проблемам изменения знания подготовило почву для поворота философии науки к истории научных идей и концепций. Однако построения самого Поппера все еще носили умозрительный характер и их источником оставались логика и некоторые теории математического естествознания. Первой методологической концепцией, получившей широкую известность и опиравшейся на изучение истории науки, была концепция американского историка и философа науки Томаса Куна (1922-1996). Он готовил себя для работы в области теоретической физики, однако еще в аспирантуре с удивлением обнаружил, что те представления о науке и ее развитии, которые господствовали в конце 40-х годов в Западной Европе и США, очень сильно расходятся с реальным историческим материалом. Это открытие подстегнуло его к более глубокому изучению истории науки. Рассматривая, как фактически происходило установление новых фактов, выдвижение и признание новых научных теорий, Кун постепенно пришел к собственному оригинальному представлению о науке. Это представление он выразил в принесшей ему большую известность книге «Структура научных революций» (1962).
Это представление он выразил в принесшей ему большую известность книге «Структура научных революций» (1962).
Важнейшим понятием концепции Куна является понятие парадигмы. Его содержание так и осталось не до конца понятным, однако при первом приближении можно сказать, что парадигма есть совокупность научных положений, которые в определенный период времени признаются всем научным сообществом. Парадигмой можно назвать одну или несколько фундаментальных теорий, получивших всеобщее признание и в течение некоторого времени направляющих научное исследование. Примерами подобных парадигмальных теорий являются физика Аристотеля, геоцентрическая система мира Клавдия Птолемея, механика и оптика И. Ньютона, кислородная теория А. Лавуазье, электродинамика Дж. Максвелла, теория относительности А. Эйнштейна, теория строения атома Н. Бора и т.д. Таким образом, парадигма воплощает в себе бесспорное, общепризнанное на данный момент времени научное знание об исследуемой области явлений природы.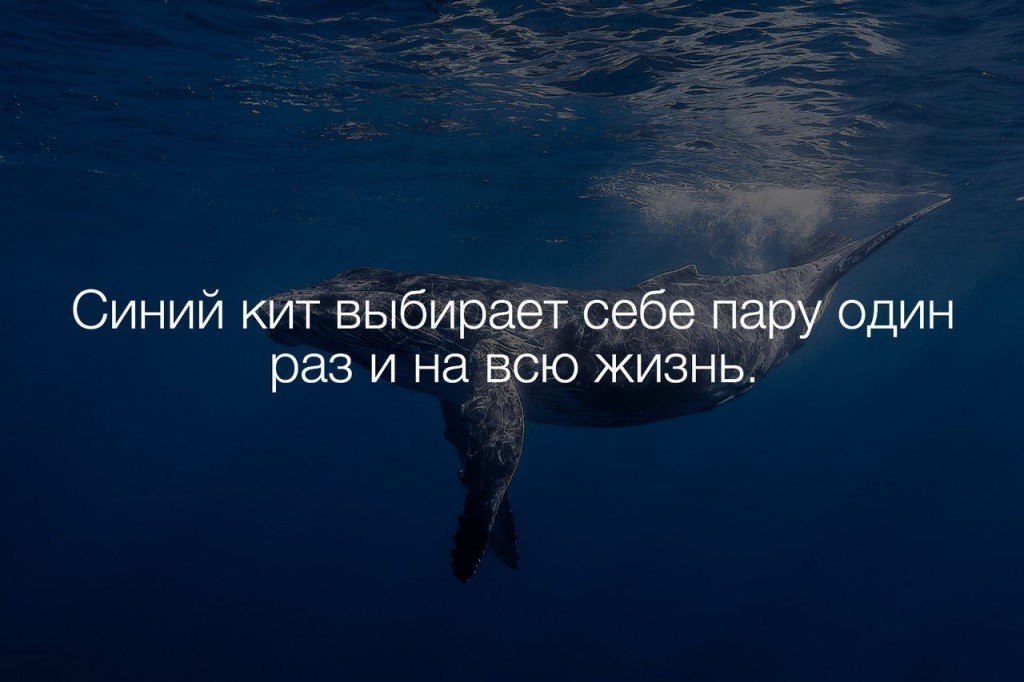
Однако, говоря о парадигме, Кун имеет в виду не одно лишь знание, выраженное в законах и принципах. Ученые, создавая ту или иную парадигму, не только формулируют некоторую теорию или закон, но и предлагают решение одной или нескольких важных научных проблем и тем самым дают образцы того, как следует решать проблемы. Оригинальные решения создателей парадигмы в очищенном от случайностей и усовершенствованном виде в дальнейшем входят в учебники, по которым будущие ученые усваивают свою науку. Усваивая в процессе обучения эти классические образцы решения научных проблем, будущий ученый глубже постигает основоположения своей науки, обучается применять их в конкретных ситуациях и овладевает специальной техникой изучения тех природных явлений, которые образуют предмет данной научной дисциплины. Итак, парадигма (по-гречески paradeigma — образец, пример для подражания) предлагает для научного исследования набор образцов решения проблем, в чем и заключается ее важнейшая функция. Наконец, задавая определенное видение мира, парадигма очерчивает круг имеющих смысл и подлежащих решению проблем, и все, что не попадает в данный круг, с точки зрения сторонников парадигмы, рассмотрения не заслуживает.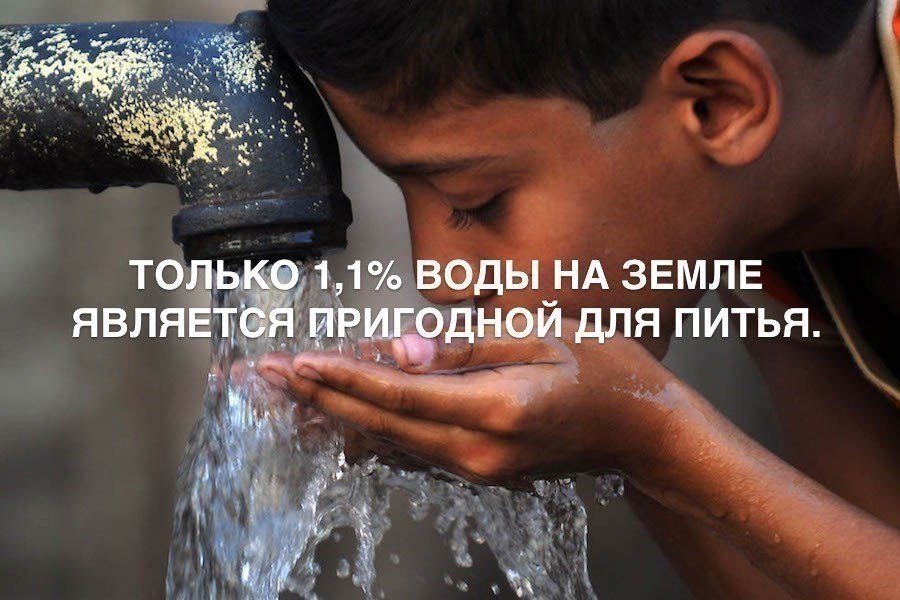 Поэтому она определяет, какие в принципе факты могут быть получены в результате эмпирического исследования — не конкретные результаты, но тип фактов.
Поэтому она определяет, какие в принципе факты могут быть получены в результате эмпирического исследования — не конкретные результаты, но тип фактов.
С понятием парадигмы очень тесно связано понятие научного сообщества. Более того, в некотором смысле эти понятия синонимичны. В самом деле, что такое парадигма? Она представляет собой некоторый взгляд на мир, принимаемый научным сообществом. А что такое научное сообщество? Оно представляет собой группу людей, объединенных верой в одну парадигму.
Науку, развивающуюся в рамках общепризнанной парадигмы, Кун называет нормальной, полагая, что именно такое состояние является для нее обычным и наиболее характерным. В отличие от Поппера, считавшего, что ученые постоянно думают, как бы опровергнуть существующие и признанные теории, и с этой целью стремятся к постановке опровергающих экспериментов, Кун убежден, что в реальной научной практике ученые почти никогда не сомневаются в истинности основоположений своих теорий и даже не ставят на повестку дня вопроса об их проверке. «Ученые в русле нормальной науки не ставят себе цели создания новых теорий, обычно к тому же они нетерпимы и к созданию таких теорий другими. Напротив, исследование в нормальной науке направлено на разработку тех явлений и теорий, существование которых парадигма заведомо предполагает» [Кун Т. Структура научных революций. М., 1979. С. 45-46.].
«Ученые в русле нормальной науки не ставят себе цели создания новых теорий, обычно к тому же они нетерпимы и к созданию таких теорий другими. Напротив, исследование в нормальной науке направлено на разработку тех явлений и теорий, существование которых парадигма заведомо предполагает» [Кун Т. Структура научных революций. М., 1979. С. 45-46.].
Чтобы подчеркнуть особый характер проблем, разрабатываемых учеными в нормальный период развития науки, Кун называет их «головоломками», сравнивая процесс их решения с разгадыванием кроссвордов или с составлением картинок из раскрашенных кубиков. Кроссворд или головоломка характеризуются тем, что для них существует гарантированное решение, которое может быть получено некоторым предписанным путем. Пытаясь сложить картинку из кубиков, вы знаете, что такая картинка существует. При этом вы не имеете права изобретать собственную картинку или же складывать кубики как вам захочется, хотя бы в результате и получались более интересные, с вашей точки зрения, изображения.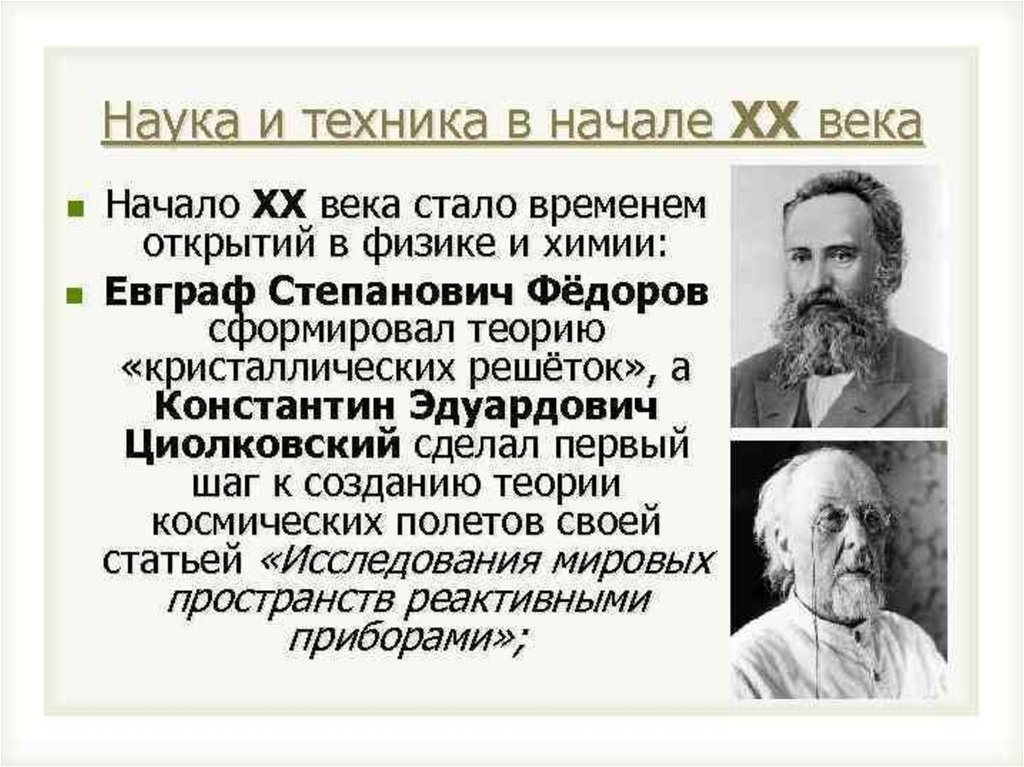 Вам необходимо сложить кубики вполне определенным образом и в результате получить предписанное изображение. Точно такой же характер носят проблемы нормальной науки. Парадигма гарантирует, что их решение существует, и она же задает допустимые методы и средства отыскания этих решений.
Вам необходимо сложить кубики вполне определенным образом и в результате получить предписанное изображение. Точно такой же характер носят проблемы нормальной науки. Парадигма гарантирует, что их решение существует, и она же задает допустимые методы и средства отыскания этих решений.
До тех пор, пока решение головоломок протекает успешно, парадигма выступает как надежный инструмент познания: увеличивается количество установленных фактов, повышается точность измерений, открываются новые законы, короче говоря, происходит процесс накопления знания. Однако вполне может случиться так — и случается, — что некоторые задачи-головоломки, несмотря на все усилия ученых, так и не поддаются решению; например, предсказания теории постоянно расходятся с экспериментальными данными. Сначала на это не обращают внимания, поскольку лишь в воображении Поппера стоит только ученому зафиксировать расхождение теории с фактом, как он сразу же подвергает сомнению теорию. В действительности же ученые всегда надеются на то, что со временем противоречие будет устранено и головоломка разрешится.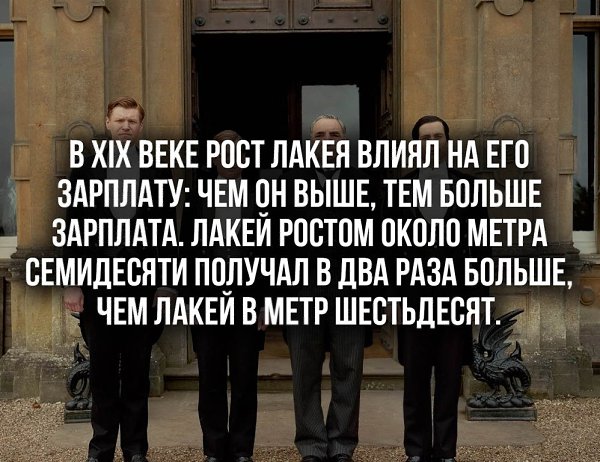 Но однажды ими может быть осознано, что данная проблема неразрешима средствами существующей парадигмы, и дело здесь не в каких-то индивидуальных способностях того или иного ученого, не в повышении точности приборов, а в принципиальной неспособности самой парадигмы ее решить. Такую проблему Кун называет аномалией.
Но однажды ими может быть осознано, что данная проблема неразрешима средствами существующей парадигмы, и дело здесь не в каких-то индивидуальных способностях того или иного ученого, не в повышении точности приборов, а в принципиальной неспособности самой парадигмы ее решить. Такую проблему Кун называет аномалией.
До тех пор, пока аномалий немного, ученые не слишком о них беспокоятся. Однако разработка данной парадигмы со временем приводит к росту числа аномалий. Совершенствование приборов, повышение точности наблюдений и измерений, строгость понятийных средств — все это ведет к тому, что расхождения между предсказаниями парадигмы и фактами, которые ранее не могли быть замечены и осознаны, теперь фиксируются и осознаются как проблемы, требующие решения. Попытки справиться с этими проблемами за счет введения в парадигму новых теоретических предположений нарушают ее стройность и связность, делают ее расплывчатой и рыхлой.
Доверие к парадигме падает. Ее неспособность справиться с возникающими проблемами свидетельствует о том, что она уже не может служить инструментом успешного решения головоломок.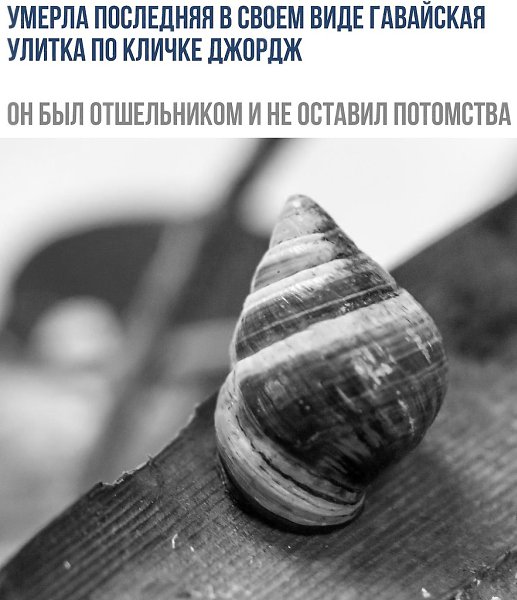 Наступает состояние, которое Кун именует кризисом. Ученые оказываются перед лицом множества нерешенных проблем, необъясненных фактов и экспериментальных данных. У многих из них господствовавшая недавно парадигма уже не вызывает доверия, и они начинают искать новые теоретические средства, которые, возможно, окажутся более успешными. Уходит то, что ранее объединяло ученых, — парадигма. Научное сообщество распадается на несколько групп, одни из которых продолжают верить в парадигму, другие — выдвигают гипотезы, претендующие на роль новой парадигмы. Нормальное исследование замирает. Наука, по сути дела, перестает функционировать. Только в период кризиса, полагает Кун, ученые ставят эксперименты, направленные на проверку и отсев конкурирующих теорий.
Наступает состояние, которое Кун именует кризисом. Ученые оказываются перед лицом множества нерешенных проблем, необъясненных фактов и экспериментальных данных. У многих из них господствовавшая недавно парадигма уже не вызывает доверия, и они начинают искать новые теоретические средства, которые, возможно, окажутся более успешными. Уходит то, что ранее объединяло ученых, — парадигма. Научное сообщество распадается на несколько групп, одни из которых продолжают верить в парадигму, другие — выдвигают гипотезы, претендующие на роль новой парадигмы. Нормальное исследование замирает. Наука, по сути дела, перестает функционировать. Только в период кризиса, полагает Кун, ученые ставят эксперименты, направленные на проверку и отсев конкурирующих теорий.
Период кризиса заканчивается, когда одна из предложенных гипотез доказывает свою способность справиться с существующими проблемами, объяснить непонятные факты и благодаря этому привлекает на свою сторону большую часть ученых. Она приобретает статус новой парадигмы.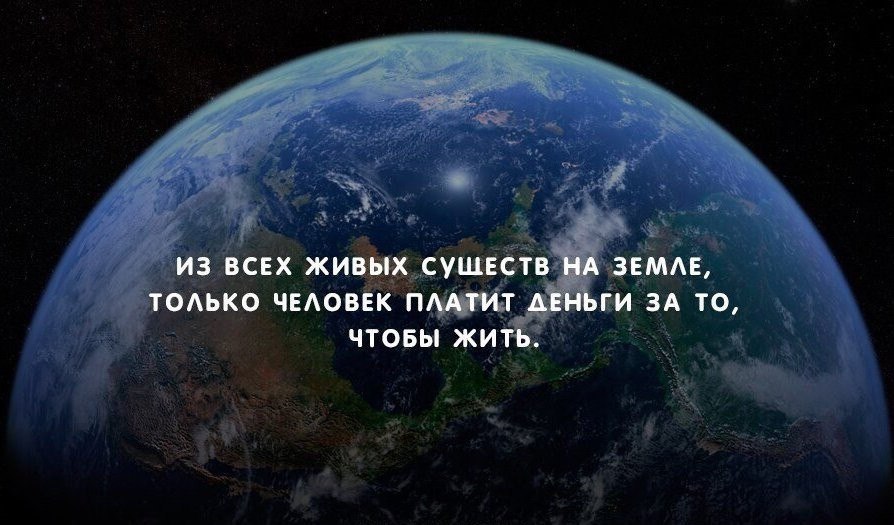 Научное сообщество восстанавливает свое единство. Такую смену парадигм Кун и называет научной революцией.
Научное сообщество восстанавливает свое единство. Такую смену парадигм Кун и называет научной революцией.
Итак, модель развития науки у Куна выглядит следующим образом: нормальная наука, развивающаяся в рамках общепризнанной парадигмы; рост числа аномалий, приводящий в конечном итоге к кризису; научная революция, означающая смену парадигмы.
Накопление знаний, совершенствование методов и инструментов, расширение сферы практических приложений, то есть все то, что можно назвать прогрессом, совершается только в период нормальной науки. Научная революция приводит к отбрасыванию того, что было получено на предыдущем этапе, и работа науки начинается как бы заново, на пустом месте. Таким образом, в целом развитие науки носит прерывистый характер: периоды прогресса и накопления знания разделены революционными провалами, разрывами ткани науки.
Следует признать, что Кун предложил весьма смелую и побуждающую к размышлениям концепцию. Конечно, трудно отказаться от мысли, что наука прогрессирует в своем историческом развитии, что знания ученых и человечества об окружающем мире растут и углубляются, однако после работ Куна уже нельзя не замечать тех проблем, с которыми связана идея научного прогресса. Уже нельзя простодушно считать, что одно поколение ученых передает свои достижения следующему поколению, которое их приумножает. Теперь мы обязаны ответить на такие вопросы: как осуществляется преемственность между старой и новой парадигмой? Что и в каких формах передает старая парадигма новой? Как осуществляется общение между сторонниками разных парадигм? Как возможно сравнение парадигм? Заслуга концепции Куна состоит в том, что она стимулировала интерес к этим проблемам и содействовала выработке более глубокого понимания процессов развития науки.
Уже нельзя простодушно считать, что одно поколение ученых передает свои достижения следующему поколению, которое их приумножает. Теперь мы обязаны ответить на такие вопросы: как осуществляется преемственность между старой и новой парадигмой? Что и в каких формах передает старая парадигма новой? Как осуществляется общение между сторонниками разных парадигм? Как возможно сравнение парадигм? Заслуга концепции Куна состоит в том, что она стимулировала интерес к этим проблемам и содействовала выработке более глубокого понимания процессов развития науки.
Под влиянием работ Поппера и Куна философы науки чаще стали обращаться к истории научных идей, стремясь обрести там твердую почву для своих методологических построений. Казалось, что история может послужить более прочным основанием для методологических концепций, нежели теория познания, эпистемология, психология или логика. Но надежды не оправдались: поток истории размыл методологические схемы, правила, стандарты, сделал относительными все принципы философии науки.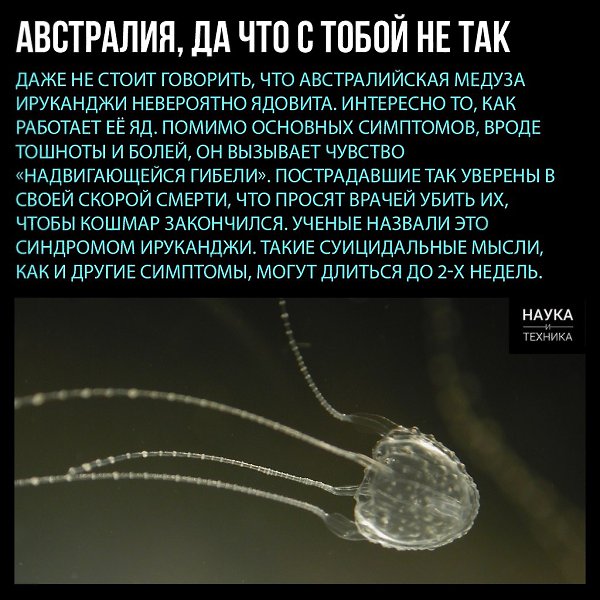 В конечном итоге была подорвана надежда на то, что философия науки способна адекватно описать структуру и развитие научного знания, иначе говоря, выполнить ту задачу, которая перед ней была поставлена.
В конечном итоге была подорвана надежда на то, что философия науки способна адекватно описать структуру и развитие научного знания, иначе говоря, выполнить ту задачу, которая перед ней была поставлена.
5. Методология научно-исследовательских программ (И. Лакатос)
Как уже отмечалось, философия науки К. Р. Поппера, поставившая в центр внимания проблематику развития научного знания, должна была соотнести свои выводы с реальной практикой научного исследования в ее историческом развитии. Вскоре обнаружилось, что предложенная им методологическая концепция, требующая немедленного отбрасывания теорий, если эти теории сталкиваются с опытными опровержениями, не соответствует тому, что происходит и происходило в науке. Это и привело ученика и критика Поппе-ра Имре Лакатоса (1922-1974) к разработке «утонченного фальсификационизма» или, как чаще называют его концепцию, методологии научно-исследовательских программ.
В основе этой методологии лежит представление о развитии науки как истории возникновения, функционирования и чередования научно-исследовательских программ, представляющих собой связанную последовательность научных теорий. Эта последовательность, как правило, выстраивается вокруг некоторой фундаментальной теории, основные идеи, методы и предпосылки которой «усваиваются» интеллектуальной элитой, работающей в данной области научного знания. Такую теорию Лакатос называет «жестким ядром» научно-исследовательской программы.
Эта последовательность, как правило, выстраивается вокруг некоторой фундаментальной теории, основные идеи, методы и предпосылки которой «усваиваются» интеллектуальной элитой, работающей в данной области научного знания. Такую теорию Лакатос называет «жестким ядром» научно-исследовательской программы.
Жестким это «ядро» называется потому, что исследователям как бы запрещено что-либо менять в исходной теории, даже если они находят факты, вступающие с ней в противоречие. В этом случае они изобретают «вспомогательные гипотезы», которые примиряют теорию с фактами. Подобные гипотезы образуют «защитный пояс» вокруг фундаментальной теории, они принимают на себя удары опытных проверок и в зависимости от силы и количества этих ударов могут изменяться, уточняться или даже полностью заменяться другими гипотезами. Главная задача при этом обеспечить «прогрессивное движение» научного знания, движение ко все более широким и полным описаниям и объяснениям реальности. До тех пор, пока «жесткое ядро» научно-исследовательской программы выполняет эту задачу (и выполняет лучше, чем другие — альтернативные — системы идей и методов), оно представляет в глазах ученых огромную ценность.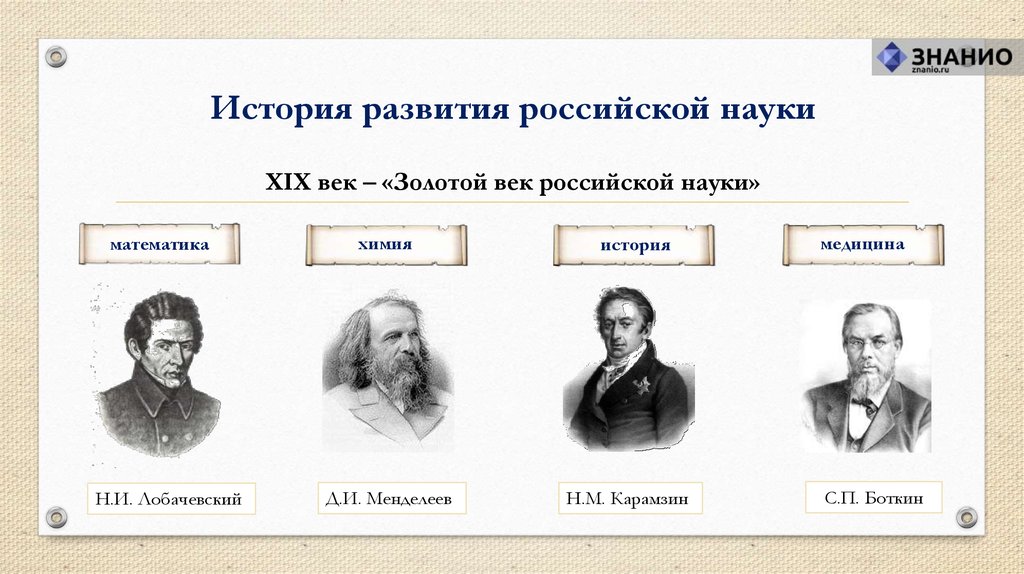 Поэтому они пользуются еще и так называемой «положительной эвристикой», то есть совокупностью предположений о том, как следует изменить или уточнить ту или иную гипотезу из «защитного пояса», какие новые «модели» (то есть условия применимости теории) нужны для того, чтобы программа могла работать в более широкой области наблюдаемых фактов. Одним словом, «положительная эвристика» — это совокупность приемов, с помощью которых можно и нужно изменять «опровержимую» часть программы, чтобы сохранить в неприкосновенности «неопровержимую» ее часть.
Поэтому они пользуются еще и так называемой «положительной эвристикой», то есть совокупностью предположений о том, как следует изменить или уточнить ту или иную гипотезу из «защитного пояса», какие новые «модели» (то есть условия применимости теории) нужны для того, чтобы программа могла работать в более широкой области наблюдаемых фактов. Одним словом, «положительная эвристика» — это совокупность приемов, с помощью которых можно и нужно изменять «опровержимую» часть программы, чтобы сохранить в неприкосновенности «неопровержимую» ее часть.
Если программа обладает хорошо развитой «положительной эвристикой», то ее развитие зависит не столько от обнаружения опровергающих фактов, сколько от внутренней логики самой программы. Например, научно-исследовательская программа И. Ньютона развивалась от простых моделей планетарной системы (система с фиксированным точечным центром — Солнцем — и единственной точечной планетой, система, состоящая из большего числа планет, но без учета межпланетных сил притяжения и др. ) к более сложным (система, в которой Солнце и планеты рассматривались не как точечные массы, а как массивные и вращающиеся сферы, с учетом межпланетных сил и пр.). И это развитие происходило не как реакция на «контрпримеры», а как решение внутренних (формулируемых строго математически) проблем, например устранение конфликтов с третьим законом динамики или с запрещением бесконечных значений плотности тяготеющих масс.
) к более сложным (система, в которой Солнце и планеты рассматривались не как точечные массы, а как массивные и вращающиеся сферы, с учетом межпланетных сил и пр.). И это развитие происходило не как реакция на «контрпримеры», а как решение внутренних (формулируемых строго математически) проблем, например устранение конфликтов с третьим законом динамики или с запрещением бесконечных значений плотности тяготеющих масс.
Маневрируя эвристиками («отрицательной» и «положительной»), исследователи реализуют творческий потенциал программы: то защищают ее плодотворное «жесткое ядро» от разрушительных эффектов различных эмпирических опровержений с помощью «защитного пояса» вспомогательных теорий и гипотез, то стремительно идут вперед, оставляя неразрешенные эмпирические проблемы, зато объясняя все более широкие области явлений, по пути исправляя ошибки и недочеты экспериментаторов, поспешно объявляющих о найденных «контрпримерах». До тех пор, пока это удается, научно-исследовательская программа находится в прогрессирующей стадии.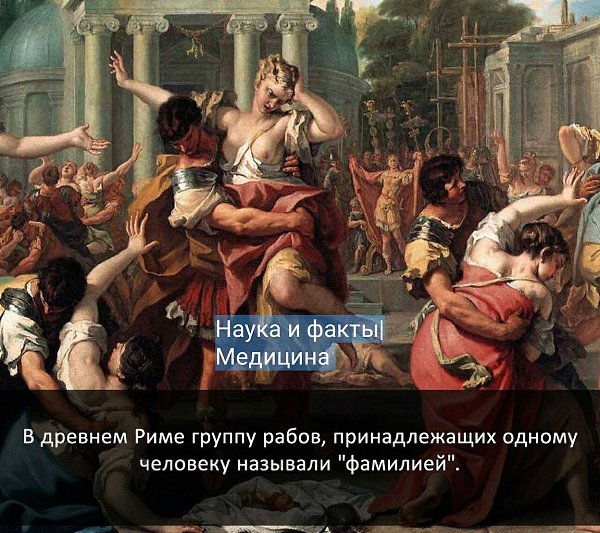 Однако программа все-таки не «бессмертна». Рано или поздно наступает момент, когда ее творческий потенциал оказывается исчерпанным: развитие программы резко замедляется, количество и ценность новых моделей, создаваемых с помощью «положительной эвристики», падают, «аномалии» громоздятся одна на другую, нарастает число ситуаций, когда ученые тратят больше сил на то, чтобы сохранить в неприкосновенности «жесткое ядро» своей программы, нежели на выполнение той задачи, ради которой эта программа существует. Научно-исследовательская программа вступает в стадию своего «вырождения». Однако и тогда ученые не спешат расстаться с ней. Лишь после того, как возникает и завоевывает умы новая научно-исследовательская программа, которая не только позволяет решить задачи, оказавшиеся не под силу «выродившейся» программе, но и открывает новые горизонты исследования, раскрывает более широкий творческий потенциал, она вытесняет старую программу.
Однако программа все-таки не «бессмертна». Рано или поздно наступает момент, когда ее творческий потенциал оказывается исчерпанным: развитие программы резко замедляется, количество и ценность новых моделей, создаваемых с помощью «положительной эвристики», падают, «аномалии» громоздятся одна на другую, нарастает число ситуаций, когда ученые тратят больше сил на то, чтобы сохранить в неприкосновенности «жесткое ядро» своей программы, нежели на выполнение той задачи, ради которой эта программа существует. Научно-исследовательская программа вступает в стадию своего «вырождения». Однако и тогда ученые не спешат расстаться с ней. Лишь после того, как возникает и завоевывает умы новая научно-исследовательская программа, которая не только позволяет решить задачи, оказавшиеся не под силу «выродившейся» программе, но и открывает новые горизонты исследования, раскрывает более широкий творческий потенциал, она вытесняет старую программу.
В функционировании, росте и смене научно-исследовательских программ, считал Лакатос, проявляет себя рациональность науки. Его концепция научной рациональности выражается достаточно простым критерием: рационально действует тот исследователь, который выбирает оптимальную стратегию для роста эмпирического знания; всякая иная ориентация нерациональна или иррациональна.
Его концепция научной рациональности выражается достаточно простым критерием: рационально действует тот исследователь, который выбирает оптимальную стратегию для роста эмпирического знания; всякая иная ориентация нерациональна или иррациональна.
Как уже было сказано, методологическая концепция Лакатоса по своему замыслу должна была максимально приблизить теоретические представления о научной рациональности к реальной истории науки. Сам Лакатос часто повторял, что «философия науки без истории науки пуста, история науки без философии науки слепа». Обращаясь к истории науки, методология науки обязана включить в модель научной рациональности такие факторы, как соперничество научных теорий, проблему выбора теорий и методов, проблему исторического признания или отвержения научных теорий. При этом всякая попытка «рациональной реконструкции» истории науки сталкивается с принципиальными трудностями.
Когда критерии научной рациональности «накладываются» на процессы, происходящие в реальной научной истории, неизбежно происходит обоюдная критика: с одной стороны, схема «рациональной реконструкции» истории неизбежно оказывается слишком тесной, узкой, неполной, оставляющей за своими рамками множество фактов, событий, мотивов и т. д., имевших несомненное и важное значение для развития научной мысли; с другой стороны, история науки, рассмотренная сквозь призму этой схемы, выглядит нерациональной именно в тех своих моментах, которые как раз и обладают этим значением.
д., имевших несомненное и важное значение для развития научной мысли; с другой стороны, история науки, рассмотренная сквозь призму этой схемы, выглядит нерациональной именно в тех своих моментах, которые как раз и обладают этим значением.
Рассмотрим следующую ситуацию. Согласно критерию рациональности, выводимому из методологии Лакатоса, прогрессивное развитие научно-исследовательской программы обеспечивается приращением эмпирического содержания новой теории по сравнению с ее предшественницами. Это означает, что новая теория должна обладать большей способностью предсказывать ранее неизвестные факты в сочетании с эмпирическим подтверждением этих новых фактов. Если же новая теория справляется с этими задачами не лучше, а порой даже хуже старой, то ее введение не является прогрессивным изменением в науке и не отвечает критерию рациональности. Но в науке очень часто происходят именно такие изменения, причем нет сомнения, что только благодаря им и могли произойти серьезнейшие, даже революционные прорывы к новому знанию.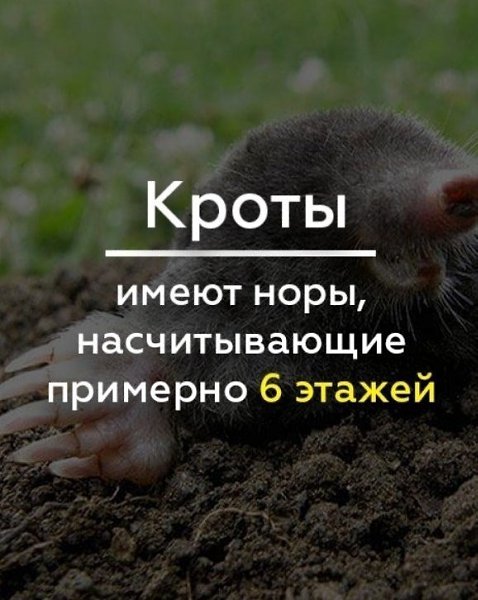
Например, теория Коперника, значение которой для науки никто не может оспорить, решала многие эмпирические проблемы современной ей астрономии не лучше, а хуже теории Птолемея. Астрономическая концепция Кеплера действительно позволяла объяснить некоторые важные факты и решить проблемы, возникшие в Коперниковой картине Солнечной системы, однако и она значительно уступала в точности, а главное, в последовательности объяснений птолемеевской теории. Кроме того, объяснение многих явлений в теории Кеплера было связано не с научно-эмпирическими, а с метафизическими и теологическими предпосылками (иначе говоря, «жесткое ядро» кеплеровской научно-исследовательской программы было чрезвычайно «засорено» ненаучными положениями). Подобными примерами наполнена история не только ранних стадий развития научного исследования, но и вполне современной нам науки.
Однако если признать, что история науки, какими бы причудливыми путями она ни развивалась, всегда должна рассматриваться как история научной рациональности, само понятие научной рациональности как бы теряет свои точные очертания и становится чем-то текучим, а по большему счету и ненужным.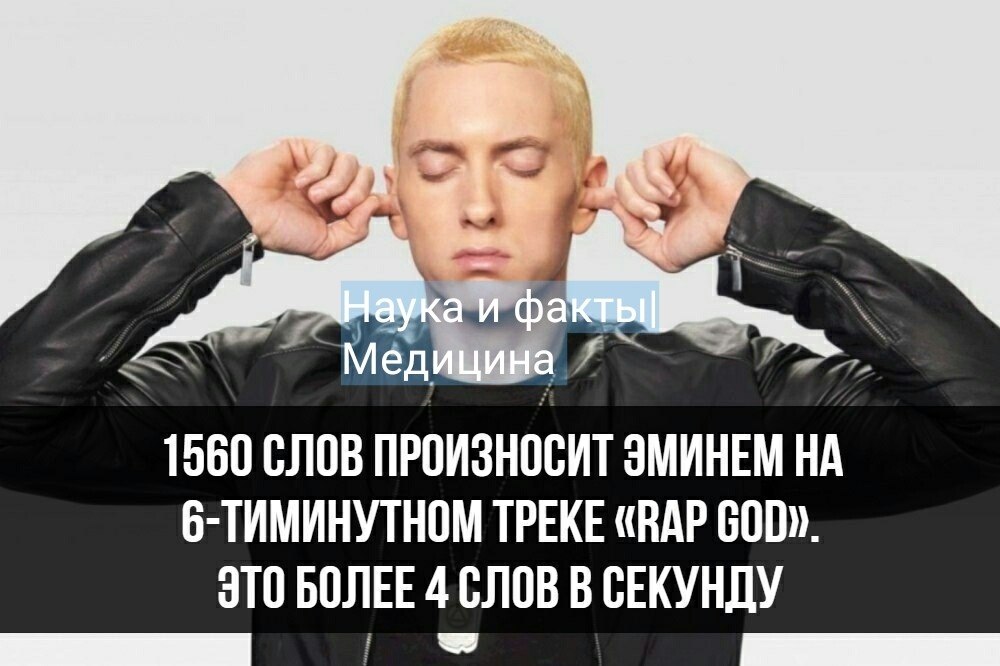 Лакатос, будучи убежденным рационалистом, понимал эту опасность и стремился оградить теорию научной рациональности от чрезмерного воздействия на нее исторического подхода. Он предлагал различать «внутреннюю» и «внешнюю» историю науки: первая должна укладываться в схемы «рациональной реконструкции» и выглядеть в конечном итоге вполне рациональной, а вторая должна быть вынесена на поля учебников по истории науки, где и будет сказано, как реальная наука «проказничала» в своей истории, что должно, однако, волновать не методологов, а историков культуры. Методолог же должен относиться к истории науки не как к безграничному резервуару различных форм и типов рациональности, а подобно укротителю, заставляющему прекрасное дикое животное исполнять его команды.
Лакатос, будучи убежденным рационалистом, понимал эту опасность и стремился оградить теорию научной рациональности от чрезмерного воздействия на нее исторического подхода. Он предлагал различать «внутреннюю» и «внешнюю» историю науки: первая должна укладываться в схемы «рациональной реконструкции» и выглядеть в конечном итоге вполне рациональной, а вторая должна быть вынесена на поля учебников по истории науки, где и будет сказано, как реальная наука «проказничала» в своей истории, что должно, однако, волновать не методологов, а историков культуры. Методолог же должен относиться к истории науки не как к безграничному резервуару различных форм и типов рациональности, а подобно укротителю, заставляющему прекрасное дикое животное исполнять его команды.
Таким образом, методология научно-исследовательских программ стала попыткой соединить исторический подход к науке с сохранением рационалистической установки. Была ли достигнута эта цель? «Рациональные реконструкции» Лакатоса неплохо описывали некоторые периоды развития теоретического знания.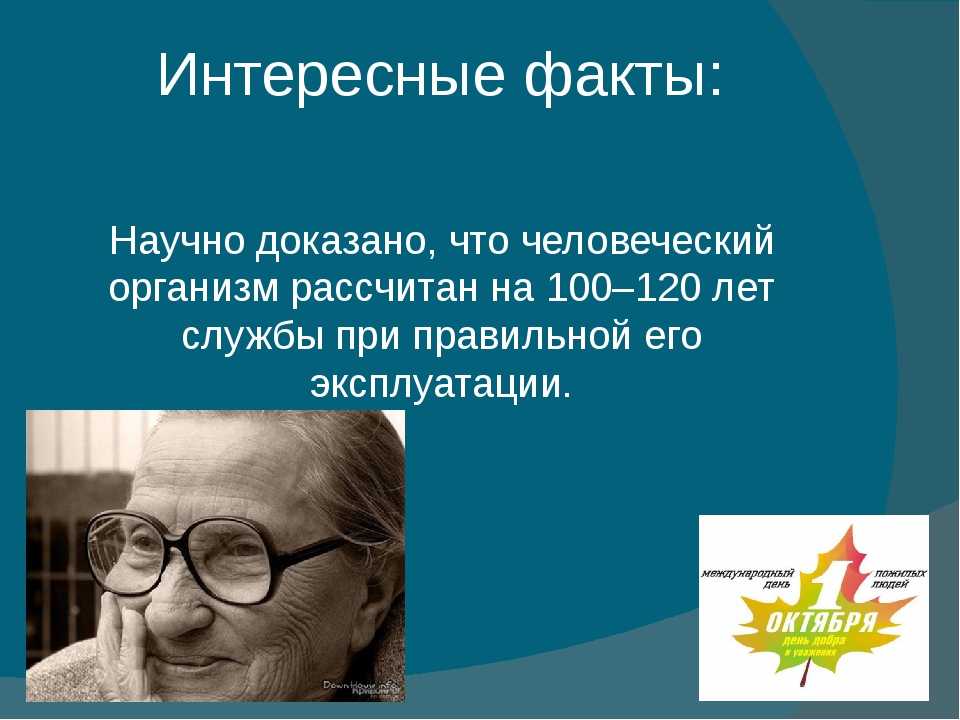 Но, как показали многочисленные исследования историков науки, в их схемы все же не укладывались многие важные исторические события в науке. Означало ли это, что методология научно-исследовательских программ не выдержала испытание историей науки и должна быть отброшена?
Но, как показали многочисленные исследования историков науки, в их схемы все же не укладывались многие важные исторические события в науке. Означало ли это, что методология научно-исследовательских программ не выдержала испытание историей науки и должна быть отброшена?
Такой вывод был бы совершенно неверен. Методологическая концепция Лакатоса обладает ценностью не только как остроумный и плодотворный инструмент исторического анализа (другое дело, что не всякую задачу можно решить с помощью только этого инструмента!). Пожалуй, еще важнее, что трудности, возникшие при анализе этой концепции, оказали стимулирующее воздействие на современное понимание научной рациональности. Философия науки после работ Лакатоса оказалась перед выбором: либо отказаться от тщетных попыток примирить «нормативную рациональность» с реальной историей науки и признать неустранимую «историческую относительность» любых рациональных оценок научного знания, либо перейти к более гибкому пониманию научной рациональности.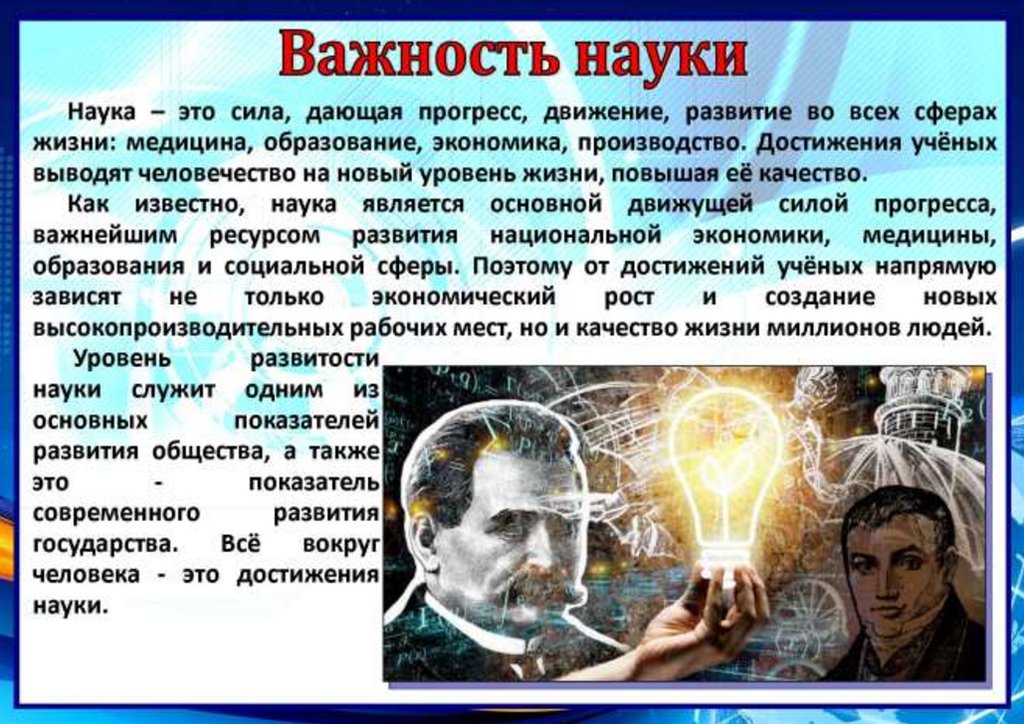 Можно сказать, что поиски этого второго пути составляют наиболее актуальную и интересную исследовательскую задачу современной философии науки.
Можно сказать, что поиски этого второго пути составляют наиболее актуальную и интересную исследовательскую задачу современной философии науки.
6. Эпистемологический анархизм (П. Фейерабенд)
Можно усмотреть некую иронию судьбы в том, что американский философ науки Пол (Пауль) Фейерабенд (1924-1994) родился в Вене, неподалеку от того места, где собирался Венский кружок. Ведь именно ему было суждено завершить развитие логико-аналитического направления в философии науки, которое тогда еще только зарождалось в стенах Венского университета.
Фейерабенд назвал свою концепцию эпистемологическим анархизмом. Что же она собой представляет?
С точки зрения методологии анархизм является следствием двух принципов: принципа пролиферации (от латинского proles — потомство, fero — несу; буквально: разрастание ткани организма путем разложения клеток) и принципа несоизмеримости. Согласно первому из них, требуется изобретать (размножать) и разрабатывать теории и концепции, не совместимые с существующими и признанными теориями.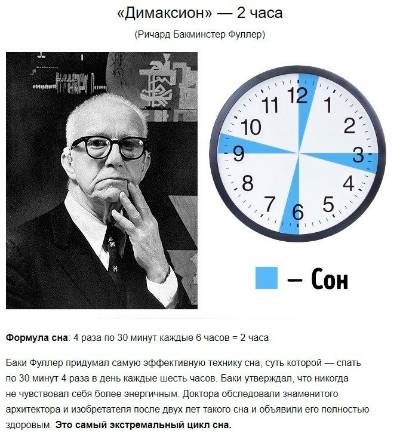 Это означает, что каждый ученый — вообще говоря, каждый человек — может (и должен) изобретать свою собственную концепцию и разрабатывать ее, сколь бы абсурдной и дикой она ни казалась окружающим. Принцип несоизмеримости, гласящий, что теории невозможно сравнивать друг с другом, защищает любую концепцию от внешней критики со стороны других концепций. Так, если кто-то изобрел совершенно фантастическую концепцию и не желает с ней расставаться, то с этим нельзя ничего сделать: нет фактов, которые можно было бы ей противопоставить, так как она формирует свои собственные факты; не действуют указания на несовместимость этой фантазии с фундаментальными законами естествознания или с современными научными теориями, так как автору этой фантазии данные законы и теории могут казаться просто бессмысленными; невозможно упрекнуть его даже в нарушении законов логики, ибо он может пользоваться своей особой логикой.
Это означает, что каждый ученый — вообще говоря, каждый человек — может (и должен) изобретать свою собственную концепцию и разрабатывать ее, сколь бы абсурдной и дикой она ни казалась окружающим. Принцип несоизмеримости, гласящий, что теории невозможно сравнивать друг с другом, защищает любую концепцию от внешней критики со стороны других концепций. Так, если кто-то изобрел совершенно фантастическую концепцию и не желает с ней расставаться, то с этим нельзя ничего сделать: нет фактов, которые можно было бы ей противопоставить, так как она формирует свои собственные факты; не действуют указания на несовместимость этой фантазии с фундаментальными законами естествознания или с современными научными теориями, так как автору этой фантазии данные законы и теории могут казаться просто бессмысленными; невозможно упрекнуть его даже в нарушении законов логики, ибо он может пользоваться своей особой логикой.
Автор фантазии создает нечто похожее на парадигму Куна: это особый мир и все, что в него не входит, не имеет для автора никакого смысла.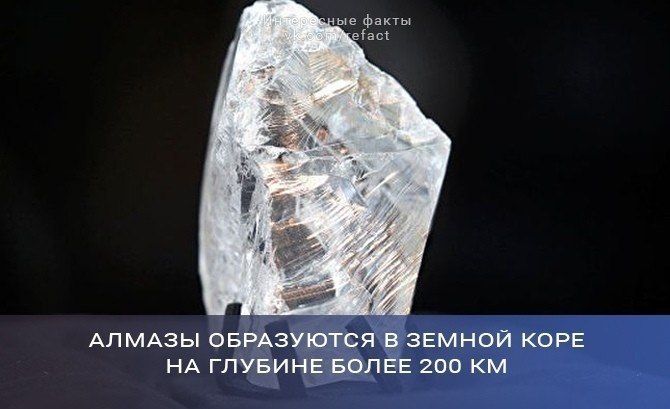 Таким образом, формируется методологическая основа анархизма: каждый волен изобретать свою собственную концепцию; ее невозможно сравнить с другими концепциями, ибо нет никакой основы для такого сравнения; следовательно, все допустимо и все оправданно.
Таким образом, формируется методологическая основа анархизма: каждый волен изобретать свою собственную концепцию; ее невозможно сравнить с другими концепциями, ибо нет никакой основы для такого сравнения; следовательно, все допустимо и все оправданно.
История науки подсказала Фейерабенду еще один аргумент в пользу анархизма: не существует ни одного методологического правила или нормы, которые не нарушались бы в то или иное время тем или иным ученым. Более того, история показывает, что ученые часто действовали и вынуждены были действовать в прямом противоречии с существующими методологическими правилами. Отсюда следует, что вместо существующих и признанных методологических правил мы можем принять прямо им противоположные. Но и первые, и вторые не будут универсальными. Поэтому философия науки вообще не должна стремиться к установлению каких-либо правил научного исследования.
Фейерабенд отделяет свой эпистемологический (теоретико-познавательный) анархизм от политического анархизма, хотя между ними имеется и определенная связь.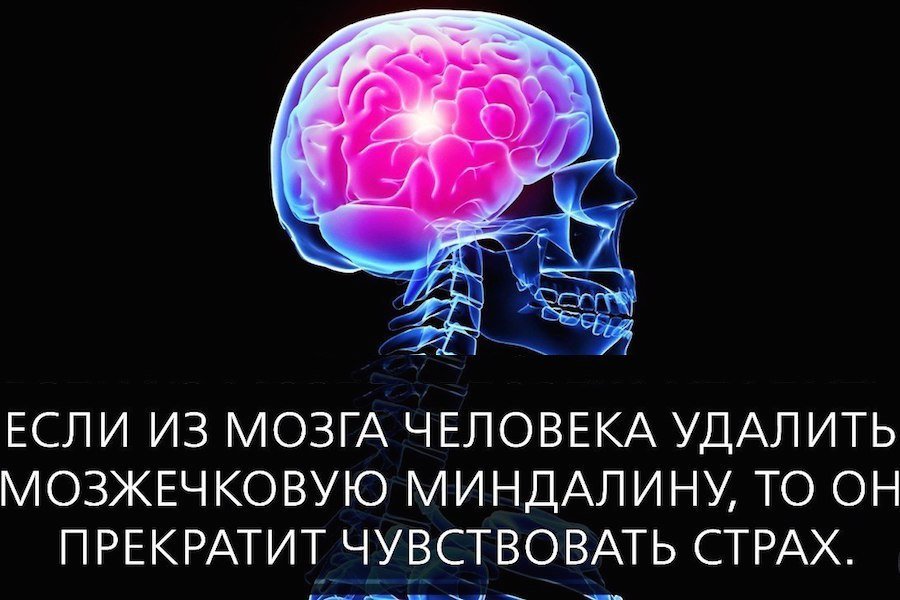 У политического анархиста есть политическая программа, он стремится устранить те или иные формы организации общества. Что же касается эпистемологического анархиста, то он иногда может защищать эти нормы, поскольку он не питает ни постоянной вражды, ни неизменной преданности ни к чему — ни к какой общественной организации и ни к какой форме идеологии. У него нет никакой жесткой программы, и он вообще против всяких программ. Свои цели он выбирает под влиянием какого-то рассуждения, настроения, скуки, из желания произвести на кого-нибудь впечатление и т.д. Для достижения избранной цели он действует в одиночку, однако может примкнуть и к какой-нибудь группе, если это покажется ему выгодным. При этом он использует разум и эмоции, иронию и деятельную серьезность — словом, все средства, которые может придумать человеческая изобретательность. «Нет концепции — сколь бы «абсурдной» или «аморальной» она ни казалась, — которую бы он отказался рассматривать или использовать, и нет метода, который бы он считал неприемлемым.
У политического анархиста есть политическая программа, он стремится устранить те или иные формы организации общества. Что же касается эпистемологического анархиста, то он иногда может защищать эти нормы, поскольку он не питает ни постоянной вражды, ни неизменной преданности ни к чему — ни к какой общественной организации и ни к какой форме идеологии. У него нет никакой жесткой программы, и он вообще против всяких программ. Свои цели он выбирает под влиянием какого-то рассуждения, настроения, скуки, из желания произвести на кого-нибудь впечатление и т.д. Для достижения избранной цели он действует в одиночку, однако может примкнуть и к какой-нибудь группе, если это покажется ему выгодным. При этом он использует разум и эмоции, иронию и деятельную серьезность — словом, все средства, которые может придумать человеческая изобретательность. «Нет концепции — сколь бы «абсурдной» или «аморальной» она ни казалась, — которую бы он отказался рассматривать или использовать, и нет метода, который бы он считал неприемлемым. Единственное, против чего он выступает открыто и безусловно, — это универсальные стандарты, универсальные законы, универсальные идеи, такие, как «Истина», «Разум», «Справедливость», «Любовь» и поведение, предписываемое ими…» [Фейерабенд П. Против методологического принуждения. Очерк анархистской теории познания // Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. М., 1986. С. 333.]
Единственное, против чего он выступает открыто и безусловно, — это универсальные стандарты, универсальные законы, универсальные идеи, такие, как «Истина», «Разум», «Справедливость», «Любовь» и поведение, предписываемое ими…» [Фейерабенд П. Против методологического принуждения. Очерк анархистской теории познания // Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. М., 1986. С. 333.]
Анализируя деятельность родоначальников современной науки, Фейерабенд приходит к выводу, что наука вовсе не рациональна, как считает большинство философов. Но тогда возникает вопрос: если в свете современных методологических требований наука оказывается существенно иррациональной и может развиваться, лишь постоянно нарушая законы логики и разума, то чем же тогда она отличается от мифа, от религии? В сущности, ничем, отвечает Фейерабенд.
Действительно, как отличают науку от мифа? К характерным особенностям мифа обычно относят то, что его основные идеи объявлены священными; всякая попытка посягнуть на них наталкивается на табу; факты и события, не согласующиеся с центральными идеями мифа, отбрасываются или приводятся с ними в соответствие посредством вспомогательных идей; никакие идеи, альтернативные по отношению к основным идеям мифа, не допускаются, и если все-таки они возникают, то безжалостно искореняются (порой вместе с носителями этих идей). Крайний догматизм, жесточайший монизм, фанатизм и нетерпимость к критике — вот отличительные черты мифа. В науке же, напротив, распространены терпимость и критицизм. В ней существует плюрализм идей и объяснений, постоянная готовность к дискуссиям, внимание к фактам и стремление к пересмотру и улучшению принятых теорий и принципов.
Крайний догматизм, жесточайший монизм, фанатизм и нетерпимость к критике — вот отличительные черты мифа. В науке же, напротив, распространены терпимость и критицизм. В ней существует плюрализм идей и объяснений, постоянная готовность к дискуссиям, внимание к фактам и стремление к пересмотру и улучшению принятых теорий и принципов.
Фейерабенд не согласен с таким изображением науки. Всем ученым известно, и Кун выразил это с большой силой и ясностью, что в реальной, а не выдуманной философами науке свирепствуют догматизм и нетерпимость. Фундаментальные идеи и законы ревниво охраняются. Отбрасывается все, что расходится с принятыми теориями. Авторитет крупных ученых давит на их последователей с той же слепой и безжалостной силой, что и авторитет создателей и жрецов мифа на верующих. Абсолютное господство парадигмы над душой и телом ученых рабов — вот правда о науке. Но в чем же тогда преимущество науки перед мифом, спрашивает Фейерабенд, почему мы должны уважать науку и презирать миф?
Нужно отделить науку от государства, как это уже сделано в отношении религии, призывает Фейерабенд. Тогда научные идеи и теории уже не будут навязываться каждому члену общества мощным пропагандистским аппаратом современного государства. Основной целью воспитания и обучения должны быть всесторонняя подготовка человека к тому, чтобы, достигнув зрелости, он мог сознательно и потому свободно сделать выбор между различными формами идеологии и деятельности. Пусть одни выберут науку и научную деятельность, другие примкнут к одной из религиозных сект, третьи будут руководствоваться мифом и т.д. Только такая свобода выбора, считает Фейерабенд, совместима с гуманизмом, и только она может обеспечить полное раскрытие способностей каждого человека. Никаких ограничений в области духовной деятельности, никаких обязательных для всех правил, законов, полная свобода творчества — вот лозунг эпистемологического анархизма.
Тогда научные идеи и теории уже не будут навязываться каждому члену общества мощным пропагандистским аппаратом современного государства. Основной целью воспитания и обучения должны быть всесторонняя подготовка человека к тому, чтобы, достигнув зрелости, он мог сознательно и потому свободно сделать выбор между различными формами идеологии и деятельности. Пусть одни выберут науку и научную деятельность, другие примкнут к одной из религиозных сект, третьи будут руководствоваться мифом и т.д. Только такая свобода выбора, считает Фейерабенд, совместима с гуманизмом, и только она может обеспечить полное раскрытие способностей каждого человека. Никаких ограничений в области духовной деятельности, никаких обязательных для всех правил, законов, полная свобода творчества — вот лозунг эпистемологического анархизма.
Современное состояние аналитической философии науки можно охарактеризовать, пользуясь терминологией Куна, как кризис. Парадигма, созданная логическим позитивизмом, разрушена, выдвинуто множество альтернативных методологических концепций, но ни одна из них не может решить стоящих проблем.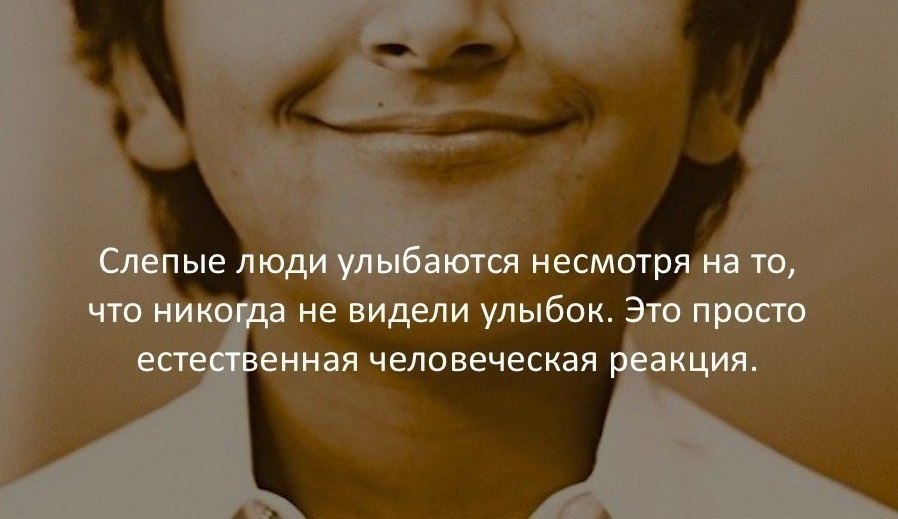 Нет ни одного принципа, ни одной методологической нормы, которые не подвергались бы сомнению. В лице Фейерабенда аналитическая философия науки дошла до выступления против самой науки и до оправдания самых крайних форм иррационализма. Однако если исчезает всякая грань между наукой и религией, между наукой и мифом, то должна исчезнуть и философия науки как теория научного познания. За последние полтора десятилетия в философии науки не появилось по сути дела ни одной новой оригинальной концепции и сфера интересов большей части исследователей постепенно смещается в область герменевтики, социологии науки и этики науки.
Нет ни одного принципа, ни одной методологической нормы, которые не подвергались бы сомнению. В лице Фейерабенда аналитическая философия науки дошла до выступления против самой науки и до оправдания самых крайних форм иррационализма. Однако если исчезает всякая грань между наукой и религией, между наукой и мифом, то должна исчезнуть и философия науки как теория научного познания. За последние полтора десятилетия в философии науки не появилось по сути дела ни одной новой оригинальной концепции и сфера интересов большей части исследователей постепенно смещается в область герменевтики, социологии науки и этики науки.
10 интересных и подтвержденных фактов о мире
Наука часто требует доказать очевидное. Заголовки вроде «Ученые установили, что свиньям нравится грязь», могут звучать смешно, но постарайтесь вчитаться: скорее всего, речь идет о чем-то большем. А может быть, все действительно так просто, как звучит — как в случае с исследованием о том, что ученики, которые делают домашнее задание, лучше справляются с контрольными. Да, мы и без ученых об этом прекрасно знали. Но одно дело — житейская мудрость, а другое — наука, эксперименты, и статитстика.
Да, мы и без ученых об этом прекрасно знали. Но одно дело — житейская мудрость, а другое — наука, эксперименты, и статитстика.
Редакция сайта
1. Кошкам наплевать на людей
Невероятно, но факт: кошки различают людей по голосам, но предпочитают игнорировать даже голос хозяина. Владельцы кошек знали об этом на протяжении всей долгой (около 10 тысяч лет) истории одомашнивания кошек, но экспериментально этот факт подтвердили только в 2013 году. Японские ученые проигрывали записи человеческих голосов двадцати кошкам; кошки по-разному реагировали на знакомые и незнакомые голоса, но большого интереса не проявляли ни к тем, ни к другим.
2. Тот, кто делает домашнюю работу, учится лучше
Кто бы мог подумать: повторение материала и отработка навыков, полученных на занятиях, в свободное время помогает усвоить новые знания. Чтобы школьники и студенты не могли сказать, что пользу домашних заданий никто научно не доказал, два экономиста из Восточно-каролинского университета в США взяли — и доказали на примере студентов, изучавших микроэкономику.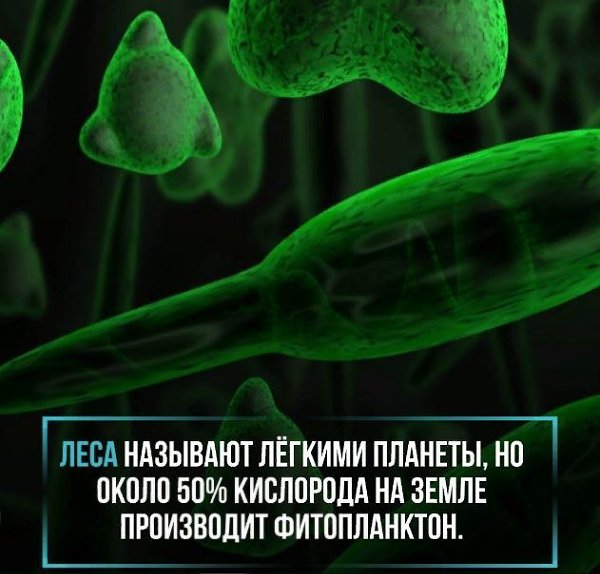 Те из студентов, которые делали домашнее задание, получали более высокие оценки (в основном четверки) и реже заваливали экзамены.
Те из студентов, которые делали домашнее задание, получали более высокие оценки (в основном четверки) и реже заваливали экзамены.
3. Ходить на высоких каблуках больно и вредно
Если она говорит, что «Это очень удобный каблук», она врет. Может быть, ей не так больно, как в других туфлях, и гораздо комфортнее, чем будет через два часа прогулки, но босиком или в кроссовках было бы намного удобнее. Если женщина носит обувь на каблуках в 2018 году, значит, ее либо обязывает дресс-код (королевская свадьба/кинопремия/бальные танцы), либо ей движет тщеславие, предрассудки или представления о красоте и женственности, в XXI веке не всегда актуальные. Ученые из Института исследования проблем старения в Бостоне доказали очевидное почти десять лет назад, в 2009 году, сравнив жалобы мужчин и женщин на боли в стопах. Оказалось, что такие боли — причина 20% всех обращений к терапевту у взрослых американцев, и почти все пациенты, которые обращаются с подобными жалобами — женщины, которые часто носят обувь на каблуках, больших и маленьких.
4. Свиньи любят валяться в грязи
Любовь свиней к лужам, чистым и грязным — общеизвестный факт, но его причины изучены мало. Ясно, что мокрая грязь помогает свиньям охлаждать тело — это особенно полезно в отсутствие потовых желез. В 2011 году один голландский зоолог опубликовал исследование, в котором описывал поведение ближайших «родственников» свиней — гиппопотамов и лосей. Наблюдая за этими животными, ученый пришел к выводу о том, что свиньи любят грязь и лужи не потому, что у них нет потовых желез. Все наоборот: у них не развились потовые железы из-за любви свиней к жидкой грязи, которая заменила им обычные для других млекопитающих способы охлаждения.
5. Мужчины смотрят на красивых женщин
Мы все и так догадывались, а исследователи из Университета Небраски-Линкольна вооружились айтрекинговым оборудованием и доказали: да, мужчины, встречая незнакомую женщину, первым делом смотрят не на лицо, а на грудь, талию и бедра, причем тем пристальнее смотрят, чем у женщины больше грудь и разница между объемом талии и объемом бедер.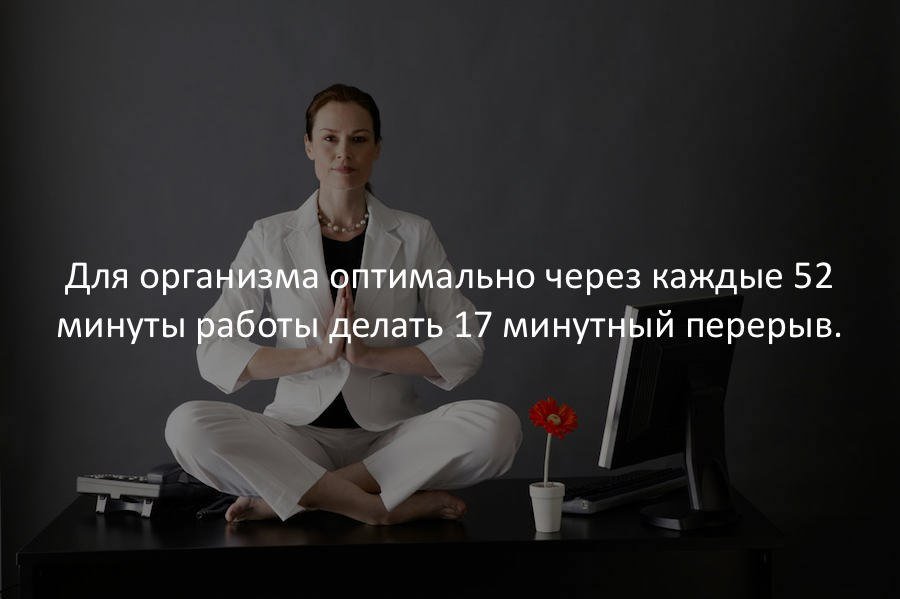 Кстати, название статьи можно перевести как «В глаза мне смотри!» (My eyes are up here).
Кстати, название статьи можно перевести как «В глаза мне смотри!» (My eyes are up here).
6. Люди толстеют от того, что едят больше, чем необходимо
Не недостаток физической активности (хотя это тоже большая проблема), не болезни, а систематическое переедание является причиной 99% ожирения. Об этом ученые с уверенностью объявили в 2009 году на конференции Международного общества исследования ожирения. С 70-х каждый американец в среднем прибавил 8 кило, и виноваты в этом не доступность транспорта и не низкая популярность спорта. В национальном и глобальном масштабе единственный фактор — излишек энергии, потребляемой с пищей.
7. Никто не любит совещания
Проанализировав дневники 37 сотрудников крупных компаний, ученые пришли к выводу о том, что совещания — отстой. Даже самых мотивированных сотрудников они превращают в недовольных ворчунов. Пользы эти мероприятия не приносят никому, зато у всех отнимают время, которое можно было бы потратить на. .. ну, на работу.
.. ну, на работу.
8. Все хотят, чтобы их партнер был сексуально привлекательным
Отвечая на вопросы о том, что для них важнее всего в романтических отношениях, люди иногда лукавят — возможно, сами этого не осознавая. Некоторые, например, утверждают, что им не важна внешность партнера. Исследователи из Техасского университета A&M разработали тест, позволяющий проверить, так ли эти люди безразличны к внешним данным потенциальных партнеров, как утверждают. Оказалось, что даже для тех мужчин и женщин, которые, по их собственным словам, искали в романтических отношениях взаимопонимания, поддержки и общности интересов, сексуальная привлекательность очень важна — не меньше, чем для тех, кто говорил об этом прямо.
9. Алкоголь, выпитый перед походом в бар, увеличивает общее количество выпитого
Если перед тем, как отправиться в бар или на день рождения/свадьбу/корпоратив, вы выпиваете стакан/бокал/рюмку «для разминки», не рассчитывайте, что в итоге выпьете меньше. Первая доза алкоголя только расслабит вас и ускорит процесс употребления следующей. Без самоконтроля вы выпьете в баре столько же, сколько выпили бы, если бы не приняли на грудь перед выходом из дома, а «разгонная» доза дополнит общее количество выпитого. Более того, начиная загодя, вы увеличиваете свой риск выпить больше запланированного и заняться незащищенным сексом. Все это больше напоминает житейскую мудрость от старших коллег и родственников, но на самом деле это результат исследования, выяснили швейцарские ученые в 2012 году.
Первая доза алкоголя только расслабит вас и ускорит процесс употребления следующей. Без самоконтроля вы выпьете в баре столько же, сколько выпили бы, если бы не приняли на грудь перед выходом из дома, а «разгонная» доза дополнит общее количество выпитого. Более того, начиная загодя, вы увеличиваете свой риск выпить больше запланированного и заняться незащищенным сексом. Все это больше напоминает житейскую мудрость от старших коллег и родственников, но на самом деле это результат исследования, выяснили швейцарские ученые в 2012 году.
10. Интернет — пространство прокрастинации
Работа, работа, работа.. О, животные смешно реагируют на фокус с исчезновением! Даже какаду. Организация Pew Research подошла к вопросу прокрастинации онлайн научно; специалисты подсчитали, что 53% людей в возрасте от 18 до 29 лет хотя бы раз в день выходят в интернет исключительно для того, чтобы заниматься ерундой.
Самые важные факты о Византии • Arzamas
У вас отключено выполнение сценариев Javascript.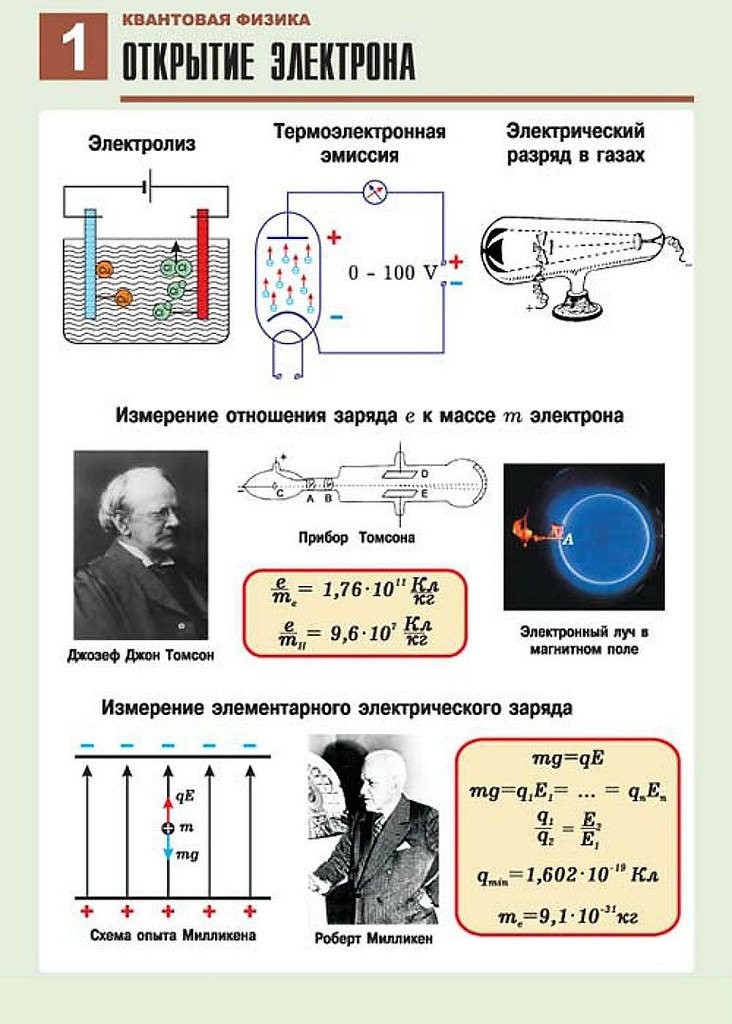 Измените, пожалуйста, настройки браузера.
Измените, пожалуйста, настройки браузера.
КурсВизантия для начинающихЛекцииМатериалы
7 вещей, которые необходимо понимать об истории Византии современному человеку: почему страны Византия не существовало, что византийцы думали о себе, на каком языке писали, за что их невзлюбили на Западе и на чем их история все-таки закончилась
Подготовили Аркадий Авдохин, Варвара Жаркая, Лев Луховицкий, Елена Чепель
1. Страны под названием Византия никогда не существовало
2. Византийцы не знали, что они не римляне
3. Византия родилась, когда Античность приняла христианство
4. В Византии говорили на одном языке, а писали на другом
5. В Византии были иконоборцы — и это страшная загадка
6. На Западе никогда не любили Византию
7. В 1453 году Константинополь пал — но Византия не умерла
Архангел Михаил и Мануил II Палеолог.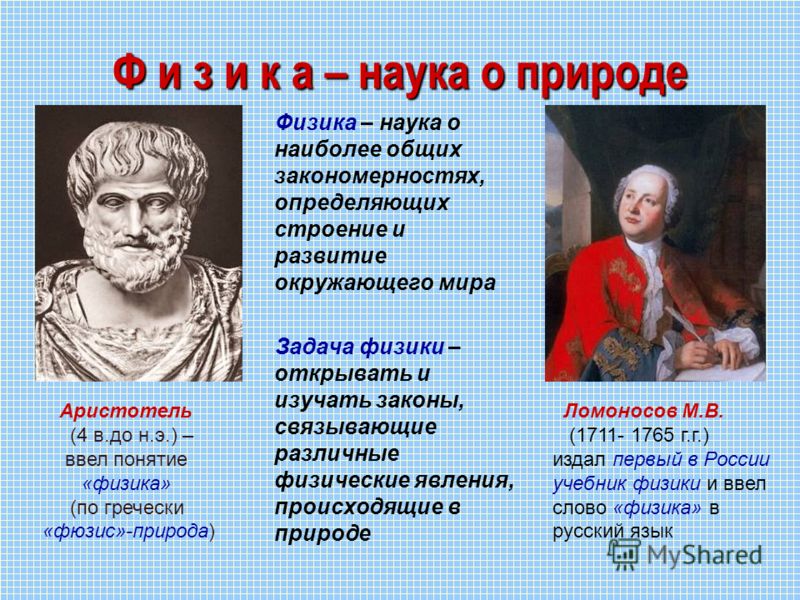 XV век © Palazzo Ducale, Urbino, Italy / Bridgeman Images / Fotodom
XV век © Palazzo Ducale, Urbino, Italy / Bridgeman Images / Fotodom
1. Страны под названием Византия никогда не существовало
Если бы византийцы VI, X или XIV века услышали от нас, что они — византийцы, а их страна называется Византия, подавляющее большинство из них нас бы просто не поняли. А те, кто все же понял, решили бы, что мы хотим к ним подольститься, называя их жителями столицы, да еще и на устаревшем языке, который используют только ученые, старающиеся сделать свою речь как можно более изысканной.
Часть консульского диптиха Юстиниана. Константинополь, 521 год Диптихи вручались консулам в честь их вступления в должность. © The Metropolitan Museum of Art
Страны, которую ее жители называли бы Византия, никогда не было; слово «византийцы» никогда не было самоназванием жителей какого бы то ни было государства. Слово «византийцы» иногда использовалось для обозначения жителей Константинополя — по названию древнего города Византий (Βυζάντιον), который в 330 году был заново основан императором Константином под именем Константинополь. Назывались они так только в текстах, написанных на условном литературном языке, стилизованном под древнегреческий, на котором уже давно никто не говорил. Других византийцев никто не знал, да и эти существовали лишь в текстах, доступных узкому кругу образованной элиты, писавшей на этом архаизированном греческом языке и понимавшей его.
Назывались они так только в текстах, написанных на условном литературном языке, стилизованном под древнегреческий, на котором уже давно никто не говорил. Других византийцев никто не знал, да и эти существовали лишь в текстах, доступных узкому кругу образованной элиты, писавшей на этом архаизированном греческом языке и понимавшей его.
Самоназванием Восточной Римской империи начиная с III–IV веков (и после захвата Константинополя турками в 1453 году) было несколько устойчивых и всем понятных оборотов и слов: государство ромеев, или римлян, (βασιλεία τῶν Ρωμαίων [basileia ton romaion]), Романи́я (Ρωμανία), Ромаи́да (Ρωμαΐς [Romais]).
Сами жители называли себя ромеями — римлянами (Ρωμαίοι [romaioi]), ими правил римский император — василевс (Βασιλεύς τῶν Ρωμαίων [basileus ton romaion]), а их столицей был Новый Рим (Νέα Ρώμη [Nea Rome]) — именно так обычно назывался основанный Константином город.
Подробнее про контекст:
Таймлайн византийской истории — в 22 пунктах
Шпаргалка с важнейшими датами и короткими пояснениями об истории и культуре
Пять лекций об истории Византии
Подробный последовательный рассказ — в приложении «Радио Arzamas»
Откуда же взялось слово «Византия» и вместе с ним представление о Византийской империи как о государстве, возникшем после падения Римской империи на территории ее восточных провинций? Дело в том, что в XV веке вместе с государственностью Восточно-Римская империя (так Византию часто называют в современных исторических сочинениях, и это гораздо ближе к самосознанию самих византийцев), по сути, лишилась и голоса, слышимого за ее пределами: восточноримская традиция самоописания оказалась изолированной в пределах грекоязычных земель, принадлежавших Османской империи; важным теперь было только то, что о Византии думали и писали западноевропейские ученые.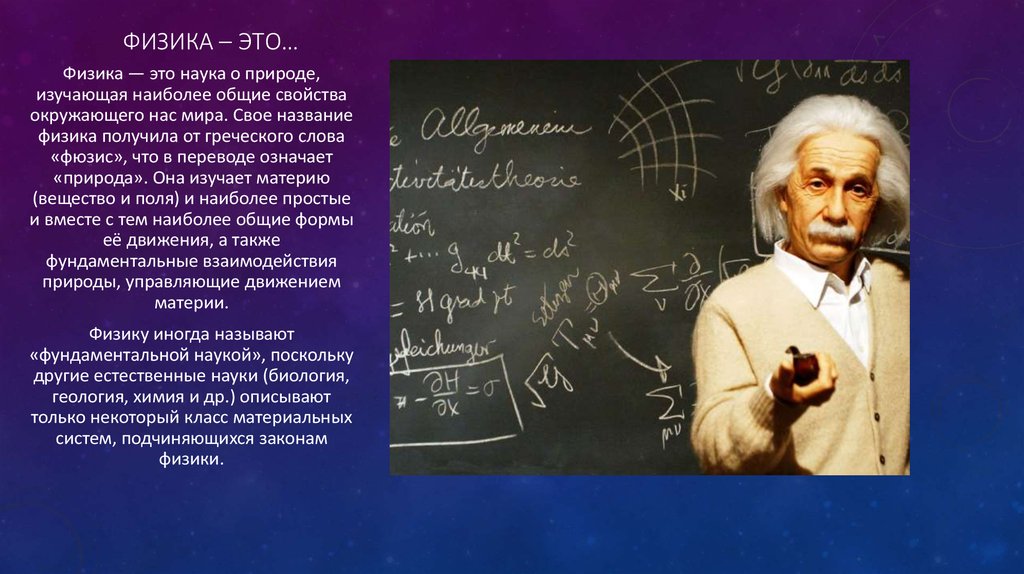
Иероним Вольф. Гравюра Доминикуса Кустоса. 1580 год © Herzog Anton Ulrich-Museum Braunschweig
В западноевропейской традиции государство Византия было фактически создано Иеронимом Вольфом, немецким гуманистом и историком, в 1577 году издавшим «Корпус византийской истории» — небольшую антологию сочинений историков Восточной империи с латинским переводом. Именно с «Корпуса» понятие «византийский» вошло в западноевропейский научный оборот.
Сочинение Вольфа легло в основу другого собрания византийских историков, тоже называвшегося «Корпусом византийской истории», но гораздо более масштабного — он был издан в 37 томах при содействии короля Франции Людовика XIV. Наконец, венецианское переиздание второго «Корпуса» использовал английский историк XVIII века Эдуард Гиббон, когда писал свою «Историю падения и упадка Римской империи» — пожалуй, ни одна книга не оказала такого огромного и одновременно разрушительного влияния на создание и популяризацию современного образа Византии.
Ромеи с их исторической и культурной традицией были, таким образом, лишены не только своего голоса, но и права на самоназвание и самосознание.
2. Византийцы не знали, что они не римляне
Осень. Коптское панно. IV век © Whitworth Art Gallery, The University of Manchester, UK / Bridgeman Images / Fotodom
Для византийцев, которые сами называли себя ромеями-римлянами, история великой империи никогда не кончалась. Сама эта мысль показалась бы им абсурдной. Ромул и Рем, Нума, Август Октавиан, Константин I, Юстиниан, Фока, Михаил Великий Комнин — все они одинаковым образом с незапамятных времен стояли во главе римского народа.
До падения Константинополя (и даже после него) византийцы считали себя жителями Римской империи. Социальные институты, законы, государственность — все это сохранялось в Византии со времен первых римских императоров. Принятие христианства почти не повлияло на юридическое, экономическое и административное устройство Римской империи.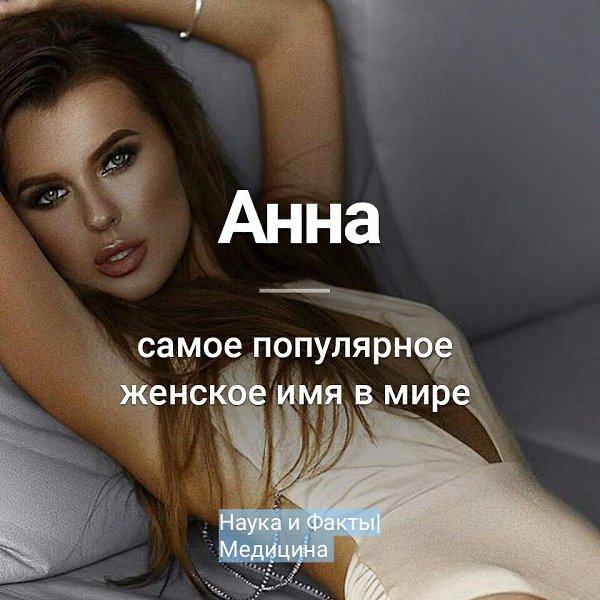 Если истоки христианской церкви византийцы видели в Ветхом Завете, то начало собственной политической истории относили, как и древние римляне, к троянцу Энею — герою основополагающей для римской идентичности поэмы Вергилия.
Если истоки христианской церкви византийцы видели в Ветхом Завете, то начало собственной политической истории относили, как и древние римляне, к троянцу Энею — герою основополагающей для римской идентичности поэмы Вергилия.
Общественный порядок Римской империи и чувство принадлежности к великой римской patria сочетались в византийском мире с греческой наукой и письменной культурой: византийцы считали классическую древнегреческую литературу своей. Например, в XI веке монах и ученый Михаил Пселл всерьез рассуждает в одном трактате о том, кто пишет стихи лучше — афинский трагик Еврипид или византийский поэт VII века Георгий Писида, автор панегирика об аваро-славянской осаде Константинополя в 626 году и богословской поэмы «Шестоднев» о божественном сотворении мира. В этой поэме, переведенной впоследствии на славянский язык, Георгий парафразирует античных авторов Платона, Плутарха, Овидия и Плиния Старшего.
В то же время на уровне идеологии византийская культура часто противопоставляла себя классической античности.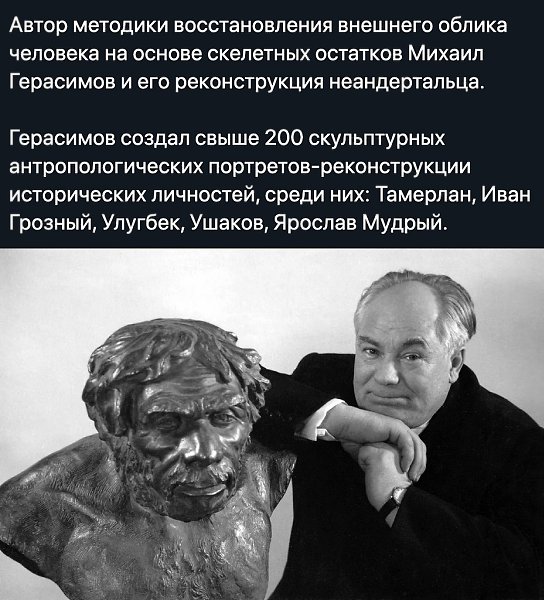 Христианские апологеты заметили, что вся греческая древность — поэзия, театр, спорт, скульптура — пронизана религиозными культами языческих божеств. Эллинские ценности (материальная и физическая красота, стремление к удовольствию, человеческие слава и почести, военные и атлетические победы, эротизм, рациональное философское мышление) осуждались как недостойные христиан. Василий Великий в знаменитой беседе «К юношам о том, как пользоваться языческими сочинениями» видит главную опасность для христианской молодежи в привлекательном образе жизни, который предлагается читателю в эллинских сочинениях. Он советует отбирать в них для себя только истории, полезные в нравственном отношении. Парадокс в том, что Василий, как и многие другие Отцы Церкви, сам получил прекрасное эллинское образование и писал свои сочинения классическим литературным стилем, пользуясь приемами античного риторического искусства и языком, который к его времени уже вышел из употребления и звучал как архаичный.
Христианские апологеты заметили, что вся греческая древность — поэзия, театр, спорт, скульптура — пронизана религиозными культами языческих божеств. Эллинские ценности (материальная и физическая красота, стремление к удовольствию, человеческие слава и почести, военные и атлетические победы, эротизм, рациональное философское мышление) осуждались как недостойные христиан. Василий Великий в знаменитой беседе «К юношам о том, как пользоваться языческими сочинениями» видит главную опасность для христианской молодежи в привлекательном образе жизни, который предлагается читателю в эллинских сочинениях. Он советует отбирать в них для себя только истории, полезные в нравственном отношении. Парадокс в том, что Василий, как и многие другие Отцы Церкви, сам получил прекрасное эллинское образование и писал свои сочинения классическим литературным стилем, пользуясь приемами античного риторического искусства и языком, который к его времени уже вышел из употребления и звучал как архаичный.
На практике идеологическая несовместимость с эллинством не мешала византийцам бережно относиться к античному культурному наследию.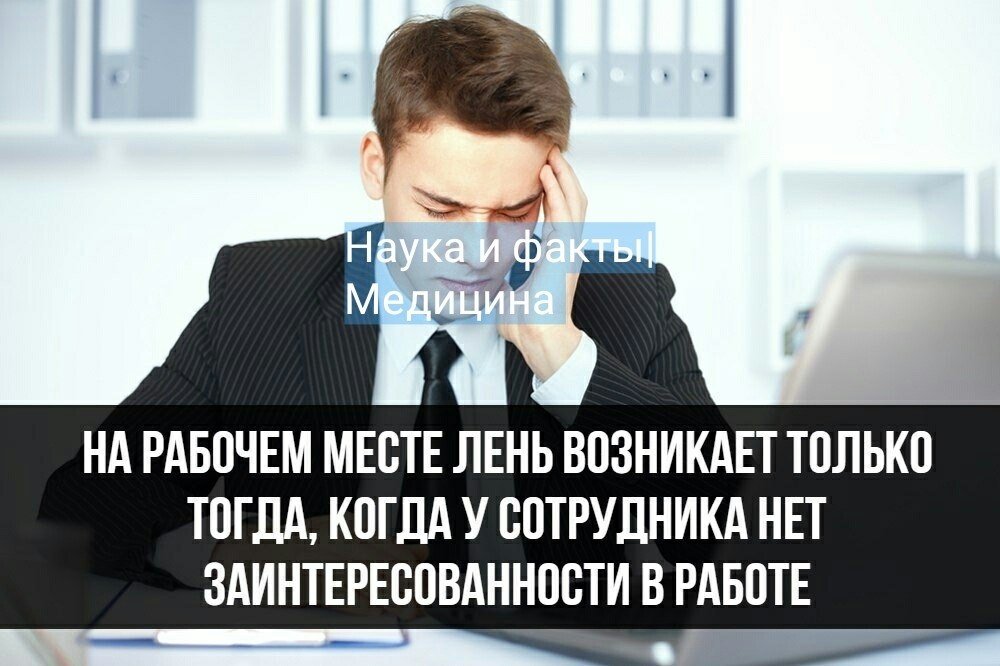 Древние тексты не уничтожались, а копировались, при этом переписчики старались соблюдать точность, разве что могли в редких случаях выкинуть слишком откровенный эротический пассаж. Эллинская литература продолжала быть основой школьной программы в Византии. Образованный человек должен был читать и знать эпос Гомера, трагедии Еврипида, речи Демосфена и использовать эллинский культурный код в собственных сочинениях, например называть арабов персами, а Русь — Гипербореей. Многие элементы античной культуры в Византии сохранились, правда изменившись до неузнаваемости и обретя новое религиозное содержание: например, риторика стала гомилетикой (наукой о церковной проповеди), философия — богословием, а античный любовный роман повлиял на агиографические жанры.
Древние тексты не уничтожались, а копировались, при этом переписчики старались соблюдать точность, разве что могли в редких случаях выкинуть слишком откровенный эротический пассаж. Эллинская литература продолжала быть основой школьной программы в Византии. Образованный человек должен был читать и знать эпос Гомера, трагедии Еврипида, речи Демосфена и использовать эллинский культурный код в собственных сочинениях, например называть арабов персами, а Русь — Гипербореей. Многие элементы античной культуры в Византии сохранились, правда изменившись до неузнаваемости и обретя новое религиозное содержание: например, риторика стала гомилетикой (наукой о церковной проповеди), философия — богословием, а античный любовный роман повлиял на агиографические жанры.
3. Византия родилась, когда Античность приняла христианство
Когда начинается Византия? Наверное, тогда, когда кончается история Римской империи — так мы привыкли думать. По большей части эта мысль кажется нам естественной благодаря огромному влиянию монументальной «Истории упадка и разрушения Римской империи» Эдуарда Гиббона.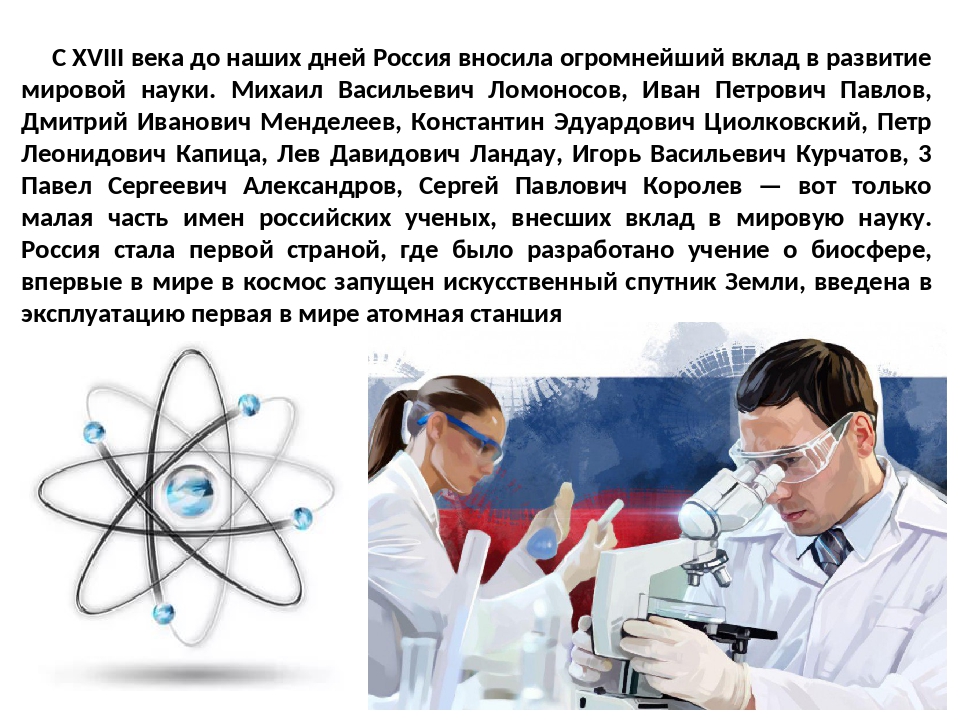
Написанная в XVIII веке, эта книга до сих пор подсказывает как историкам, так и неспециалистам взгляд на период с III по VII век (который теперь все чаще называется поздней Античностью) как на время упадка былого величия Римской империи под воздействием двух основных факторов — нашествий германских племен и постоянно растущей социальной роли христианства, которое в IV веке стало доминирующей религией. Византия, существующая в массовом сознании прежде всего как христианская империя, рисуется в этой перспективе как естественный наследник того культурного упадка, который произошел в поздней Античности из-за массовой христианизации: средоточием религиозного фанатизма и мракобесия, растянувшимся на целое тысячелетие застоем.
1 / 2
Амулет, защищающий от сглаза. Византия, V–VI века
На одной стороне изображен глаз, на который направлены стрелы и нападают лев, змея, скорпион и аист.
© The Walters Art Museum
2 / 2
Амулет из гематита. Византийский Египет, VI–VII века
Византийский Египет, VI–VII века
Надписи определяют его как «женщина, которая страдала кровотечением» (Лк. 8:43–48). Считалось, что гематит помогает остановить кровотечение, и из него были очень популярны амулеты, связанные с женским здоровьем и менструальным циклом.
© The Metropolitan Museum of Art
Таким образом, если смотреть на историю глазами Гиббона, поздняя Античность оборачивается трагическим и необратимым концом Античности. Но была ли она лишь временем разрушения прекрасной древности? Историческая наука уже более полувека уверена, что это не так.
В особенности упрощенным оказывается представление о якобы роковой роли христианизации в разрушении культуры Римской империи. Культура поздней Античности в реальности вряд ли была построена на противопоставлении «языческого» (римского) и «христианского» (византийского). То, как была устроена позднеантичная культура для ее создателей и пользователей, отличалось куда большей сложностью: христианам той эпохи показался бы странным сам вопрос о конфликте римского и религиозного. В IV веке римские христиане запросто могли поместить изображения языческих божеств, выполненных в античном стиле, на предметы обихода: например, на одном ларце, подаренном новобрачным, обнаженная Венера соседствует с благочестивым призывом «Секунд и Проекта, живите во Христе».
В IV веке римские христиане запросто могли поместить изображения языческих божеств, выполненных в античном стиле, на предметы обихода: например, на одном ларце, подаренном новобрачным, обнаженная Венера соседствует с благочестивым призывом «Секунд и Проекта, живите во Христе».
На территории будущей Византии происходило столь же беспроблемное для современников сплавление языческого и христианского в художественных приемах: в VI веке образы Христа и святых выполнялись в технике традиционного египетского погребального портрета, наиболее известный тип которого — так называемый фаюмский портрет Фаюмский портрет — разновидность погребальных портретов, распространенных в эллинизированном Египте в Ι–III веках н. э. Изображение наносилось горячими красками на разогретый восковой слой.. Христианская визуальность в поздней Античности вовсе не обязательно стремилась противопоставить себя языческой, римской традиции: очень часто она нарочито (а может быть, наоборот, естественно и непринужденно) придерживалась ее.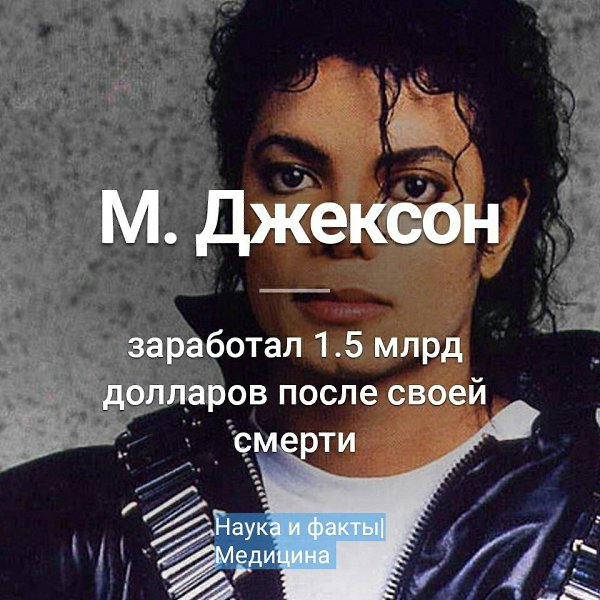 Такой же сплав языческого и христианского виден и в литературе поздней Античности. Поэт Аратор в VI веке декламирует в римском соборе гекзаметрическую поэму о деяниях апостолов, написанную в стилистических традициях Вергилия. В христианизированном Египте середины V века (к этому времени здесь около полутора веков существуют разные формы монашества) поэт Нонн из города Панополь (современный Акмим) пишет переложение (парафразу) Евангелия от Иоанна языком Гомера, сохраняя не только метр и стиль, но и сознательно заимствуя целые словесные формулы и образные пласты из его эпоса Евангелие от Иоанна, 1:1-6 (синодальный перевод):
Такой же сплав языческого и христианского виден и в литературе поздней Античности. Поэт Аратор в VI веке декламирует в римском соборе гекзаметрическую поэму о деяниях апостолов, написанную в стилистических традициях Вергилия. В христианизированном Египте середины V века (к этому времени здесь около полутора веков существуют разные формы монашества) поэт Нонн из города Панополь (современный Акмим) пишет переложение (парафразу) Евангелия от Иоанна языком Гомера, сохраняя не только метр и стиль, но и сознательно заимствуя целые словесные формулы и образные пласты из его эпоса Евангелие от Иоанна, 1:1-6 (синодальный перевод):
В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн.
Нонн из Панополя. Парафраза Евангелия от Иоанна, песнь 1 (пер. Ю. А. Голубец, Д. А. Поспелова, А. В. Маркова):
Ю. А. Голубец, Д. А. Поспелова, А. В. Маркова):
Логос, Божие Чадо, Свет, рожденный от Света,
Неотделим от Отца Он на беспредельном престоле!
Боже небеснородный, Логос, ведь Ты праначально
Воссиял совокупно с Предвечным, Зиждителем мира,
О, Древнейший вселенной! Все чрез Него совершилось,
Что бездыханно и в духе! Вне Речи, деющей много,
Явлено ль, что пребывает? И в Нем существует извечно
Жизнь, что всему соприсуща, свет краткосущего люда… <…>
Во пчелопитающей чаще
Странник нагорный явился, насельник склонов пустынных,
Он — глашатай крещенья краеугольного, имя —
Божий муж, Иоанн, вожатый..
1 / 4
Портрет молодой девушки. II век© Google Cultural Institute
2 / 4
Погребальный портрет мужчины. III век© Google Cultural Institute
3 / 4
Христос Пантократор. Икона из монастыря Святой Екатерины. Синай, середина VI векаWikimedia Commons
Синай, середина VI векаWikimedia Commons
4 / 4
Святой Петр. Икона из монастыря Святой Екатерины. Синай, VII век© campus.belmont.edu
Динамичные изменения, происходившие в разных пластах культуры Римской империи в поздней Античности, трудно напрямую связать с христианизацией, раз уж христиане того времени сами были такими охотниками до классических форм и в изобразительных искусствах, и в литературе (как и во многих других сферах жизни). Будущая Византия рождалась в эпоху, в которой взаимосвязи между религией, художественным языком, его аудиторией, а также социологией исторических сдвигов были сложными и непрямыми. Они несли в себе потенциал той сложности и многоплановости, которая развертывалась позднее на протяжении веков византийской истории.
4. В Византии говорили на одном языке, а писали на другом
Языковая картина Византии парадоксальна. Империя, не просто претендовавшая на правопреемство по отношению к Римской и унаследовавшая ее институты, но и с точки зрения своей политической идеологии бывшая Римской империей, никогда не говорила на латыни. На ней разговаривали в западных провинциях и на Балканах, до VI века она оставалась официальным языком юриспруденции (последним законодательным сводом на латыни стал Кодекс Юстиниана, обнародованный в 529 году, — после него законы издавали уже на греческом), она обогатила греческий множеством заимствований (прежде всего в военной и административной сферах), ранневизантийский Константинополь привлекал карьерными возможностями латинских грамматиков. Но все же латынь не была настоящим языком даже ранней Византии. Пускай латиноязычные поэты Корипп и Присциан жили в Константинополе, мы не встретим этих имен на страницах учебника истории византийской литературы.
На ней разговаривали в западных провинциях и на Балканах, до VI века она оставалась официальным языком юриспруденции (последним законодательным сводом на латыни стал Кодекс Юстиниана, обнародованный в 529 году, — после него законы издавали уже на греческом), она обогатила греческий множеством заимствований (прежде всего в военной и административной сферах), ранневизантийский Константинополь привлекал карьерными возможностями латинских грамматиков. Но все же латынь не была настоящим языком даже ранней Византии. Пускай латиноязычные поэты Корипп и Присциан жили в Константинополе, мы не встретим этих имен на страницах учебника истории византийской литературы.
Мы не можем сказать, в какой именно момент римский император становится византийским: провести четкую границу не позволяет формальное тождество институтов. В поисках ответа на этот вопрос необходимо обращаться к неформализуемым культурным различиям. Римская империя отличается от Византийской тем, что в последней оказываются слиты римские институты, греческая культура и христианство и осуществляется этот синтез на основе греческого языка. Поэтому одним из критериев, на которые мы могли бы опереться, становится язык: византийскому императору, в отличие от его римского коллеги, проще изъясняться на греческом, чем на латыни.
Поэтому одним из критериев, на которые мы могли бы опереться, становится язык: византийскому императору, в отличие от его римского коллеги, проще изъясняться на греческом, чем на латыни.
Но что такое этот греческий? Альтернатива, которую предлагают нам полки книжных магазинов и программы филологических факультетов, обманчива: мы можем найти в них либо древне-, либо новогреческий язык. Иной точки отсчета не предусмотрено. Из-за этого мы вынуждены исходить из того, что греческий язык Византии — это либо искаженный древнегреческий (почти диалоги Платона, но уже не совсем), либо протоновогреческий (почти переговоры Ципраса с МВФ, но еще не вполне). История 24 столетий непрерывного развития языка спрямляется и упрощается: это либо неизбежный закат и деградация древнегреческого (так думали западноевропейские филологи-классики до утверждения византинистики как самостоятельной научной дисциплины), либо неминуемое прорастание новогреческого (так считали греческие ученые времен формирования греческой нации в XIX веке).
Действительно, византийский греческий трудноуловим. Его развитие нельзя рассматривать как череду поступательных, последовательных изменений, поскольку на каждый шаг вперед в языковом развитии приходился и шаг назад. Виной тому — отношение к языку самих византийцев. Социально престижной была языковая норма Гомера и классиков аттической прозы. Писать хорошо значило писать историю неотличимо от Ксенофонта или Фукидида (последний историк, решившийся ввести в свой текст староаттические элементы, казавшиеся архаичными уже в классическую эпоху, — это свидетель падения Константинополя Лаоник Халкокондил), а эпос — неотличимо от Гомера. От образованных византийцев на протяжении всей истории империи требовалось в буквальном смысле говорить на одном (изменившемся), а писать на другом (застывшем в классической неизменности) языке. Раздвоенность языкового сознания — важнейшая черта византийской культуры.
1 / 2
Остракон с фрагментом «Илиады» на коптском языке. Византийский Египет, 580–640 годы
Византийский Египет, 580–640 годы
Остраконы — черепки глиняных сосудов — использовали для записи библейских стихов, юридических документов, счетов, школьных заданий и молитв, когда папирус был недоступен или слишком дорог.
© The Metropolitan Museum of Art
2 / 2
Остракон с тропарем Богородице на коптском языке. Византийский Египет, 580–640 годы© The Metropolitan Museum of Art
Усугубляло ситуацию и то, что еще со времен классической древности за определенными жанрами были закреплены определенные диалектные особенности: эпические поэмы писали на языке Гомера, а медицинские трактаты составляли на ионийском диалекте в подражание Гиппократу. Сходную картину мы видим и в Византии. В древнегреческом языке гласные делились на долгие и краткие, и их упорядоченное чередование составляло основу древнегреческих стихотворных метров. В эллинистическую эпоху противопоставление гласных по долготе ушло из греческого языка, но тем не менее и через тысячу лет героические поэмы и эпитафии писались так, как будто фонетическая система осталась неизменной со времен Гомера.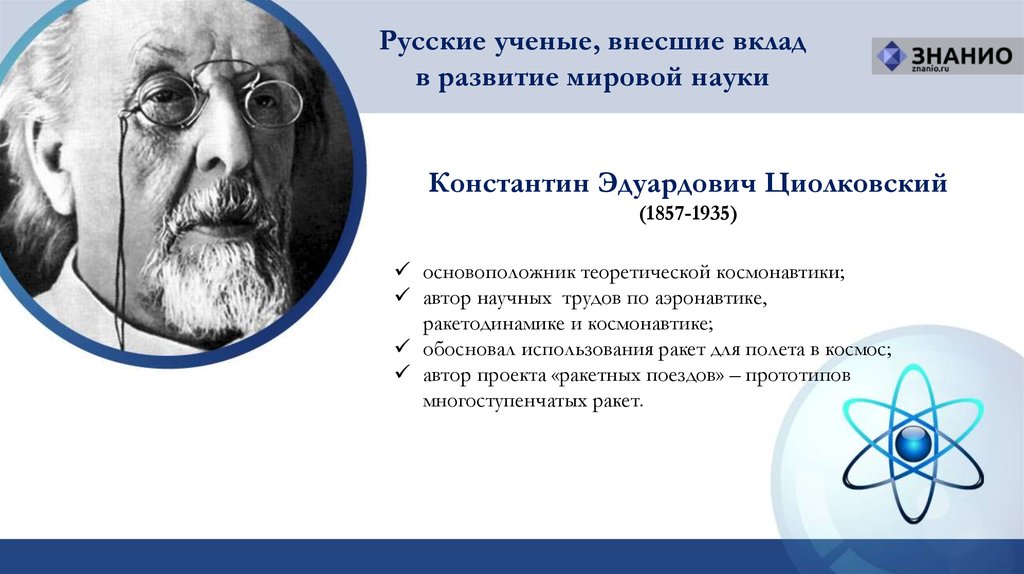 Различия пронизывали и другие языковые уровни: нужно было строить фразу, как Гомер, подбирать слова, как у Гомера, и склонять и спрягать их в соответствии с парадигмой, отмершей в живой речи тысячелетия назад.
Различия пронизывали и другие языковые уровни: нужно было строить фразу, как Гомер, подбирать слова, как у Гомера, и склонять и спрягать их в соответствии с парадигмой, отмершей в живой речи тысячелетия назад.
Однако писать с античной живостью и простотой удавалось не всем; нередко в попытке достичь аттического идеала византийские авторы теряли чувство меры, стремясь писать правильнее своих кумиров. Так, мы знаем, что дательный падеж, существовавший в древнегреческом, в новогреческом почти полностью исчез. Логично было бы предположить, что с каждым веком в литературе он будет встречаться все реже и реже, пока постепенно не исчезнет вовсе. Однако недавние исследования показали, что в византийской высокой словесности дательный падеж используется куда чаще, чем в литературе классической древности. Но именно это увеличение частоты и говорит о расшатывании нормы! Навязчивость в использовании той или иной формы скажет о вашем неумении ее правильно применять не меньше, чем ее полное отсутствие в вашей речи.
В то же время живая языковая стихия брала свое. О том, как менялся разговорный язык, мы узнаем благодаря ошибкам переписчиков рукописей, нелитературным надписям и так называемой народноязычной литературе. Термин «народноязычный» неслучаен: он гораздо лучше описывает интересующее нас явление, чем более привычный «народный», поскольку нередко элементы простой городской разговорной речи использовались в памятниках, созданных в кругах константинопольской элиты. Настоящей литературной модой это стало в XII веке, когда одни и те же авторы могли работать в нескольких регистрах, сегодня предлагая читателю изысканную прозу, почти неотличимую от аттической, а завтра — едва ли не площадные стишки.
Диглоссия, или двуязычие, породила и еще один типично византийский феномен — метафразирование, то есть переложение, пересказ пополам с переводом, изложение содержания источника новыми словами с понижением или повышением стилистического регистра. Причем сдвиг мог идти как по линии усложнения (вычурный синтаксис, изысканные фигуры речи, античные аллюзии и цитаты), так и по линии упрощения языка. Ни одно произведение не считалось неприкосновенным, даже язык священных текстов в Византии не имел статуса сакрального: Евангелие можно было переписать в ином стилистическом ключе (как, например, сделал уже упоминавшийся Нонн Панополитанский) — и это не обрушивало анафемы на голову автора. Нужно было дождаться 1901 года, когда перевод Евангелий на разговорный новогреческий (по сути, та же метафраза) вывел противников и защитников языкового обновления на улицы и привел к десяткам жертв. В этом смысле возмущенные толпы, защищавшие «язык предков» и требовавшие расправы над переводчиком Александросом Паллисом, были куда дальше от византийской культуры не только чем им бы хотелось, но и чем сам Паллис.
Ни одно произведение не считалось неприкосновенным, даже язык священных текстов в Византии не имел статуса сакрального: Евангелие можно было переписать в ином стилистическом ключе (как, например, сделал уже упоминавшийся Нонн Панополитанский) — и это не обрушивало анафемы на голову автора. Нужно было дождаться 1901 года, когда перевод Евангелий на разговорный новогреческий (по сути, та же метафраза) вывел противников и защитников языкового обновления на улицы и привел к десяткам жертв. В этом смысле возмущенные толпы, защищавшие «язык предков» и требовавшие расправы над переводчиком Александросом Паллисом, были куда дальше от византийской культуры не только чем им бы хотелось, но и чем сам Паллис.
5. В Византии были иконоборцы — и это страшная загадка
Иконоборцы Иоанн Грамматик и епископ Антоний Силейский. Хлудовская псалтырь. Византия, ориентировочно 850 годМиниатюра к псалму 68, стих 2: «И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом».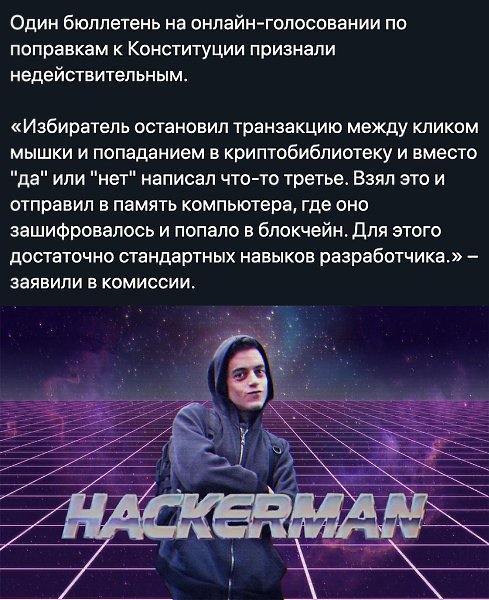 Действия иконоборцев, замазывающих известью икону Христа, сопоставляются с распятием на Голгофе. Воин справа подносит Христу губку с уксусом. У подножия горы — Иоанн Грамматик и епископ Антоний Силейский. © rijksmuseumamsterdam.blogspot.ru
Действия иконоборцев, замазывающих известью икону Христа, сопоставляются с распятием на Голгофе. Воин справа подносит Христу губку с уксусом. У подножия горы — Иоанн Грамматик и епископ Антоний Силейский. © rijksmuseumamsterdam.blogspot.ru
Иконоборчество — самый известный для широкой аудитории и самый загадочный даже для специалистов период истории Византии. О глубине следа, который он оставил в культурной памяти Европы, говорит возможность, к примеру, в английском языке использовать слово iconoclast («иконоборец») вне исторического контекста, во вневременном значении «бунтарь, ниспровергатель устоев».
Событийная канва такова. К рубежу VII и VIII веков теория поклонения религиозным изображениям безнадежно отставала от практики. Арабские завоевания середины VII века привели империю к глубокому культурному кризису, а тот, в свою очередь, породил рост апокалиптических настроений, умножение суеверий и всплеск неупорядоченных форм иконопочитания, подчас неотличимых от магических практик. Согласно сборникам чудес святых, выпитый воск из растопленной печати с ликом святого Артемия исцелял от грыжи, а святые Косма и Дамиан излечили страждущую, повелев ей выпить, смешав с водой, штукатурку с фрески с их изображением.
Согласно сборникам чудес святых, выпитый воск из растопленной печати с ликом святого Артемия исцелял от грыжи, а святые Косма и Дамиан излечили страждущую, повелев ей выпить, смешав с водой, штукатурку с фрески с их изображением.
Такое почитание икон, не получившее философского и богословского обоснования, вызывало отторжение у части клириков, видевших в нем признаки язычества. Император Лев III Исавр (717–741), оказавшись в сложной политической ситуации, использовал это недовольство для создания новой консолидирующей идеологии. Первые иконоборческие шаги относятся к 726–730 годам, но как богословское обоснование иконоборческого догмата, так и полноценные репрессии в отношении инакомыслящих пришлись на время правления самого одиозного византийского императора — Константина V Копронима (Гноеименитого) (741–775).
Претендовавший на статус вселенского, иконоборческий собор 754 года перевел спор на новый уровень: отныне речь шла не о борьбе с суевериями и исполнении ветхозаветного запрета «Не сотвори себе кумира», а об ипостаси Христа. Может ли Он считаться изобразимым, если Его божественная природа «неописуема»? «Христологическая дилемма» была такова: иконопочитатели повинны либо в том, что запечатлевают на иконах только плоть Христа без Его божества (несторианство), либо в том, что ограничивают божество Христа через описание Его изображаемой плоти (монофизитство).
Может ли Он считаться изобразимым, если Его божественная природа «неописуема»? «Христологическая дилемма» была такова: иконопочитатели повинны либо в том, что запечатлевают на иконах только плоть Христа без Его божества (несторианство), либо в том, что ограничивают божество Христа через описание Его изображаемой плоти (монофизитство).
Однако уже в 787 году императрица Ирина провела в Никее новый собор, участники которого сформулировали в качестве ответа на догмат иконоборчества догмат иконопочитания, тем самым предложив полноценное богословское основание для ранее не упорядоченных практик. Интеллектуальным прорывом стало, во-первых, разделение «служебного» и «относительного» поклонения: первое может воздаваться только Богу, в то время как при втором «честь, воздаваемая образу, восходит к первообразу» (слова Василия Великого, ставшие настоящим девизом иконопочитателей). Во‑вторых, была предложена теория омонимии, то есть единоименности, снимавшая проблему портретного сходства изображения и изображаемого: икона Христа признавалась таковой не благодаря сходству черт, а благодаря написанию имени — акту называния.
Патриарх Никифор. Миниатюра из Псалтыри Феодора Кесарийского. 1066 год © British Library Board. All Rights Reserved / Bridgeman Images / Fotodom
В 815 году император Лев V Армянин вновь обратился к иконоборческой политике, рассчитывая таким образом выстроить линию преемственности по отношению к Константину V, самому успешному и самому любимому в войсках правителю за последний век. На так называемое второе иконоборчество приходится как новый виток репрессий, так и новый взлет богословской мысли. Завершается иконоборческая эра в 843 году, когда иконоборчество окончательно осуждается как ересь. Но его призрак преследовал византийцев вплоть до 1453 года: на протяжении веков участники любых церковных споров, используя самую изощренную риторику, уличали друг друга в скрытом иконоборчестве, и это обвинение было серьезней обвинения в любой другой ереси.
Казалось бы, все достаточно просто и понятно. Но как только мы пытаемся как-то уточнить эту общую схему, наши построения оказываются весьма зыбкими.
Основная сложность — состояние источников. Тексты, благодаря которым мы знаем о первом иконоборчестве, написаны значительно позже, причем иконопочитателями. В 40-е годы IX века была осуществлена полноценная программа по написанию истории иконоборчества с иконопочитательских позиций. В результате история спора была полностью искажена: сочинения иконоборцев доступны только в тенденциозных выборках, а текстологический анализ показывает, что произведения иконопочитателей, казалось бы созданные для опровержения учения Константина V, не могли быть написаны раньше самого конца VIII века. Задачей авторов-иконопочитателей было вывернуть описанную нами историю наизнанку, создать иллюзию традиции: показать, что почитание икон (причем не стихийное, а осмысленное!) присутствовало в церкви с апостольских времен, а иконоборчество — всего лишь нововведение (слово καινοτομία — «нововведение» на греческом — самое ненавистное слово для любого византийца), причем сознательно антихристианское. Иконоборцы представали не борцами за очищение христианства от язычества, а «христианообвинителями» — это слово стало обозначать именно и исключительно иконоборцев. Сторонами в иконоборческом споре оказывались не христиане, по-разному интерпретирующие одно и то же учение, а христиане и некая враждебная им внешняя сила.
Иконоборцы представали не борцами за очищение христианства от язычества, а «христианообвинителями» — это слово стало обозначать именно и исключительно иконоборцев. Сторонами в иконоборческом споре оказывались не христиане, по-разному интерпретирующие одно и то же учение, а христиане и некая враждебная им внешняя сила.
Арсенал полемических приемов, которые использовались в этих текстах для очернения противника, был очень велик. Создавались легенды о ненависти иконоборцев к образованию, например о сожжении Львом III в действительности никогда не существовавшего университета в Константинополе, а Константину V приписывали участие в языческих обрядах и человеческих жертвоприношениях, ненависть к Богородице и сомнения в божественной природе Христа. Если подобные мифы кажутся простыми и были давно развенчаны, то другие остаются в центре научных дискуссий по сей день. Например, лишь совсем недавно удалось установить, что жестокая расправа, учиненная над прославленным в лике мучеников Стефаном Новым в 766 году, связана не столько с его бескомпромиссной иконопочитательской позицией, как заявляет житие, сколько с его близостью к заговору политических противников Константина V. Не прекращаются споры и о ключевых вопросах: какова роль исламского влияния в генезисе иконоборчества? каким было истинное отношение иконоборцев к культу святых и их мощам?
Не прекращаются споры и о ключевых вопросах: какова роль исламского влияния в генезисе иконоборчества? каким было истинное отношение иконоборцев к культу святых и их мощам?
Даже язык, которым мы говорим об иконоборчестве, — это язык победителей. Слово «иконоборец» не самоназвание, а оскорбительный полемический ярлык, который изобрели и внедрили их оппоненты. Ни один «иконоборец» никогда не согласился бы с таким именем, просто потому что греческое слово εἰκών имеет гораздо больше значений, чем русское «икона». Это любой образ, в том числе нематериальный, а значит, назвать кого-то иконоборцем — это заявить, что он борется и с идеей Бога-Сына как образа Бога-Отца, и человека как образа Бога, и событий Ветхого Завета как прообразов событий Нового и т. п. Тем более что сами иконоборцы утверждали, что они-то защищают истинный образ Христа — евхаристические дары, меж тем как то, что их противники зовут образом, на самом деле таковым не является, а есть всего лишь изображение.
Победи в итоге их учение, именно оно бы сейчас называлось православным, а учение их противников мы бы презрительно называли иконопоклонством и говорили бы не об иконоборческом, а об иконопоклонническом периоде в Византии. Впрочем, сложись это так, иной была бы вся дальнейшая история и визуальная эстетика Восточного христианства.
6. На Западе никогда не любили Византию
Хотя торговля, религиозные и дипломатические контакты между Византией и государствами Западной Европы продолжались на протяжении всего Средневековья, трудно говорить о настоящем сотрудничестве или взаимопонимании между ними. В конце V века Западная Римская империя рассыпалась на варварские государства и традиция «римскости» прервалась на Западе, но сохранилась на Востоке. Уже через несколько веков новые западные династии Германии захотели восстановить преемственность своей власти с Римской империей и для этого заключали династические браки с византийскими принцессами.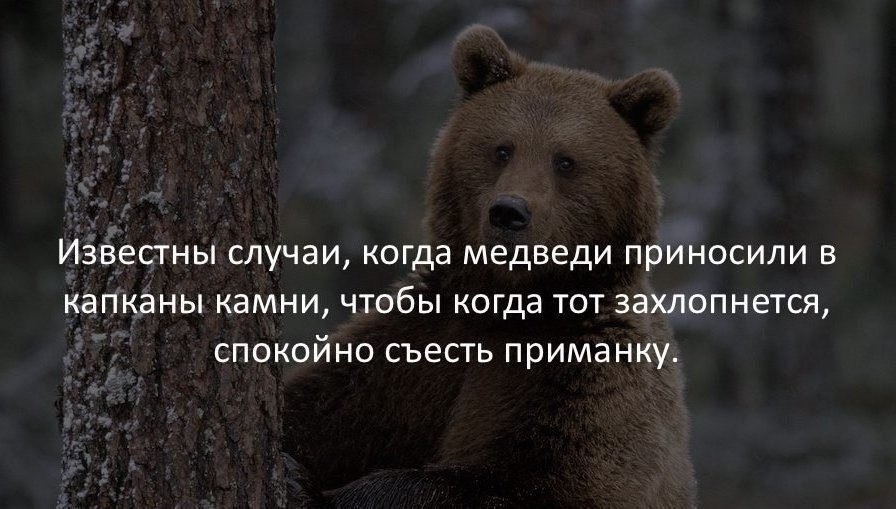 Двор Карла Великого соревновался с Византией — это видно в архитектуре и в искусстве. Однако имперские претензии Карла скорее усиливали непонимание между Востоком и Западом: культура Каролингского возрождения хотела видеть себя единственной законной наследницей Рима.
Двор Карла Великого соревновался с Византией — это видно в архитектуре и в искусстве. Однако имперские претензии Карла скорее усиливали непонимание между Востоком и Западом: культура Каролингского возрождения хотела видеть себя единственной законной наследницей Рима.
Крестоносцы атакуют Константинополь. Миниатюра из хроники «Завоевание Константинополя» Жоффруа де Виллардуэна. Ориентировочно 1330 год Виллардуэн являлся одним из руководителей похода. © Bibliothèque nationale de France
К X веку пути из Константинополя в Северную Италию по суше через Балканы и вдоль Дуная были перекрыты варварскими племенами. Остался лишь путь по морю, что сократило возможности сообщения и затруднило культурный обмен. Разделение на Восток и Запад стало физической реальностью. Идеологический разрыв между Западом и Востоком, подпитываемый на протяжении Средневековья богословскими спорами, усугубился во время Крестовых походов. Организатор Четвертого крестового похода, который закончился взятием Константинополя в 1204 году, папа римский Иннокентий III открыто заявил о главенстве Римской церкви над всеми остальными, ссылаясь на божественное установление.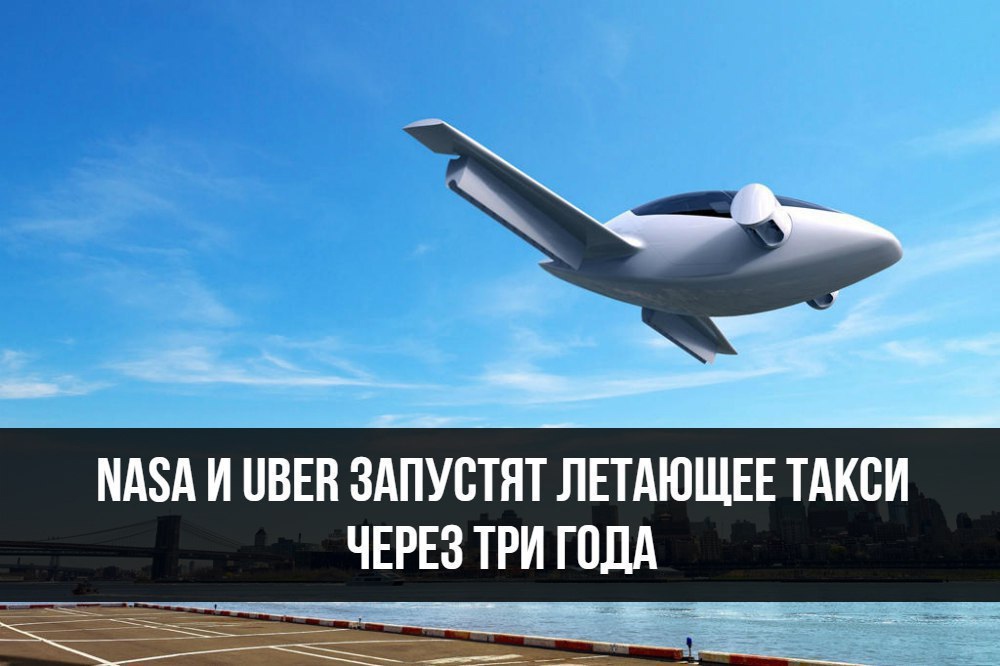
В итоге получилось, что византийцы и жители Европы мало знали друг о друге, но были настроены по отношению друг к другу недружелюбно. В XIV веке на Западе критиковали развращенность византийского духовенства и объясняли ею успехи ислама. Например, Данте считал, что султан Саладин мог бы обратиться в христианство (и даже поместил его в своей «Божественной комедии» в лимбе — особом месте для добродетельных нехристиан), но не сделал этого по причине непривлекательности византийского христианства. В западных странах ко времени Данте почти никто не знал греческий язык. В то же время византийские интеллектуалы учили латынь только для того, чтобы переводить Фому Аквинского, и ничего не слышали про Данте. Ситуация изменилась в XV веке после турецкого нашествия и падения Константинополя, когда византийская культура стала проникать в Европу вместе с византийскими учеными, бежавшими от турок. Греки привезли с собой много рукописей античных произведений, и гуманисты получили возможность изучать греческую античность по оригиналам, а не по римской литературе и немногим латинским переводам, известным на Западе.
Но ученых и интеллектуалов эпохи Возрождения интересовала классическая древность, а не то общество, которое ее сохранило. Кроме того, на Запад бежали в основном интеллектуалы, отрицательно настроенные по отношению к идеям монашества и православного богословия того времени и симпатизировавшие Римской церкви; их оппоненты, сторонники Григория Паламы, наоборот, считали, что лучше попытаться договориться с турками, чем искать помощи у папы. Поэтому византийская цивилизация продолжала восприниматься в негативном свете. Если древние греки и римляне были «своими», то образ Византии закрепился в европейской культуре как восточный и экзотический, иногда притягательный, но чаще враждебный и чуждый европейским идеалам разума и прогресса.
Больше европейских предрассудков:
Пять мифов о Византии
Подробнее рассказываем, почему византийцев стали считать отсталыми и склонными к роскоши интриганами — и как все было на самом деле
Век Европейского просвещения и вовсе заклеймил Византию. Французские просветители Монтескьё и Вольтер ассоциировали ее с деспотизмом, роскошью, пышными церемониями, суевериями, нравственным разложением, цивилизационным упадком и культурным бесплодием. По мнению Вольтера, история Византии — это «недостойный сборник высокопарных фраз и описаний чудес», который позорит человеческий разум. Монтескьё видит главную причину падения Константинополя в пагубном и всепроникающем влиянии религии на общество и власть. Особенно агрессивно он отзывается о византийском монашестве и духовенстве, о почитании икон, а также о богословской полемике:
Французские просветители Монтескьё и Вольтер ассоциировали ее с деспотизмом, роскошью, пышными церемониями, суевериями, нравственным разложением, цивилизационным упадком и культурным бесплодием. По мнению Вольтера, история Византии — это «недостойный сборник высокопарных фраз и описаний чудес», который позорит человеческий разум. Монтескьё видит главную причину падения Константинополя в пагубном и всепроникающем влиянии религии на общество и власть. Особенно агрессивно он отзывается о византийском монашестве и духовенстве, о почитании икон, а также о богословской полемике:
«Греки — великие говоруны, великие спорщики, софисты по природе — постоянно вступали в религиозные споры. Так как монахи пользовались большим влиянием при дворе, слабевшем по мере того, как он развращался, то получилось, что монахи и двор взаимно развращали друг друга и что зло заразило обоих. В результате все внимание императоров было поглощено тем, чтобы то успокаивать, то возбуждать богословские споры, относительно которых замечено, что они становились тем горячее, чем незначительнее была причина, вызвавшая их».
Так Византия стала частью образа варварского темного Востока, который парадоксальным образом включал в себя также главных врагов Византийской империи — мусульман. В ориенталистской модели Византия противопоставлялась либеральному и рациональному европейскому обществу, построенному на идеалах Древней Греции и Рима. Эта модель лежит, например, в основе описаний византийского двора в драме «Искушение святого Антония» Гюстава Флобера:
«Царь рукавом отирает с лица ароматы. Он ест из священных сосудов, потом разбивает их; и мысленно он пересчитывает свои корабли, свои войска, свои народы. Сейчас из прихоти он возьмет и сожжет свой дворец со всеми гостями. Он думает восстановить Вавилонскую башню и свергнуть с престола Всевышнего. Антоний читает издали на его челе все его мысли. Они овладевают им, и он становится Навуходоносором».
Мифологический взгляд на Византию до сих пор не до конца преодолен в исторической науке.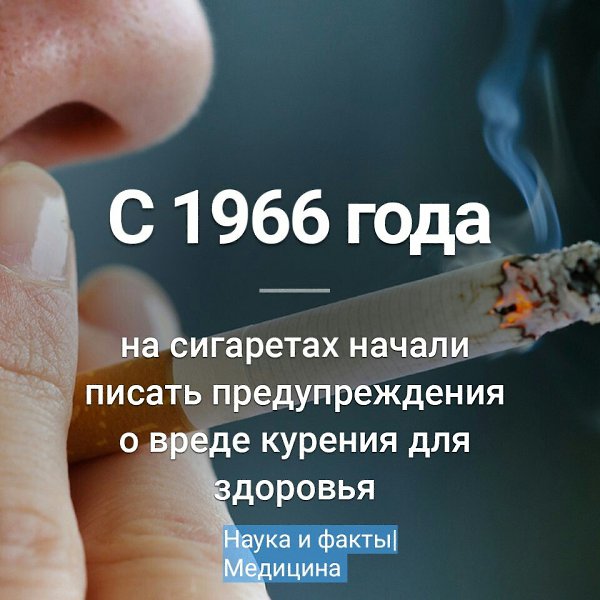 Конечно, ни о каком нравственном примере византийской истории для воспитания юношества и речи быть не могло. Школьные программы строились на образцах классической древности Греции и Рима, а византийская культура из них была исключена. В России наука и образование следовали западным образцам. В XIX веке спор о роли Византии для русской истории вспыхнул между западниками и славянофилами. Петр Чаадаев, следуя традиции европейского просвещения, горько сетовал о византийском наследии Руси:
Конечно, ни о каком нравственном примере византийской истории для воспитания юношества и речи быть не могло. Школьные программы строились на образцах классической древности Греции и Рима, а византийская культура из них была исключена. В России наука и образование следовали западным образцам. В XIX веке спор о роли Византии для русской истории вспыхнул между западниками и славянофилами. Петр Чаадаев, следуя традиции европейского просвещения, горько сетовал о византийском наследии Руси:
«По воле роковой судьбы мы обратились за нравственным учением, которое должно было нас воспитать, к растленной Византии, к предмету глубокого презрения этих народов».
Идеолог византинизма Константин Леонтьев Константин Леонтьев (1831–1891) — дипломат, писатель, философ. В 1875 году вышла его работа «Византизм и славянство», в которой он утверждал, что «византизм» — это цивилизация или культура, «общая идея» которой слагается из нескольких составляющих: самодержавия, христианства (отличного от западного, «от ересей и расколов»), разочарования во всем земном, отсутствия «крайне преувеличенного понятия о земной личности человеческой», отвержения надежды на всеобщее благоденствие народов, совокупности некоторых эстетических представлений и так далее. Поскольку всеславизм вообще не является цивилизацией или культурой, а европейская цивилизация подходит к своему концу, России — унаследовавшей у Византии почти все — необходим для расцвета именно византизм. указывал на стереотипное представление о Византии, сложившееся из-за школьного обучения и несамостоятельности российской науки:
Поскольку всеславизм вообще не является цивилизацией или культурой, а европейская цивилизация подходит к своему концу, России — унаследовавшей у Византии почти все — необходим для расцвета именно византизм. указывал на стереотипное представление о Византии, сложившееся из-за школьного обучения и несамостоятельности российской науки:
«Византия представляется чем-то сухим, скучным, поповским, и не только скучным, но даже чем-то жалким и подлым».
7. В 1453 году Константинополь пал — но Византия не умерла
Султан Мехмед II Завоеватель. Миниатюра из собрания дворца Топкапы. Стамбул, конец XV века © Wikimedia Commons
В 1935 году вышла книга румынского историка Николае Йорги «Византия после Византии» — и ее название утвердилось как обозначение жизни византийской культуры после падения империи в 1453 году. Византийская жизнь и институты не исчезли в одночасье. Они сохранялись благодаря византийским эмигрантам, бежавшим в Западную Европу, в самом Константинополе, даже оказавшемся под властью турок, а также в странах «византийского содружества», как британский историк Дмитрий Оболенский назвал восточноевропейские средневековые культуры, испытавшие прямое влияние Византии, — Чехию, Венгрию, Румынию, Болгарию, Сербию, Русь. Участники этого сверхнационального единства сохранили наследие Византии в религии, нормах римского права, стандартах литературы и искусства.
Участники этого сверхнационального единства сохранили наследие Византии в религии, нормах римского права, стандартах литературы и искусства.
В последние сто лет существования империи два фактора — культурное возрождение Палеологов и паламитские споры — способствовали, с одной стороны, обновлению связей между православными народами и Византией, а с другой — новому всплеску распространения византийской культуры, в первую очередь через литургические тексты и монашескую литературу. В XIV веке византийские идеи, тексты и даже их авторы попадали в славянский мир через город Тырново, столицу Болгарской империи; в частности, количество византийских сочинений, доступных на Руси, удвоилось благодаря болгарским переводам.
Кроме того, Османская империя официально признала константинопольского патриарха: в качестве главы православного миллета (или общины) он продолжал управлять церковью, в юрисдикции которой остались и Русь, и православные балканские народы. Наконец, правители дунайских княжеств Валахии и Молдавии, даже став подданными султана, сохранили христианскую государственность и считали себя культурно-политическими наследниками Византийской империи. Они продолжали традиции церемониала царского двора, греческой образованности и богословия и поддерживали константинопольскую греческую элиту, фанариотов Фанариоты — буквально «жители Фанара», квартала Константинополя, в котором находилась резиденция греческого патриарха. Греческую элиту Османской империи называли фанариотами, потому что они жили по преимуществу в этом квартале..
Они продолжали традиции церемониала царского двора, греческой образованности и богословия и поддерживали константинопольскую греческую элиту, фанариотов Фанариоты — буквально «жители Фанара», квартала Константинополя, в котором находилась резиденция греческого патриарха. Греческую элиту Османской империи называли фанариотами, потому что они жили по преимуществу в этом квартале..
Греческое восстание 1821 года. Иллюстрация из книги «A History of All Nations from the Earliest Times» Джона Генри Райта. 1905 год © The Internet Archive
Йорга считает, что Византия после Византии умерла во время неудачного восстания против турок 1821 года, которое организовал фанариот Александр Ипсиланти. На одной стороне знамени Ипсиланти были надпись «Сим победиши» и изображение императора Константина Великого, с именем которого связано начало византийской истории, а на другой — феникс, возрождающийся из пламени, символ возрождения Византийской империи. Восстание было разгромлено, константинопольского патриарха казнили, а идеология Византийской империи после этого растворилась в греческом национализме.
Восстание было разгромлено, константинопольского патриарха казнили, а идеология Византийской империи после этого растворилась в греческом национализме.
а еще:
Что читать о Византии
Шесть книг о византийской культуре
Краткая история византийского искусства
17 важнейших памятников архитектуры, живописи и декоративного искусства
Византийцы против соседей
Что думали друг о друге византийцы, латиняне, армяне и арабы
Теги
Средние века
Радио ArzamasНиколай Гумилев в пути
Новый курс литературоведа Валерия Шубинского — о том, как Царское Село, Петербург, Париж, Лондон, Каир, Аддис-Абеба и Петроград отражались в стихах и в личной жизни поэта
Хотите быть в курсе всего?
Подпишитесь на нашу рассылку, вам понравится. Мы обещаем писать редко и по делу
Курсы
Все курсы
Спецпроекты
Лекции
14 минут
1/6
Что такое Византия
Что называют Византийской империей, на каком языке говорили и писали ее жители и как до нас дошла их литература
Читает Сергей Иванов
Что называют Византийской империей, на каком языке говорили и писали ее жители и как до нас дошла их литература
14 минут
2/6
От «языческой пропаганды» к истории церкви
Зачем христианские историки подражали античным, как историю заменили пророчества и какое отношение хроника имеет к демократии
Читает Сергей Иванов
Зачем христианские историки подражали античным, как историю заменили пророчества и какое отношение хроника имеет к демократии
13 минут
3/6
Конец истории
Как быть историком гибнущей империи
Читает Сергей Иванов
Как быть историком гибнущей империи
14 минут
4/6
Сладкопевцы и их каноны
Как новый мир потребовал новых стихов и что высокая поэзия взяла у античных поэтов, а что — у народа
Читает Сергей Иванов
Как новый мир потребовал новых стихов и что высокая поэзия взяла у античных поэтов, а что — у народа
15 минут
5/6
Массовое чтение византийцев
Как привлечь паломников, зачем нужны юродивые и как государство убило самый живой литературный жанр
Читает Сергей Иванов
Как привлечь паломников, зачем нужны юродивые и как государство убило самый живой литературный жанр
15 минут
6/6
Любовь и приключения в Византии
Что такое византийский любовный роман и кто спас от гибели литературу Византии
Читает Сергей Иванов
Что такое византийский любовный роман и кто спас от гибели литературу Византии
Материалы
Самые важные факты о Византии
Все, что должен понимать о Византии современный человек, в 7 пунктах
История Византии в 22 пунктах
Важнейшие сведения об истории и культуре Византии в удобном и кратком изложении
Пять мифов о Византии
Были ли византийцы отсталыми набожными интриганами, склонными к роскоши и деспотизму?
Что читать о Византии
Шесть книг о византийской культуре
Краткая история византийского искусства
17 важнейших памятников архитектуры, живописи и декоративного искусства
Душа, империя и немного эротики
Десять хитов византийской литературы
Споры о главном
Из-за чего ссорились византийцы
История византийского пения
Как менялась традиция византийского церковного пения от первых упоминаний до наших дней
Искусство пропаганды
Как стихами влиять на общественное мнение
Византийцы против соседей
Что думали друг о друге византийцы, латиняне, армяне и арабы
К кому пойти лечиться
Вылечите больных, обратившись к подходящим святым
Радио «Византия»
Плейлист, который поможет представить, как звучала византийская музыка
Тайна синайского кодекса
Как найденный в монастыре Святой Екатерины манускрипт помог воскресить исчезнувший язык
Как читать невидимые тексты
Американский ученый — о современных способах читать утерянные рукописи
Россия — наследница Византии?
Сергей Иванов объясняет, откуда взялся распространенный миф и где в нем зерна истины
О проектеЛекторыКомандаЛицензияПолитика конфиденциальностиОбратная связь
Радио ArzamasГусьгусьСтикеры Arzamas
ОдноклассникиVKYouTubeПодкастыTwitterTelegramRSS
История, литература, искусство в лекциях, шпаргалках, играх и ответах экспертов: новые знания каждый день
© Arzamas 2022.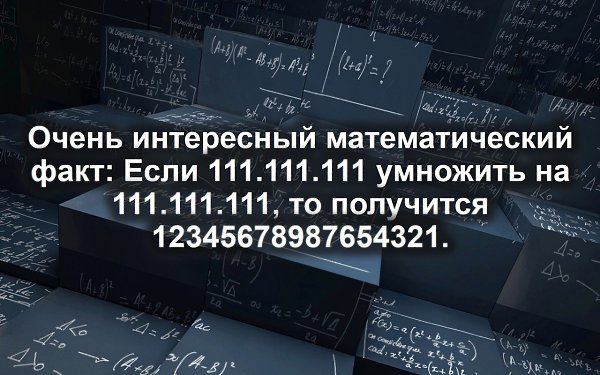 Все права защищены
Все права защищены
Что сделать, чтобы не потерять подписку после ухода Visa и Mastercard из России? Инструкция здесь
25 интересных фактов о сне человека
Сон – удивительное состояние организма, с которым связано как множество мифов, так и целый ряд необычных, но доказанных наукой фактов и явлений.
Мы собрали для вас 25 самых интересных и увлекательных фактов про сон, о которых знает современная наука.
Интересные факты о сне
1. Примерно 25 лет своей жизни мы проводим во сне, причём видим сны шесть лет, то есть четверть всего времени.
2. У здорового человека сон происходит циклически, раз в 24 часа. Такой цикл называется циркадным и определяет настройку наших внутренних часов, согласно световому дню. Именно из-за этой цикличности так важно ложиться спать в одно и то же время.
3. В разном возрасте потребность в сне различна. Так, для маленьких детей необходимо спать 10-11 часов, подросткам 9-10, взрослым 7-8 часов, а пожилым людям всего около 6-7 часов.
4. Некоторые исторические личности были способны спать всего 3-4 часа в сутки. Эдисон, Да Винчи, Франклин, Тесла, Черчилль – все они спали гораздо меньше признанной нормы и чувствовали себя вполне здоровыми. Учёные считают, что подобные нарушения сна – обратная сторона большого таланта или гениальности, которая не всегда во благо.
5. Человек может прожить без сна всего несколько дней, однако науке известны и уникальные случаи. Так, например, солдат австро-венгерской армии Пауль Керн получил ранение в голову, которое уничтожило часть лобной доли его мозга. В результате чего Пауль перестал спать и чувствовать боль. Его неоднократно исследовали венгерские врачи, однако ни найти причину такого состояния, ни устранить её они оказались не в состоянии. Пауль умер спустя 40 лет, так ни разу и не уснув за всё это время.
6. Хроническая нехватка сна (менее 6 часов в сутки) ведёт к расстройству слуха и зрения, повышению тревожности, навязчивым состояниям и нервным тикам, неспособности сосредоточиться, апатии и общей слабости, нарушению обмена веществ и быстрому набору веса. Полное отсутствие сна в течение нескольких суток приводит к потере самоидентификации, зрительным и слуховым галлюцинациям и параноидальному синдрому, а впоследствии – к смерти.
Полное отсутствие сна в течение нескольких суток приводит к потере самоидентификации, зрительным и слуховым галлюцинациям и параноидальному синдрому, а впоследствии – к смерти.
7. Микросон — это кратковременный сон, который длится от одной до нескольких секунд и возникает неожиданно. Считается, что его причинам становится общая нехватка сна ночью, усталость или депрессия. Это состояние может быть очень опасным, если случается по время управления транспортом или при манипуляциях со сложным оборудованием, требующим внимания.
8. Научные факты о сне человека свидетельствуют, что с возрастом структура сна меняется. Человеческий сон имеет две фазы: быструю и медленную. У взрослых они сменяют друг друга примерно каждые 1,5 часа, при этом человек чаще всего даже не замечает перехода от одного цикла к другому. Маленькие же дети имеют сокращённый цикл в 40 минут, что и является основной причиной депривации сна у родителей грудничков.
9. Интересно, что стадия быстрого сна, когда мы способны видеть сновидения, появляется у плода уже после 28 недели беременности. И хотя ребёнок ещё не «видит сны» в том смысле, в котором мы понимаем это, подобную активность головного мозга всё-таки можно назвать сном.
Интересно, что стадия быстрого сна, когда мы способны видеть сновидения, появляется у плода уже после 28 недели беременности. И хотя ребёнок ещё не «видит сны» в том смысле, в котором мы понимаем это, подобную активность головного мозга всё-таки можно назвать сном.
10. Если вас беспокоит вопрос, какие ночные часы дают больше отдыха, то учёные знают ответ: в средней полосе наибольшую пользу принесёт сон между 22 и 24 часами, в тропическом регионе с 23 до часа ночи, за полярным кругом с 21 до 23 часов.
11. Почти все люди на свете видят сны, однако 90% просмотренных сновидений мы забываем в течение получаса после того, как проснулись. Существуют техники по т.н. «осознанному сновидению», когда можно не только запоминать свои сны, но и управлять ими.
12. Между тем учёные до сих пор спорят, что же именно такое наши сны и для чего они вообще нужны. В настоящий момент единой общепризнанной версии не существует.
13.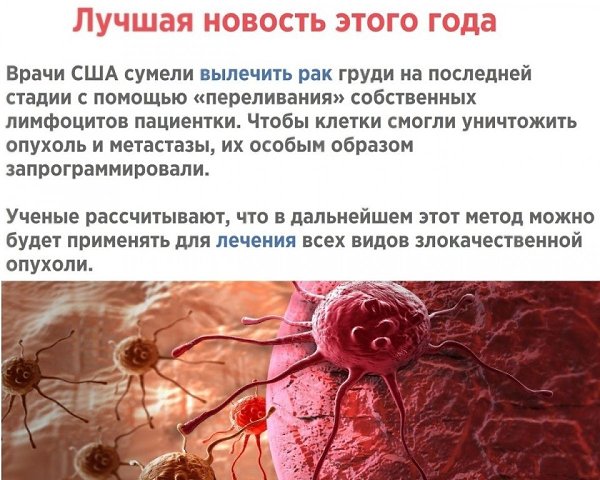 Последние исследования доказывают, что на качество сна влияет состав питания, получаемый человеком. Так, высокобелковая диета снижает вероятность возникновения нарушения сна, тогда как рацион, содержащий преимущественно углеводы, может привести к бессоннице.
Последние исследования доказывают, что на качество сна влияет состав питания, получаемый человеком. Так, высокобелковая диета снижает вероятность возникновения нарушения сна, тогда как рацион, содержащий преимущественно углеводы, может привести к бессоннице.
14. Существуют интересные факты про сон у животных. Учёные обнаружили, что во время сна некоторые млекопитающие испытывают сходную с человеческой активность мозга. Однако в отличие людей, сны животных наполнены только событиями и действиями, которые происходили с ними на самом деле. Можно сказать, что животные просто продолжают жить своей обычной жизнью – только во сне.
15. Почти все народы мира верят в то, что сны могут быть вещими. У некоторых традиционных сообществах Африки снам придают настолько большое значение, что на их основании принимают решения о браке, справедливости или даже войне.
16. Внешние факторы оказывают влияние на наши сны. Так, например, слишком душная температура в комнате приведёт к кошмарам, связанным с теснотой помещения, огнём и задымлением, а сквозняк, наоборот, к образам льда и замерзания.
17. Многие научные открытия были совершены во сне. Это связано с тем, что во время сна наш мозг совершенно иначе интерпретирует уже заложенную в него информацию. Именно во сне происходит обработка, сортировка и анализ всех полученных за день данных. Иногда в результате них получается настоящее открытие. Так, например, структура атому явилась Нильсу Бору во сне, так же как и формула бензола — химику Фридриху Кекуле и знаменитая периодическая таблица – Дмитрию Менделееву. Рихард Вагнер утверждал, что своё творение «Тристан и Изольда» он тоже придумал не сам, а просто услышал во сне.
18. Новейшие факты о сне говорят, что во время фазы быстрого сна отмечается усиление секреции гормонов надпочечников и кровоснабжения головного мозга, а также изменения в ритме дыхания и сердцебиения. Во время фазы медленного сна происходит закладка базовых воспоминаний, повышается секреция Т-лимфоцитов, ответственных за поддержку иммунитета.
19. Во время сна происходит ускорение обмена веществ в сторону анаболизма, то есть образование новых клеток и тканей. Происходит обновление всего организма.
Происходит обновление всего организма.
20. Существует специальная наука о сне – сомнология. Она находится на стыке нейробиологии и медицины.
21. Во многих культурах, расположенных в тёплом климате, распространён дневной сон или сиеста. Согласно последним исследованиям, регулярный дневной сон снижает риск сердечнососудистых заболеваний.
22. Современное толкование снов является одним из широко используемых методов психоанализа. Он основан на интерпретации символики сновидений и применяется исключительно индивидуально.
23. Начиная с 2008 года, каждую вторую пятницу марта отмечается Всемирный день сна.
24. Сон и сновидения – типичный объект художественного и литературного творчества. Писатели, поэты и художники многих стран на протяжении веков вдохновлялись этим процессом, а Вильям Шекспир использовал сны своих героев как способ выражения их мыслей и намерений.
25. Лунатизм или снохождение является довольно редким нарушением сна, при котором спящие люди могут ходить и совершать какие-то действия во сне. Их мозг при этом пребывает в состоянии полусна-полубодрствования. Проснувшись, лунатики обычно ничего не помнят. Интересно, что наиболее часто случаи лунатизма происходят с детьми, подвергающиеся хроническому стрессовому воздействию, а также с людьми, находящимися в депрессии.
Лунатизм или снохождение является довольно редким нарушением сна, при котором спящие люди могут ходить и совершать какие-то действия во сне. Их мозг при этом пребывает в состоянии полусна-полубодрствования. Проснувшись, лунатики обычно ничего не помнят. Интересно, что наиболее часто случаи лунатизма происходят с детьми, подвергающиеся хроническому стрессовому воздействию, а также с людьми, находящимися в депрессии.
Мы надеемся, что наши интересные факты про сон смогли показать, насколько удивительный и сложный процесс – человеческий сон.
Читайте также:
15 доказанных фактов о пользе колыбельных для младенцев
Польза колыбельных не только исторически проверена, но и научно доказана. Лучшие неонатологи Европы и Азии используют пение колыбельных песен в качестве укрепляющей, поддерживающей и успокаивающей терапии для недоношенных младенцев. Читайте 15 доказанных фактов о пользе колыбельных.
Дневной сон — нужен ли он?
Дневной сон позволяет взбодриться, восстановить ясность ума и энергию .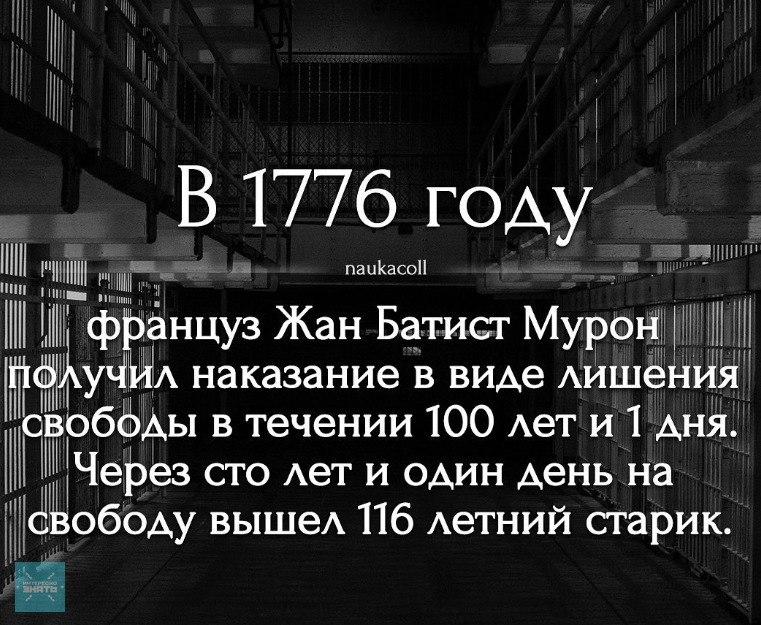 Существует несколько правил, которые позволят в полной мере воспользоваться преимуществами дневного сна для взрослых.
Существует несколько правил, которые позволят в полной мере воспользоваться преимуществами дневного сна для взрослых.
книг по STEM для детей (и другие ресурсы)
© 2017–2021 Гвен Дьюар, доктор философии, все права защищены
знать плохие новости. Во всем мире рациональность подвергается нападкам. Политики отрицают факты. Взрослые отвергают научные доказательства.
Хорошая новость заключается в том, что найти отличные книги, игры и приложения для обучения детей концепциям STEM еще никогда не было так просто. Вот несколько таких ресурсов, некоторые из которых я упоминал в своих статьях для Parenting Science. Я буду добавлять больше в будущем.
Полное раскрытие информации: я включаю ссылки на товары, которые можно приобрести на Amazon.com. Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках. Это означает, что (бесплатно для вас) я получу комиссию, если вы перейдете по ссылке и совершите покупку.
Занятия и эксперименты
Хотите проводить дома разнообразные увлекательные эксперименты — эксперименты, иллюстрирующие удивительные явления, и для этого нужны только те предметы, которые у вас уже есть под рукой?
Проверьте Кристал Чаттертон Удивительные научные эксперименты для детей: более 100 забавных проектов STEM / STEAM и почему они работают. Химик по образованию, Чаттертон не просто говорит вам, что делать. Она также объясняет — четко и очень лаконично — «как и почему» того, что вы будете наблюдать. Отличный ресурс для семей с детьми начальной школы.
Химик по образованию, Чаттертон не просто говорит вам, что делать. Она также объясняет — четко и очень лаконично — «как и почему» того, что вы будете наблюдать. Отличный ресурс для семей с детьми начальной школы.
Для детей младшего возраста посетите мои страницы Parenting Science, посвященные занятиям и экспериментам для дошкольников.
Астрономия и физика
Раньше ночное небо было хорошим инструментом для трудоустройства в STEM. В настоящее время световое загрязнение мешает многим детям увидеть удивительное звездное небо. Но есть отличные ресурсы для начинающих астрономов и физиков.
На веб-сайте НАСА представлено множество бесплатных онлайн-игр и занятий, связанных с исследованием космического пространства и астрономией.
Кроме того, я рекомендую книги Professor Astro Cat физика Доминика Уоллимана и иллюстратора Бена Ньюмана. В книге «Границы космоса» профессора Астро Кэт Уоллиман рассказывает детям об освоении космоса. Атомное приключение профессора Астрокота учит детей физике. Эти книги умные, увлекательные и юмористические. Их иллюстрации смелые и привлекательные, с оттенком ранней космической эры и ретро.
Эти книги умные, увлекательные и юмористические. Их иллюстрации смелые и привлекательные, с оттенком ранней космической эры и ретро.
Дети также будут вдохновлены книгами Дэвида Агилара. Его «Космическая энциклопедия: путешествие по нашей Солнечной системе и за ее пределами» (National Geographic Kids) прекрасно иллюстрирована фотографиями и потрясающими натуралистическими картинами.
Компьютерное программирование
Да, дети могут научиться программировать — и это может повысить их интерес к программированию и робототехнике.
Например, в одном экспериментальном исследовании 6-летних девочек учили программировать робота с помощью простых команд (вперед, назад, вправо, влево, повторить).
Всего через 20 минут игры дети были опрошены об их отношении к игре. По сравнению с девочками из контрольной группы девочки, которые только что занимались программированием, выражали больший энтузиазм в отношении программирования и большую уверенность в своих способностях использовать роботов (Master et al. , 2017).
, 2017).
Но с чего и как начинать детям?
Получите учетную запись Scratch — бесплатно!
Скриншот редактора проектов Scratch — авторские права Scratch Foundation
Исследователи Массачусетского технологического института разработали бесплатную онлайн-среду программирования для детей. Как отмечают в Массачусетском технологическом институте, он называется «Scratch» и является «проектом Scratch Foundation в сотрудничестве с Lifelong Kindergarten Group в MIT Media Lab».
С помощью Scratch дети выбирают элементы визуального программирования и учатся объединять их в последовательности кода. Есть и другие платформы программирования для детей, но у Scratch есть особенности, которые мне очень нравятся:
- Правило творчества и универсальности. Дети могут создавать анимации, аркадные игры, интерактивные истории, программы чата, генераторы случайных ответов, продвинутые платформеры, калькуляторы и домашние упражнения.
- Дети присоединяются к сообществу.
 Они могут публиковать и делиться своими творениями с другими.
Они могут публиковать и делиться своими творениями с другими. - Сообщество модерируется сотрудниками Массачусетского технологического института.
Scratch предназначен для детей в возрасте от 8 лет и старше. Для детей младшего возраста — 5-7 лет — исследователи Массачусетского технологического института также создали Scratch Junior. Он избегает текстовых команд в пользу чисто визуальных и, как и Scratch, бесплатный.
Вам не нужны никакие книги по использованию Scratch, но я рекомендую одну, особенно если у вас нет опыта знакомства детей с программированием.
DK издает ряд рабочих тетрадей Scratch для детей младшего возраста, в том числе DK Workbooks: Coding in Scratch: Games Workbook. Мотивированные дети в возрасте 5 лет могут успешно использовать их, если они работают вместе, а взрослые им помогают.
Для детей постарше «Как программировать за 10 простых уроков: узнайте, как разработать и написать код для своей собственной компьютерной игры» («Супернавыки») — отличная книга для начинающих для всех, кто ничего не смыслит в программировании. Он не предполагает никаких предварительных знаний или опыта и действует как своего рода общая ориентация, которую можно пройти совершенно быстро. Помимо знакомства детей со Scratch, книга также включает в себя несколько упражнений по HTML. Книга рекомендована для детей от 8 лет.
Он не предполагает никаких предварительных знаний или опыта и действует как своего рода общая ориентация, которую можно пройти совершенно быстро. Помимо знакомства детей со Scratch, книга также включает в себя несколько упражнений по HTML. Книга рекомендована для детей от 8 лет.
Еще одна хорошая отправная точка для детей старшего возраста (возраст 8+) — превосходные игры Джона Вудкока по кодированию в Scratch. В отличие от «10 простых уроков программирования», эта книга посвящена исключительно Scratch, и это гораздо более длинная работа. Он ведет детей шаг за шагом через создание восьми игр.
Для детей старшего возраста, которые уже изучили основы — или которые могут быстро во всем разобраться — мне также нравится «Площадка для программирования на языке Scratch» Эла Свейгарта: «Учитесь программировать, создавая крутые игры». Свейгарт шаг за шагом проводит читателя через программирование каждого проекта, проиллюстрированного скриншотами. Кульминационным проектом является продвинутая игра-платформер. Книга отлично помогает научить читателей решать определенные типы задач в Scratch (например, как клонировать объекты, разделять их на две части или отскакивать от стен). Он также предлагает детям придумывать свои собственные модификации. Чего он не пытается сделать, так это научить детей основам программирования, которые вы найдете в учебнике по информатике для средней школы.
Книга отлично помогает научить читателей решать определенные типы задач в Scratch (например, как клонировать объекты, разделять их на две части или отскакивать от стен). Он также предлагает детям придумывать свои собственные модификации. Чего он не пытается сделать, так это научить детей основам программирования, которые вы найдете в учебнике по информатике для средней школы.
Если это то, что вы ищете, обратите внимание на книгу Маджеда Марджи «Учитесь программировать с помощью Scratch: визуальное введение в программирование с помощью игр, искусства, науки и математики». Обе книги предназначены для детей от 10 лет.
Компьютерные эксперименты
Возможно, у вас нет компьютера, на котором ваш ребенок мог бы программировать. Или, может быть, вы хотели бы демистифицировать части компьютера, собрав их дома. Или, может быть, у вас есть старший ребенок, который хотел бы построить компьютерную метеостанцию, камеру слежения, робота или игровую приставку.
Какое решение? Raspberry Pi — очень маленький и очень дешевый компьютер, работающий под управлением операционной системы Linux, а также Raspbian (операционная система, созданная специально для компьютеров Pi).
Raspberry Pi, созданный благотворительной организацией в Великобритании, выпускается в нескольких моделях: от простейшего Pi Zero до более продвинутых моделей Raspberry Pis 3 и 4.
Если вы новичок в этом роде конечно, вы можете с помощью стартового комплекта Pi. Комплекты различаются по составу. Моей семье повезло с полным стартовым комплектом Raspberry Pi 3 от Vilros, который включал компьютер, корпус, блок питания, 2 радиатора и карту micro SD с предустановленным программным обеспечением установки (NOOBS), которое поможет вам настроить операционная система на ваш выбор.
Вы можете узнать цену на этот конкретный набор здесь, но я рекомендую вам присмотреться и определить, какая модель и упаковка больше всего подходят для ваших нужд. И что бы вы ни выбрали, имейте в виду, что вам также потребуется обычная периферия — клавиатура, мышь, монитор.
Узнайте больше о Raspberry Pi и его активном сообществе пользователей, посетив веб-сайт The Raspberry Pi Foundation.
Эволюция и экология
Мой собственный опыт связан с поведенческой экологией и эволюционной антропологией, и я всю жизнь увлекаюсь палеонтологией. Так что я предвзят. Но есть объективные причины полагать, что динозавры – отличный способ для детей изучить важные понятия биологии. Исследования показывают, что любопытство способствует обучению (Gruber et al 2014), и немногие темы могут возбудить любопытство ребенка больше, чем динозавры!
В этой статье «Наука о воспитании» я предлагаю советы, как превратить интерес вашего ребенка к динозаврам в страсть к науке, а также предлагаю несколько отличных книг для обучения биологическим понятиям.
Среди них сборник рассказов «Как пилосы эволюционировали в тонкие носы (развивающиеся умы)», созданный исследователями и испытанный на детях в возрасте от 5 до 8 лет. В ходе экспериментов исследователи обнаружили, что простое чтение этой истории вслух детям улучшает их понимание эволюции и естественного отбора.
Еще одна хорошая книга — не проверенная исследователями, но красивая и хорошо продуманная — «Остров Джейсона Чина: Галапагосская история». В этой книге рассказывается о развитии вулканического острова, и в серии последовательных панелей показано, как жизнь сначала зарождается, а затем адаптируется к изменениям с течением времени.
В этой книге рассказывается о развитии вулканического острова, и в серии последовательных панелей показано, как жизнь сначала зарождается, а затем адаптируется к изменениям с течением времени.
Чтобы заставить дошкольников задуматься о поведении животных, мне нравятся некоторые из книг «Стадия 1» из серии «Давайте прочитаем и узнаем» Харпер Коллинз. Книга «Как детеныши животных остаются в безопасности» (наука «Давайте прочитаем и узнаем») исследует такие понятия, как маскировка и родительская забота. Большие следы, маленькие следы: следуя следам животных (давайте прочитаем и узнаем науку, этап 1) заставляет детей задуматься о следах, которые оставляет поведение, и предлагает отправную точку для отслеживания действий.
Для получения информации об отслеживании см. эту статью о когнитивных проблемах, которые оно представляет, а также рекомендуемые занятия для маленьких детей.
Для детей старшего возраста, готовых узнать об истории жизни на Земле, я рекомендую очень занимательные мультфильмы Хелен Боннер «Когда у рыб появились ноги», «Когда жуки были большими» и «Когда рассветали динозавры: предыстория жизни на Земле» (National Geographic Kids). Как видно из названия, информация представлена в формате комиксов.
Как видно из названия, информация представлена в формате комиксов.
Математика
Как я объяснял в другом месте, определенные типы настольных и карточных игр могут помочь маленьким детям узнать о числовой прямой. Кроме того, исследования показывают, что мы можем улучшить ранние математические навыки с помощью этих дошкольных заданий с числами.
Всего несколько минут в день с правильным образовательным приложением могут иметь большое значение для некоторых детей.
Например, в экспериментальном исследовании 587 первоклассников Талия Берковиц и ее коллеги раздали каждой участвующей семье iPad, а затем поручили некоторым детям использовать бесплатное математическое приложение на основе рассказов под названием «Математика перед сном». Другим детям (в контрольной группе) было предложено использовать приложение, в котором также можно было рассказывать истории, но не было математического содержания.
В течение учебного года дети, которые часто использовали математическое приложение со своими родителями, добились значительных успехов по сравнению с детьми из контрольной группы. И эффект наиболее драматичен среди детей, родители которых озабочены математикой (Berkowitz et al 2016). Вы можете получить это приложение бесплатно на веб-сайте Bedtime Math.
И эффект наиболее драматичен среди детей, родители которых озабочены математикой (Berkowitz et al 2016). Вы можете получить это приложение бесплатно на веб-сайте Bedtime Math.
Нас не должно удивлять, что хорошо составленные учебные материалы могут стимулировать достижения, особенно если они помогают родителям найти способы объяснить и научить. Лично меня впечатляют книги Лорин Лиди, которые в основном предназначены для детей младших и средних классов начальной школы.
В ее книге «Измерение пенни» (Вставай и сияй) рассказывается о ребенке, который измеряет свою собаку. Лиди исследует как стандартные, так и нестандартные единицы измерения и вдохновляет читателей (2-4 классы) заниматься собственными проектами по измерению. Другие отличные математические книги Лиди см. в книгах «Миссия: сложение», «Большой конкурс графиков», «Вычитание» и «Это, вероятно, пенни».
А как насчет детей старшего возраста — детей, которые научились умножению, делению, дробям и десятичным числам?
Я заметил, что многих детей отталкивает математика, потому что она, кажется, связана с запоминанием фактов сложения, таблицы умножения и простых алгоритмов. Они не осознают, что математика может быть красивой и раскрывать удивительные закономерности. Этих детей нужно знакомить с математикой как с интеллектуальным предметом, а не просто с возможностью механического заучивания. И для этого я рекомендую две живые, богато иллюстрированные книги Джонни Болла.
Они не осознают, что математика может быть красивой и раскрывать удивительные закономерности. Этих детей нужно знакомить с математикой как с интеллектуальным предметом, а не просто с возможностью механического заучивания. И для этого я рекомендую две живые, богато иллюстрированные книги Джонни Болла.
In Go Figure!: Большие вопросы о числах, Болл прослеживает происхождение различных систем счисления по всему миру и знакомит с «магическими» числами (пи, магические квадраты, золотое сечение, простые числа и т. д.), а также с геометрией. топология, логика и теория хаоса. На протяжении всего текста Болл наполняет текст вопросами, головоломками и действиями.
В своей второй книге «Почему пи?» (Большие вопросы), Болл исследует множество приложений математики — как люди на протяжении всей истории использовали математику, чтобы понять мир. Темы включают измерение времени, электричества, музыки, света, навигации и картографирования.
Пространственные навыки и построение
Говоря о навигации и картировании, есть свидетельства того, что маленькие дети могут изучать и использовать простые карты. Игра Гейл Хартман «Как летит ворона» («Вставай и свети») помогает познакомить дошкольников с концепцией картографирования, заставляя их представить землю с высоты птичьего полета. Для детей младшего школьного возраста будет полезна книга Лорин Лиди Mapping Penny’s World.
Игра Гейл Хартман «Как летит ворона» («Вставай и свети») помогает познакомить дошкольников с концепцией картографирования, заставляя их представить землю с высоты птичьего полета. Для детей младшего школьного возраста будет полезна книга Лорин Лиди Mapping Penny’s World.
Для получения дополнительной информации о занятиях по картированию см. эту статью Parenting Science о развитии пространственных навыков. Там я также обсуждаю доказательства того, что конструкторы могут улучшать пространственные навыки.
Как это работает? Исследования показывают, что игра с кубиками помогает детям научиться моделировать формы в уме, чтобы они могли предугадывать, как объекты выглядят под разными углами. Также оказывается, что особая форма игры — структурированная блочная игра — особенно полезна.
Если учесть, что игра в конструктор имеет и другие образовательные преимущества, оказывается, что игрушки-конструкторы, такие как традиционные строительные блоки, Lego, Mega Blox и деревянные доски, являются одними из самых универсальных, прочных и экономичных игрушек, которые вы можете купить.
Могут ли видеоигры улучшить пространственные навыки? Я думаю, что доказательства довольно убедительны. В ходе экспериментов люди, которым было поручено играть в видеоигры-экшены («стрелялки» от первого лица), приобрели лучшие способности к умственному вращению (Green and Bavelier, 2007; Feng et al., 2007; Boot et al., 2008). На сегодняшний день по крайней мере одно исследование также выявило пользу от классической игры в тетрис (Terlecki et al 2008).
Ссылки: книги STEM для детей
Berkowitz T, Schaeffer MW, Maloney EA, Peterson L, Gregor C, Levine SC, Beilock SL. 2015. Математика дома способствует успеваемости в школе. Наука 350 (6257): 196-198.
Boot WR, Kramer AF, Simons DJ, Fabiani M, and Gratton G. 2008. Влияние видеоигр на внимание, память и исполнительный контроль. Acta Psychol (Амст). 129(3):387-98.
Фэн Дж., Спенс И. и Пратт Дж. 2007 г. Игра в видеоигру уменьшает гендерные различия в пространственном познании. Психологические науки. 18(10):850-5.
18(10):850-5.
Green CS и Bavelier D. 2007. Опыт видеоигры в жанре экшн изменяет пространственное разрешение зрения. Психологические науки. 18(1):88-94.
Грубер М.Дж., Гельман Б.Д., Ранганат С. 2014. Состояние любопытства модулирует зависимое от гиппокампа обучение через дофаминергическую цепь. Нейрон. 84(2):486-96.
Мастер и др. 2017. Опыт программирования способствует повышению STEM-мотивации первоклассниц. J Exp Детская психология. 160:92-106.
Содержание «Книги STEM для детей» последнее изменение 11.12.2021
Изображение предоставлено для книг STEM для детей
изображение мальчика и мальчика, читающего от istock / mangpor_2004
Скриншот Scratch получен Parenting Science по лицензии Creative Commons CC BY-SA 2.0. Изображение Scratch защищено авторскими правами Scratch Foundation.
VK Rocks STEM — Клубы STEM
Буклет AES по работе с лососем
График ухода за животными на 2022 год
youtube.com/embed/G7cNzXma91k» allowfullscreen=»»/>
Из-за закрытия нашей школы нам пришлось выпустить мальков кеты в ручей Артондейл раньше, чем ожидалось в этом году, и без помощь наших друзей из клуба ухода за животными. Пожалуйста, ознакомьтесь с каруселью изображений ниже.
256 мальков лосося были выпущены в воскресенье, 22 марта 2020 г., в ручей Артондейл.
Особая благодарность миссис Дункан за всю ее помощь. Я не смог бы сделать это без тебя.
Выпуск кеты
Апрель 2019 г. Доступно с использованием GoPro
2018 -19 Critter Care Club
Salmon Project. 9 апреля 2019 г. мы выпустили 151 лосося в Артондейл-Крик. Посмотрите видео.
Посмотрите видео.
Факты о лососе
Урок жизненного цикла лосося
Artondale STEAM Fair 2020 3 марта, с 17:00 до 19:00
Регистрация
Крайний срок регистрации 18 декабря.
Обзор
Шаг 1 — Идея и исследования
Шаг 2 — Проверенный вопрос
Шаг 3 — Проектируйте эксперимент и запишите результаты
.
 ваши результаты
ваши результатыШаг 5. Сообщите о своих результатах
Буклет для подготовки к эксперименту STEAM Fair 2020
Разница между экспериментом и проектом научной ярмарки: Spangler Science
Научный инструмент Тема: ScienceBuddies.org
Эксперимент с маятником:
Исследовательский вопрос: Как длина маятника влияет на количество колебаний, которое он сделает за 15-секундный тест?
Исследование: посмотрите видео с маятником, прежде чем написать свою гипотезу изменится в этом эксперименте длина маятника.

Оборудование: измерительная линейка, ножницы. Материалы: веревка, шайба, лента, карандаш, стол или потолок, держатель для скрепки.
Harbour WildWatch: For the Birds
9 мая — июнь 2019 г.
ПРИМЕЧАНИЕ. 23 мая клуб закрыт. 2)
Крайний срок регистрации 1 мая.
youtube.com/embed/RJ4eWfvUwz4″ allowfullscreen=»»/>Яйца такие классные!!!
Сколько различных яиц вы знаете?
Какое самое большое яйцо на Земле?
Были ли когда-нибудь яйца большего размера?
Посмотрите это видео, чтобы узнать больше…
В настоящее время в 2018-19 годах работают следующие клубы: Вязание, Модный дизайн, Инженерный дизайн, Кинокритики и Бегуны на переменах
Вещи, которые мы видели на нашей охоте на природе:
Нажмите на картинку, чтобы узнать больше!
10 фактов, которые должен знать каждый христианин. Часть 1. На основе истины из Crystal Sea Books.
 0001
0001
Эпизод 173 – 10 фактов, которые должен знать каждый христианин 1 Добро пожаловать в книгу «Якорь истины», созданную издательством Crystal Sea Books. В Иоанна 14:6 Иисус сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь». Целью «Закрепленных истиной» является поощрение каждого возрастать в христианской вере, привязываясь к надежной истине, содержащейся во вдохновленном, непогрешимом и непогрешимом Слове Божьем. Сценарий: Тогда Бог сказал: Да будет свет, и стал свет. Бог увидел, что свет был хорош. Затем Бог отделил свет от тьмы. Бог назвал свет «днем», а тьму — «ночью». Наступил вечер, за ним последовало утро — первый день. Бытие, глава 1, стихи с 3 по 5, Новое исправленное издание американской Библии ******** ВК: Здравствуйте! Меня зовут Виктория К. Добро пожаловать в книгу «Якорь истины», созданную издательством Crystal Sea Books. Мы рады быть с вами сегодня, когда мы начинаем новую серию статей на Anchored by Truth. Итак, чтобы анонсировать сериал и рассказать нам, почему мы это делаем, у нас есть RD Fierro в студии. РД является автором и основателем Crystal Sea Books. РД, вы назвали эту серию «10 фактов, которые должен знать каждый христианин». Это должно быть увлекательно. Я не уверен, сколько существует фактов, относящихся к христианской вере, но гораздо больше, чем 10. Как вы собираетесь выбрать 10 из сотен или тысяч фактов, имеющих отношение к тем, кто доверился Христу? ? РД: Ну, прежде всего я хотел бы начать с выражения благодарности всем, кто присоединился к нам сегодня, будь то в радиопередаче или в подкасте. И вы абсолютно правы в том, что существуют сотни, тысячи, а может быть, сотни тысяч фактов, формирующих и наполняющих христианскую веру. И это один из моментов, которые мы хотим подчеркнуть, делая эту серию. Христианская вера есть вера фактов. ВК: Ну, это интересная фраза — «вера фактам». Уже одна эта фраза вызывает вопросы. Я думаю, что большинство людей увидят или проведут различие между верой и фактами. РД: И я думаю, что вы правы в этом. Многие люди в нашем мире думают, что если мы говорим о вере и фактах, мы говорим о двух разных категориях идей.
РД является автором и основателем Crystal Sea Books. РД, вы назвали эту серию «10 фактов, которые должен знать каждый христианин». Это должно быть увлекательно. Я не уверен, сколько существует фактов, относящихся к христианской вере, но гораздо больше, чем 10. Как вы собираетесь выбрать 10 из сотен или тысяч фактов, имеющих отношение к тем, кто доверился Христу? ? РД: Ну, прежде всего я хотел бы начать с выражения благодарности всем, кто присоединился к нам сегодня, будь то в радиопередаче или в подкасте. И вы абсолютно правы в том, что существуют сотни, тысячи, а может быть, сотни тысяч фактов, формирующих и наполняющих христианскую веру. И это один из моментов, которые мы хотим подчеркнуть, делая эту серию. Христианская вера есть вера фактов. ВК: Ну, это интересная фраза — «вера фактам». Уже одна эта фраза вызывает вопросы. Я думаю, что большинство людей увидят или проведут различие между верой и фактами. РД: И я думаю, что вы правы в этом. Многие люди в нашем мире думают, что если мы говорим о вере и фактах, мы говорим о двух разных категориях идей. Но это современная фантастика. Великие богословы на протяжении веков всегда признавали, что подлинная спасительная вера имеет три измерения. Подлинная спасительная вера состоит из содержания, согласия с содержанием и доверия к этому содержанию. Что ж, содержание подлинной спасительной веры должно состоять из фактов, иначе это вовсе не вера. Это может быть доверчивость, доверчивость или фантазия, но это не вера. Если кто-то говорит, что я верю, что лунные феи посещают меня по ночам и рассыпают светящиеся ягоды у изножья моей кровати, это не вера. И если кто-то предпочитает называть такого рода убеждения «верой», это определенно не то, что имеет в виду Библия или классическое христианское богословие, когда мы используем этот термин. ВК: И хотя критики могут утверждать, что мы играем в словесные игры, существует очень конкретное различие между библейской верой и «светящейся ягодой». Христианская вера всегда начинается и заканчивается истиной. Истина – это то, что соответствует действительности.
Но это современная фантастика. Великие богословы на протяжении веков всегда признавали, что подлинная спасительная вера имеет три измерения. Подлинная спасительная вера состоит из содержания, согласия с содержанием и доверия к этому содержанию. Что ж, содержание подлинной спасительной веры должно состоять из фактов, иначе это вовсе не вера. Это может быть доверчивость, доверчивость или фантазия, но это не вера. Если кто-то говорит, что я верю, что лунные феи посещают меня по ночам и рассыпают светящиеся ягоды у изножья моей кровати, это не вера. И если кто-то предпочитает называть такого рода убеждения «верой», это определенно не то, что имеет в виду Библия или классическое христианское богословие, когда мы используем этот термин. ВК: И хотя критики могут утверждать, что мы играем в словесные игры, существует очень конкретное различие между библейской верой и «светящейся ягодой». Христианская вера всегда начинается и заканчивается истиной. Истина – это то, что соответствует действительности. Мы регулярно обращаем на это внимание в Anchored by Truth. Это критическое различие. Вера в лунных фей и светящиеся ягоды может отвлечь маленького ребенка, но не поможет взрослому, борющемуся с зависимостью, или финансовыми трудностями, или больным близким человеком, или утешением в отчаянной болезни. Подлинная, спасающая вера поможет во всех этих и многих других ситуациях. РД: Итак, когда мы говорим, что христианство — это вера, основанная на фактах, мы говорим, что это вера, основанная на реальном мире — во времени и месте — но, тем не менее, это вера, которая признает, что существует реальное царство, которое находится вне его. сотворенного порядка, который воспринимается органами чувств. Мы знаем реальность этого другого царства из Библии, поэтому мы должны настолько хорошо познакомиться с Библией, чтобы использовать ее истину, чтобы вести нас через нашу жизнь в сотворенном порядке, пока Иисус не приведет нас в безопасности в это невидимое царство рядом с Собой. . ВК: Итак, в этой серии вы хотите дать людям набор фактов, которые помогут им укрепить свою веру в свою веру и в Библию.
Мы регулярно обращаем на это внимание в Anchored by Truth. Это критическое различие. Вера в лунных фей и светящиеся ягоды может отвлечь маленького ребенка, но не поможет взрослому, борющемуся с зависимостью, или финансовыми трудностями, или больным близким человеком, или утешением в отчаянной болезни. Подлинная, спасающая вера поможет во всех этих и многих других ситуациях. РД: Итак, когда мы говорим, что христианство — это вера, основанная на фактах, мы говорим, что это вера, основанная на реальном мире — во времени и месте — но, тем не менее, это вера, которая признает, что существует реальное царство, которое находится вне его. сотворенного порядка, который воспринимается органами чувств. Мы знаем реальность этого другого царства из Библии, поэтому мы должны настолько хорошо познакомиться с Библией, чтобы использовать ее истину, чтобы вести нас через нашу жизнь в сотворенном порядке, пока Иисус не приведет нас в безопасности в это невидимое царство рядом с Собой. . ВК: Итак, в этой серии вы хотите дать людям набор фактов, которые помогут им укрепить свою веру в свою веру и в Библию. Вы воспринимаете эту серию не столько как средство евангелизации — хотя она могла бы помочь в этом, — сколько помогаете верующим отбиваться от нападок мира на их веру. РД: Да. Классически врагами верующего являются мир, плоть и дьявол. Что ж, в современном «мире» вражда мира со Христом неуклонно нарастает. Современная зависимость от мгновенных и масс-медиа позволила ложным сообщениям распространяться мгновенно и непрерывно. И одно из посланий, которыми сегодня бомбардируют христиан, — это целостное представление о том, что иногда называют «глубоким временем». ВК: Глубокое время — это, по сути, идея о том, что Вселенной и Земле миллиарды лет. Светский мир должен иметь глубокое время, чтобы поддерживать иллюзию правдоподобия Общей теории эволюции. Эволюции нужны миллиарды лет, чтобы превратить бактерии в биологов. Единственная предполагаемая творческая сила, которой обладает эволюция, — это благотворная мутация, другими словами, случайное взаимодействие немыслящей материи. Чтобы сделать всю эволюционную гипотезу правдоподобной, схеме требуется много времени.
Вы воспринимаете эту серию не столько как средство евангелизации — хотя она могла бы помочь в этом, — сколько помогаете верующим отбиваться от нападок мира на их веру. РД: Да. Классически врагами верующего являются мир, плоть и дьявол. Что ж, в современном «мире» вражда мира со Христом неуклонно нарастает. Современная зависимость от мгновенных и масс-медиа позволила ложным сообщениям распространяться мгновенно и непрерывно. И одно из посланий, которыми сегодня бомбардируют христиан, — это целостное представление о том, что иногда называют «глубоким временем». ВК: Глубокое время — это, по сути, идея о том, что Вселенной и Земле миллиарды лет. Светский мир должен иметь глубокое время, чтобы поддерживать иллюзию правдоподобия Общей теории эволюции. Эволюции нужны миллиарды лет, чтобы превратить бактерии в биологов. Единственная предполагаемая творческая сила, которой обладает эволюция, — это благотворная мутация, другими словами, случайное взаимодействие немыслящей материи. Чтобы сделать всю эволюционную гипотезу правдоподобной, схеме требуется много времени. Необходимо много времени, чтобы могло произойти множество этих случайных, хаотичных, интерактивных событий. Им нужны неисчислимые триллионы этих взаимодействий в надежде, что несколько из них создадут живое существо настолько сложное, что код, описывающий его конструкцию, может содержать 3 миллиарда элементов данных. РД: Задача превратить амебу в антрополога еще более сложная, чем просто иметь 3 миллиарда пар оснований, из которых состоит человеческая ДНК, должным образом организованная и функционирующая. Когда ДНК была впервые обнаружена, считалось, что она похожа на другие химические компоненты живых существ. Первоначальная идея заключалась в том, что химия каким-то образом контролирует биологию. ВК: Но теперь мы знаем с абсолютной уверенностью, что химии ДНК недостаточно, чтобы объяснить ее действие в организме человека или любого другого живого существа, если уж на то пошло. Точно так же, как химия чернил и бумаги не контролирует сообщение, напечатанное на бумаге, химия ДНК не контролирует сообщения, которые она передает.
Необходимо много времени, чтобы могло произойти множество этих случайных, хаотичных, интерактивных событий. Им нужны неисчислимые триллионы этих взаимодействий в надежде, что несколько из них создадут живое существо настолько сложное, что код, описывающий его конструкцию, может содержать 3 миллиарда элементов данных. РД: Задача превратить амебу в антрополога еще более сложная, чем просто иметь 3 миллиарда пар оснований, из которых состоит человеческая ДНК, должным образом организованная и функционирующая. Когда ДНК была впервые обнаружена, считалось, что она похожа на другие химические компоненты живых существ. Первоначальная идея заключалась в том, что химия каким-то образом контролирует биологию. ВК: Но теперь мы знаем с абсолютной уверенностью, что химии ДНК недостаточно, чтобы объяснить ее действие в организме человека или любого другого живого существа, если уж на то пошло. Точно так же, как химия чернил и бумаги не контролирует сообщение, напечатанное на бумаге, химия ДНК не контролирует сообщения, которые она передает. ДНК гораздо больше похожа на язык, который передает информацию другим химическим структурам, и ее сложность выходит далеко за рамки числовых характеристик. РД: Да. И мы собираемся углубиться в это в будущем шоу. Но сегодня я просто хочу остановиться на вопросе времени и, в частности, на том, что существует множество научных доказательств того, что глубокого времени не существует. На самом деле лучшая наука говорит нам, что библейские временные рамки гораздо более разумны, чем светские альтернативы. Итак, первый факт, который должен знать каждый христианин, это то, что наука подтверждает, что Вселенной и Земле тысячи лет, а не миллионы или миллиарды. ВК: Хорошо. Это очень смелое заявление, учитывая, что, вероятно, 95% людей, называющих себя учеными, наверное, не согласились бы с этим. РД: Я признаю это. И нам в Anchored by Truth было бы намного проще просто придерживаться традиционного мышления. Но, как мы начали с того, что христианство — это вера фактов, а факты науки бесполезны для земли, которой миллиарды лет.
ДНК гораздо больше похожа на язык, который передает информацию другим химическим структурам, и ее сложность выходит далеко за рамки числовых характеристик. РД: Да. И мы собираемся углубиться в это в будущем шоу. Но сегодня я просто хочу остановиться на вопросе времени и, в частности, на том, что существует множество научных доказательств того, что глубокого времени не существует. На самом деле лучшая наука говорит нам, что библейские временные рамки гораздо более разумны, чем светские альтернативы. Итак, первый факт, который должен знать каждый христианин, это то, что наука подтверждает, что Вселенной и Земле тысячи лет, а не миллионы или миллиарды. ВК: Хорошо. Это очень смелое заявление, учитывая, что, вероятно, 95% людей, называющих себя учеными, наверное, не согласились бы с этим. РД: Я признаю это. И нам в Anchored by Truth было бы намного проще просто придерживаться традиционного мышления. Но, как мы начали с того, что христианство — это вера фактов, а факты науки бесполезны для земли, которой миллиарды лет. ВК: Думаю, нам лучше перейти к конкретным примерам того, о чем вы думаете. РД: Я согласен. Итак, сегодня мы собираемся поговорить о 3 конкретных линиях доказательств, которые демонстрируют, что Земле гораздо больше, чем тысячи лет, а не миллиарды лет. И все 3 линии, о которых мы собираемся говорить, упоминаются в статье на веб-сайте Creation Ministries International, озаглавленной «Возраст Земли». ВК: И мы поместим ссылку на эту статью в примечания к подкасту, которые сопровождают подкаст-версию этого шоу. Итак, если ваше приложение для подкастов поддерживает письменные заметки, вы можете просто перейти к ним и найти ссылку. Если нет, то веб-сайт Creation Ministries International — Creation.com, и вы можете просто выполнить поиск по запросу «возраст Земли». РД: Верно. Итак, статья, на которую мы ссылаемся, содержит ссылки на эти 3 линии доказательств, но сама статья на самом деле содержит 101 форму доказательства того, что Земля намного моложе, чем обычно считается. ВК: У нас нет времени на одном из наших шоу, чтобы просмотреть 101 линию доказательств, не так ли? РД: Нет.
ВК: Думаю, нам лучше перейти к конкретным примерам того, о чем вы думаете. РД: Я согласен. Итак, сегодня мы собираемся поговорить о 3 конкретных линиях доказательств, которые демонстрируют, что Земле гораздо больше, чем тысячи лет, а не миллиарды лет. И все 3 линии, о которых мы собираемся говорить, упоминаются в статье на веб-сайте Creation Ministries International, озаглавленной «Возраст Земли». ВК: И мы поместим ссылку на эту статью в примечания к подкасту, которые сопровождают подкаст-версию этого шоу. Итак, если ваше приложение для подкастов поддерживает письменные заметки, вы можете просто перейти к ним и найти ссылку. Если нет, то веб-сайт Creation Ministries International — Creation.com, и вы можете просто выполнить поиск по запросу «возраст Земли». РД: Верно. Итак, статья, на которую мы ссылаемся, содержит ссылки на эти 3 линии доказательств, но сама статья на самом деле содержит 101 форму доказательства того, что Земля намного моложе, чем обычно считается. ВК: У нас нет времени на одном из наших шоу, чтобы просмотреть 101 линию доказательств, не так ли? РД: Нет. Итак, я просто хотел выбрать несколько из многих, многих линий доказательств, просто чтобы дать нашей аудитории образец того, почему им не нужно принимать провозглашение мира, которое прямо бросает вызов прямому чтению книги Бытие. ВК: Итак, какое первое доказательство вы хотите обсудить? РД: Первое, что демонстрирует ошибочность общепринятого понимания возраста Земли, это то, что биологи и палеонтологи извлекли клетки крови, кровеносные сосуды и белки из останков динозавров, возраст которых предположительно составляет миллионы лет. Но даже ученый, сделавший это открытие, Мэри Швейцер, признала, что современная наука не имеет объяснения тому, как такая ткань могла сохраниться нетронутой в течение 65 миллионов лет, что было предполагаемым возрастом кости. ВК: И с тех пор, как в середине 19-го века впервые были обнаружены мягкие ткани динозавров.За 90-ми последовало множество других подобных открытий. Впервые мягкие ткани динозавров были обнаружены в костях тираннозавра, но с тех пор неповрежденные мягкие ткани были обнаружены и у других видов.
Итак, я просто хотел выбрать несколько из многих, многих линий доказательств, просто чтобы дать нашей аудитории образец того, почему им не нужно принимать провозглашение мира, которое прямо бросает вызов прямому чтению книги Бытие. ВК: Итак, какое первое доказательство вы хотите обсудить? РД: Первое, что демонстрирует ошибочность общепринятого понимания возраста Земли, это то, что биологи и палеонтологи извлекли клетки крови, кровеносные сосуды и белки из останков динозавров, возраст которых предположительно составляет миллионы лет. Но даже ученый, сделавший это открытие, Мэри Швейцер, признала, что современная наука не имеет объяснения тому, как такая ткань могла сохраниться нетронутой в течение 65 миллионов лет, что было предполагаемым возрастом кости. ВК: И с тех пор, как в середине 19-го века впервые были обнаружены мягкие ткани динозавров.За 90-ми последовало множество других подобных открытий. Впервые мягкие ткани динозавров были обнаружены в костях тираннозавра, но с тех пор неповрежденные мягкие ткани были обнаружены и у других видов. РД: Верно. Кости тираннозавра Рекса, которая содержала первую обнаруженную мягкую ткань, предположительно имели возраст 65 миллионов лет. Но затем они обнаружили белок коллаген в кости гадрозавра, которому предположительно 80 миллионов лет. За этим последовало открытие белка остеокальцина в кости игуанодона, возраст которого, как считается, составляет 120 миллионов лет — вдвое больше, чем у тираннозавра. ВК: Перед учеными стоит дилемма: как такие мягкие ткани могли сохраняться столько времени? В своей книге «Величайший обман на Земле» доктор Джонатан Сарфати пишет: «Однако анализ стабильности коллагена показывает, что при самых благоприятных условиях хранения он продержится всего 2,7 [миллиона лет] при температуре замерзания. При 10 [градусах по Цельсию] предел составлял 180 000 лет и 15 000 лет при 20 [градусах по Цельсию]; [обычно считается], что динозавры должны были жить в теплом климате». РД: Итак, открытие мягких тканей в костях динозавров, и не у одного, а у многих, представляет собой огромную проблему для обычных периодов времени.
РД: Верно. Кости тираннозавра Рекса, которая содержала первую обнаруженную мягкую ткань, предположительно имели возраст 65 миллионов лет. Но затем они обнаружили белок коллаген в кости гадрозавра, которому предположительно 80 миллионов лет. За этим последовало открытие белка остеокальцина в кости игуанодона, возраст которого, как считается, составляет 120 миллионов лет — вдвое больше, чем у тираннозавра. ВК: Перед учеными стоит дилемма: как такие мягкие ткани могли сохраняться столько времени? В своей книге «Величайший обман на Земле» доктор Джонатан Сарфати пишет: «Однако анализ стабильности коллагена показывает, что при самых благоприятных условиях хранения он продержится всего 2,7 [миллиона лет] при температуре замерзания. При 10 [градусах по Цельсию] предел составлял 180 000 лет и 15 000 лет при 20 [градусах по Цельсию]; [обычно считается], что динозавры должны были жить в теплом климате». РД: Итак, открытие мягких тканей в костях динозавров, и не у одного, а у многих, представляет собой огромную проблему для обычных периодов времени. Но это не вызов для библейских временных рамок. Хотя ученые-библеисты не единодушны в своих графиках датировки, справедливо будет сказать, что большинство ученых считают, что Земле около 6500 лет. Но давайте просто скажем, что они ошиблись на 1 или 2 тысячи лет. Это по-прежнему не представляет проблемы для сохранения мягких тканей. Анализ возможностей сохранения даже в более теплых условиях позволяет легко сохранить ткань для библейских временных рамок. И разумно сказать, что наличие мягких тканей динозавров гораздо больше соответствует временным рамкам, изложенным в Библии, чем любым светским предположениям. ВК: В этом месте мы должны напомнить слушателям, что были ли мягкие ткани динозавров тысячи лет или миллионы, никто из живущих сегодня на земле не видел их. Таким образом, все, что может сделать любой ученый или кто-либо еще в этом отношении, — это взглянуть на текущие данные и посмотреть, как эти данные согласуются с конкретной гипотезой или теорией. И все ученые, христиане они или нет, смотрят на доказательства через призму набора исходных аксиом.
Но это не вызов для библейских временных рамок. Хотя ученые-библеисты не единодушны в своих графиках датировки, справедливо будет сказать, что большинство ученых считают, что Земле около 6500 лет. Но давайте просто скажем, что они ошиблись на 1 или 2 тысячи лет. Это по-прежнему не представляет проблемы для сохранения мягких тканей. Анализ возможностей сохранения даже в более теплых условиях позволяет легко сохранить ткань для библейских временных рамок. И разумно сказать, что наличие мягких тканей динозавров гораздо больше соответствует временным рамкам, изложенным в Библии, чем любым светским предположениям. ВК: В этом месте мы должны напомнить слушателям, что были ли мягкие ткани динозавров тысячи лет или миллионы, никто из живущих сегодня на земле не видел их. Таким образом, все, что может сделать любой ученый или кто-либо еще в этом отношении, — это взглянуть на текущие данные и посмотреть, как эти данные согласуются с конкретной гипотезой или теорией. И все ученые, христиане они или нет, смотрят на доказательства через призму набора исходных аксиом. Свидетельства могут согласовываться с ожиданиями, вытекающими из этих исходных аксиом, а могут и не согласовываться. Мы указываем здесь на то, что, вопреки распространенному мнению, сохранение мягких тканей динозавров создает много дополнительных вопросов для традиционных временных рамок, но не для библейских. Так что же дальше? РД: Ну, еще одна загадка для общепринятой идеи о том, что Земле и Вселенной миллиарды лет, — это то, что часто называют «парадоксом слабого молодого солнца». ВК: «Парадокс молодого солнца» — это должно быть интересно. РД: Это так. Давайте начнем с того, что отметим, что одна из общепринятых идей того, как Солнце генерирует энергию, связана с ядерным синтезом — объединением атомов водорода в атомы гелия глубоко внутри ядра Солнца. Согласно известному уравнению Эйнштейна, E=mc2, когда происходит термоядерный синтез, высвобождается огромное количество энергии. Но объединение нескольких атомов водорода в несколько атомов гелия занимает меньше места. Таким образом, за миллиарды лет Солнце уменьшилось бы в размерах, но его яркость увеличилась бы.
Свидетельства могут согласовываться с ожиданиями, вытекающими из этих исходных аксиом, а могут и не согласовываться. Мы указываем здесь на то, что, вопреки распространенному мнению, сохранение мягких тканей динозавров создает много дополнительных вопросов для традиционных временных рамок, но не для библейских. Так что же дальше? РД: Ну, еще одна загадка для общепринятой идеи о том, что Земле и Вселенной миллиарды лет, — это то, что часто называют «парадоксом слабого молодого солнца». ВК: «Парадокс молодого солнца» — это должно быть интересно. РД: Это так. Давайте начнем с того, что отметим, что одна из общепринятых идей того, как Солнце генерирует энергию, связана с ядерным синтезом — объединением атомов водорода в атомы гелия глубоко внутри ядра Солнца. Согласно известному уравнению Эйнштейна, E=mc2, когда происходит термоядерный синтез, высвобождается огромное количество энергии. Но объединение нескольких атомов водорода в несколько атомов гелия занимает меньше места. Таким образом, за миллиарды лет Солнце уменьшилось бы в размерах, но его яркость увеличилась бы. По мере увеличения яркости солнца его выход энергии будет увеличиваться, а это означает, что энергия, попадающая на Землю, будет увеличиваться. ВК: Итак, «тусклое молодое солнце» означает, что если системе солнце-земля действительно было 4,5 миллиарда лет, как утверждает общепринятое датирование, то миллиарды лет назад солнце было бы гораздо менее ярким. 4 миллиарда лет назад на земном небе оно было бы «тусклее», чем сегодня. Более тусклое, более слабое солнце означало бы, что Земля намного холоднее. Итак, вопрос в том, насколько холоднее была бы земля? РД: Разумные оценки говорят, что Земля получила бы на 20-30% меньше солнечного света, чем сегодня. ВК: И насколько прохладнее была бы Земля, если бы солнечного света было намного меньше? РД: Текущая средняя температура земли составляет около 60 градусов по Фаренгейту. При уменьшении количества солнечного света на 25% средняя температура земли была бы ниже точки замерзания — около 25 градусов по Фаренгейту. Другими словами, если бы солнце было на 20-30% менее ярким, весь земной шар был бы покрыт льдом — по сути, сплошным ледяным шаром.
По мере увеличения яркости солнца его выход энергии будет увеличиваться, а это означает, что энергия, попадающая на Землю, будет увеличиваться. ВК: Итак, «тусклое молодое солнце» означает, что если системе солнце-земля действительно было 4,5 миллиарда лет, как утверждает общепринятое датирование, то миллиарды лет назад солнце было бы гораздо менее ярким. 4 миллиарда лет назад на земном небе оно было бы «тусклее», чем сегодня. Более тусклое, более слабое солнце означало бы, что Земля намного холоднее. Итак, вопрос в том, насколько холоднее была бы земля? РД: Разумные оценки говорят, что Земля получила бы на 20-30% меньше солнечного света, чем сегодня. ВК: И насколько прохладнее была бы Земля, если бы солнечного света было намного меньше? РД: Текущая средняя температура земли составляет около 60 градусов по Фаренгейту. При уменьшении количества солнечного света на 25% средняя температура земли была бы ниже точки замерзания — около 25 градусов по Фаренгейту. Другими словами, если бы солнце было на 20-30% менее ярким, весь земной шар был бы покрыт льдом — по сути, сплошным ледяным шаром. Это определенно не было бы условием, при котором любой вид жизни развился бы гораздо менее широко и начал создавать то биоразнообразие, которое мы наблюдаем сегодня на Земле. ВК: На самом деле большинство ученых считают, что первобытный мир был намного теплее, чем сегодня. Всякий раз, когда мы смотрим фильмы со сценами о динозаврах, мы всегда наслаждаемся пышной тропической растительностью, окружающей их. Но, конечно, парадокс «слабого молодого солнца» имеет место только в том случае, если Земле миллиарды лет. Если земле всего несколько тысяч лет, как говорит нам Библия, парадокс никогда не возникает. Просто не хватило времени, чтобы солнце было другим, чем сегодня. Что ж, я уверен, что светские ученые знают об этой трудности, так как же они реагируют? РД: Самый распространенный ответ заключается в том, что уровень парниковых газов в атмосфере изначальной земли был намного, намного выше, чем сегодня. Этот более высокий уровень парниковых газов обеспечил гораздо более толстое «одеяло», чем наша нынешняя атмосфера.
Это определенно не было бы условием, при котором любой вид жизни развился бы гораздо менее широко и начал создавать то биоразнообразие, которое мы наблюдаем сегодня на Земле. ВК: На самом деле большинство ученых считают, что первобытный мир был намного теплее, чем сегодня. Всякий раз, когда мы смотрим фильмы со сценами о динозаврах, мы всегда наслаждаемся пышной тропической растительностью, окружающей их. Но, конечно, парадокс «слабого молодого солнца» имеет место только в том случае, если Земле миллиарды лет. Если земле всего несколько тысяч лет, как говорит нам Библия, парадокс никогда не возникает. Просто не хватило времени, чтобы солнце было другим, чем сегодня. Что ж, я уверен, что светские ученые знают об этой трудности, так как же они реагируют? РД: Самый распространенный ответ заключается в том, что уровень парниковых газов в атмосфере изначальной земли был намного, намного выше, чем сегодня. Этот более высокий уровень парниковых газов обеспечил гораздо более толстое «одеяло», чем наша нынешняя атмосфера. Но проблема в том, что уровень парниковых газов, необходимый для компенсации более низкой светимости, в сотни раз превышает нынешний уровень таких газов в атмосфере. Мало того, что это немыслимое предположение, но, согласно данным анализа так называемых «древних почв», не дает никаких указаний на значительно более высокие уровни углекислого газа, который является наиболее распространенным парниковым газом. Недавно были предложены более новые решения, включающие лишь несколько более высокие уровни парниковых газов, но с более низким уровнем планетарного альбедо. Альбедо — это уровень отражения атмосферы. При более низком альбедо больше солнечного света проникало бы в атмосферу и сохраняло бы тепло. ВК: Это решает проблему? РД: Не совсем. В предложенных моделях используется одномерная форма моделирования климата, но все ответственные климатические модели используют трехмерную модель. В наших примечаниях к подкасту мы будем ссылаться на пару статей на сайте creative.com, но это комментарий к одной из статей, озаглавленной «Парадокс слабого молодого солнца и эпоха Солнечной системы».
Но проблема в том, что уровень парниковых газов, необходимый для компенсации более низкой светимости, в сотни раз превышает нынешний уровень таких газов в атмосфере. Мало того, что это немыслимое предположение, но, согласно данным анализа так называемых «древних почв», не дает никаких указаний на значительно более высокие уровни углекислого газа, который является наиболее распространенным парниковым газом. Недавно были предложены более новые решения, включающие лишь несколько более высокие уровни парниковых газов, но с более низким уровнем планетарного альбедо. Альбедо — это уровень отражения атмосферы. При более низком альбедо больше солнечного света проникало бы в атмосферу и сохраняло бы тепло. ВК: Это решает проблему? РД: Не совсем. В предложенных моделях используется одномерная форма моделирования климата, но все ответственные климатические модели используют трехмерную модель. В наших примечаниях к подкасту мы будем ссылаться на пару статей на сайте creative.com, но это комментарий к одной из статей, озаглавленной «Парадокс слабого молодого солнца и эпоха Солнечной системы». «…любая модель климата, кроме трехмерной модели общей циркуляции с реалистичными океаном, биосферой и криосферой (составляющей снег/лед), неверна. Например, такая одномерная модель игнорирует важные обратные связи, такие как мощная обратная связь альбедо льда. По мере увеличения количества снега и льда альбедо увеличивается, вызывая дальнейшее похолодание». ВК: Хорошо. Ну, просто чтобы напомнить всем, что сегодня мы обсуждаем первый факт из нашей новой серии «10 фактов, которые должен знать каждый христианин». И первый факт, который, по вашему мнению, должны твердо усвоить все христиане, заключается в том, что существует множество научных доказательств, подтверждающих, что Вселенной и Земле тысячи лет, а не миллионы или миллиарды лет. И причина, по которой этот факт так важен, заключается в том, что Общей Теории Эволюции нужны миллиарды лет, чтобы совершить свое волшебство и превратить сталкивающиеся молекулы в ученых-компьютерщиков. Без этих миллиардов лет — глубокого времени, как его иногда называют — даже эволюционисты признают, что их парадигма не сработала бы.
«…любая модель климата, кроме трехмерной модели общей циркуляции с реалистичными океаном, биосферой и криосферой (составляющей снег/лед), неверна. Например, такая одномерная модель игнорирует важные обратные связи, такие как мощная обратная связь альбедо льда. По мере увеличения количества снега и льда альбедо увеличивается, вызывая дальнейшее похолодание». ВК: Хорошо. Ну, просто чтобы напомнить всем, что сегодня мы обсуждаем первый факт из нашей новой серии «10 фактов, которые должен знать каждый христианин». И первый факт, который, по вашему мнению, должны твердо усвоить все христиане, заключается в том, что существует множество научных доказательств, подтверждающих, что Вселенной и Земле тысячи лет, а не миллионы или миллиарды лет. И причина, по которой этот факт так важен, заключается в том, что Общей Теории Эволюции нужны миллиарды лет, чтобы совершить свое волшебство и превратить сталкивающиеся молекулы в ученых-компьютерщиков. Без этих миллиардов лет — глубокого времени, как его иногда называют — даже эволюционисты признают, что их парадигма не сработала бы. Итак, доказательства, которые мы сегодня предоставляем, демонстрируют, что это глубокое время просто не отражается в том, что мы видим в сотворенном порядке, который нас окружает. Итак, у нас есть время, чтобы сделать еще одну линию доказательств. Где бы вы хотели идти? РД: Давайте поговорим о том, что называется «лунной рецессией». После первых миссий на Луну мы смогли разместить на Луне зеркала, которые позволяют нам отражать от них лазерные импульсы. Затем мы можем очень точно измерить время, которое требуется возвращающимся фотонам, чтобы достичь Земли, и таким образом определить с высокой степенью точности расстояние между Землей и Луной. Итак, мы сделали это, и теперь мы знаем, что Луна удаляется от Земли примерно на 1,5 дюйма в год. ВК: Теперь, если системе Земля-Луна всего несколько тысяч лет, как говорит нам Библия, полтора дюйма в год — это не проблема. Но если системе Земля-Луна миллиарды лет, все меняется. И общепринятое понимание состоит в том, что Земле 4,5 миллиарда лет.
Итак, доказательства, которые мы сегодня предоставляем, демонстрируют, что это глубокое время просто не отражается в том, что мы видим в сотворенном порядке, который нас окружает. Итак, у нас есть время, чтобы сделать еще одну линию доказательств. Где бы вы хотели идти? РД: Давайте поговорим о том, что называется «лунной рецессией». После первых миссий на Луну мы смогли разместить на Луне зеркала, которые позволяют нам отражать от них лазерные импульсы. Затем мы можем очень точно измерить время, которое требуется возвращающимся фотонам, чтобы достичь Земли, и таким образом определить с высокой степенью точности расстояние между Землей и Луной. Итак, мы сделали это, и теперь мы знаем, что Луна удаляется от Земли примерно на 1,5 дюйма в год. ВК: Теперь, если системе Земля-Луна всего несколько тысяч лет, как говорит нам Библия, полтора дюйма в год — это не проблема. Но если системе Земля-Луна миллиарды лет, все меняется. И общепринятое понимание состоит в том, что Земле 4,5 миллиарда лет. Верно? РД: Верно. На самом деле лунная рецессия означает, что в системе возрастом в миллиарды лет Луна была бы намного ближе к Земле, чем сегодня. Расчеты движения Луны показывают, что максимальный возраст системы Земля-Луна составляет около 1,4 миллиарда лет. В этот момент Луна была бы ниже предела Роша. Предел Роша — это расстояние от центрального тела, такого как планета, внутри которого орбитальные обломки не могут сливаться. Другими словами, Луна была бы разорвана на части, если бы она была ниже предела Роша. В результате этого были предложены различные теории, объясняющие, как Земля и Луна пришли в свою нынешнюю конфигурацию в таком точном равновесии. Но ни одна из этих теорий, таких как теория «захвата» или корректировка параметров приливов Земли, не решает проблему. ВК: Мы должны помнить, что Луна является основной причиной приливов на Земле, и хорошо известно, что приливы важны для земной экосистемы. Если бы Луна была намного ближе к Земле в прошлом, были бы огромные приливы — настолько большие, что они захлестнули бы огромные участки земли.
Верно? РД: Верно. На самом деле лунная рецессия означает, что в системе возрастом в миллиарды лет Луна была бы намного ближе к Земле, чем сегодня. Расчеты движения Луны показывают, что максимальный возраст системы Земля-Луна составляет около 1,4 миллиарда лет. В этот момент Луна была бы ниже предела Роша. Предел Роша — это расстояние от центрального тела, такого как планета, внутри которого орбитальные обломки не могут сливаться. Другими словами, Луна была бы разорвана на части, если бы она была ниже предела Роша. В результате этого были предложены различные теории, объясняющие, как Земля и Луна пришли в свою нынешнюю конфигурацию в таком точном равновесии. Но ни одна из этих теорий, таких как теория «захвата» или корректировка параметров приливов Земли, не решает проблему. ВК: Мы должны помнить, что Луна является основной причиной приливов на Земле, и хорошо известно, что приливы важны для земной экосистемы. Если бы Луна была намного ближе к Земле в прошлом, были бы огромные приливы — настолько большие, что они захлестнули бы огромные участки земли. Это было бы разрушительно для формирования любых наземных существ. Но мы также знаем, что приливы важны для поддержания границы между землей и сушей здоровой и полезной для жизни в том виде, в каком она существует. Гармония между Землей и Луной является неотъемлемой частью жизни на этой земле. РД: Опять же, рецессия Луны в системе Земля-Луна, которой тысячи лет, не проблема. Относительное изменение положения двух тел незначительно. Но попробуйте вернуться на миллионы или миллиарды лет назад, и теперь возникает множество трудностей, которые необходимо объяснить. Это проблема для науки, потому что мантрой современной науки является униформизм. Настоящее – это ключ к прошлому. ВК: Но настоящее не является ключом к прошлому для системы Земля-Луна, где текущая скорость рецессии Луны накладывает ограничение на возраст системы, что исключает эволюционные временные шкалы. РД: Да. Итак, это всего лишь три линии доказательств, которые показывают, что хорошая наука поддерживает возраст Земли, который согласуется с Библией, но бросает вызов наиболее широко распространенным общепринятым убеждениям.
Это было бы разрушительно для формирования любых наземных существ. Но мы также знаем, что приливы важны для поддержания границы между землей и сушей здоровой и полезной для жизни в том виде, в каком она существует. Гармония между Землей и Луной является неотъемлемой частью жизни на этой земле. РД: Опять же, рецессия Луны в системе Земля-Луна, которой тысячи лет, не проблема. Относительное изменение положения двух тел незначительно. Но попробуйте вернуться на миллионы или миллиарды лет назад, и теперь возникает множество трудностей, которые необходимо объяснить. Это проблема для науки, потому что мантрой современной науки является униформизм. Настоящее – это ключ к прошлому. ВК: Но настоящее не является ключом к прошлому для системы Земля-Луна, где текущая скорость рецессии Луны накладывает ограничение на возраст системы, что исключает эволюционные временные шкалы. РД: Да. Итак, это всего лишь три линии доказательств, которые показывают, что хорошая наука поддерживает возраст Земли, который согласуется с Библией, но бросает вызов наиболее широко распространенным общепринятым убеждениям. Теперь заметьте, что я осторожен в том, как я это говорю. Нынешние эмпирические наблюдения не могут «доказать» возраст Земли. Это мог сделать только очевидец событий. Все эмпирические наблюдения производятся наблюдателями в настоящем, которые должны интегрировать информацию, которую они получают из текущих наблюдений, в то, что мы могли бы получить из записанных событий, а затем интерпретировать эту информацию. Но обратите внимание, что три линии доказательств, которые мы сегодня упомянули, не создают проблем для библейских временных рамок, но создают проблемы для эволюционных графиков. И это только 3 строки доказательств из 101 строки, которые содержатся в статье, которую мы впервые упомянули. И эта статья, даже с учетом 101 доказательства, является иллюстративной, а не исчерпывающей. Важным моментом является тот факт, что каждый христианин должен знать, что существует множество научных доказательств того, что Земле всего лишь тысячи лет, а не миллиарды лет. И один этот факт уничтожает всякую возможность эволюции, как ее обычно представляют.
Теперь заметьте, что я осторожен в том, как я это говорю. Нынешние эмпирические наблюдения не могут «доказать» возраст Земли. Это мог сделать только очевидец событий. Все эмпирические наблюдения производятся наблюдателями в настоящем, которые должны интегрировать информацию, которую они получают из текущих наблюдений, в то, что мы могли бы получить из записанных событий, а затем интерпретировать эту информацию. Но обратите внимание, что три линии доказательств, которые мы сегодня упомянули, не создают проблем для библейских временных рамок, но создают проблемы для эволюционных графиков. И это только 3 строки доказательств из 101 строки, которые содержатся в статье, которую мы впервые упомянули. И эта статья, даже с учетом 101 доказательства, является иллюстративной, а не исчерпывающей. Важным моментом является тот факт, что каждый христианин должен знать, что существует множество научных доказательств того, что Земле всего лишь тысячи лет, а не миллиарды лет. И один этот факт уничтожает всякую возможность эволюции, как ее обычно представляют. Эволюция требует глубокого времени. Но эмпирические наблюдения, даже если они согласуются с типичной униформистской точкой зрения, не дают глубокого времени. Эмпирические наблюдения просто ставят одну проблему за другой, и каждое решение, предлагаемое для их решения, имеет тенденцию поднимать новые проблемы, которые необходимо решить. Ничего из этого не нужно тем, кто просто верит в историчность Библии. ВК: Ну, как вы сказали, единственный способ узнать, когда была сотворена земля, — это свидетельство очевидца, и это то, что дает Библия. Бог был там в начале, и Библия является Его свидетельством миру о том, что Он сделал. Нам решать, примем ли мы Его свидетельство для нас или продолжим отталкивать Его в пользу наших искусственных идолов, таких как эволюция или глубокое время. На самом деле нет необходимости делать это с научной точки зрения, несмотря на то, что постоянно настаивает наша культура. Как всегда, мы хотим закончить молитвой. Сегодня послушаем молитву поклонения Святому Духу, Который парил над водой и свидетельствует нам, что именно Бог есть Единый и Единственный Творец всего.
Эволюция требует глубокого времени. Но эмпирические наблюдения, даже если они согласуются с типичной униформистской точкой зрения, не дают глубокого времени. Эмпирические наблюдения просто ставят одну проблему за другой, и каждое решение, предлагаемое для их решения, имеет тенденцию поднимать новые проблемы, которые необходимо решить. Ничего из этого не нужно тем, кто просто верит в историчность Библии. ВК: Ну, как вы сказали, единственный способ узнать, когда была сотворена земля, — это свидетельство очевидца, и это то, что дает Библия. Бог был там в начале, и Библия является Его свидетельством миру о том, что Он сделал. Нам решать, примем ли мы Его свидетельство для нас или продолжим отталкивать Его в пользу наших искусственных идолов, таких как эволюция или глубокое время. На самом деле нет необходимости делать это с научной точки зрения, несмотря на то, что постоянно настаивает наша культура. Как всегда, мы хотим закончить молитвой. Сегодня послушаем молитву поклонения Святому Духу, Который парил над водой и свидетельствует нам, что именно Бог есть Единый и Единственный Творец всего. —- МОЛИТВА ПОКЛОНЕНИЯ СВЯТОМУ ДУХУ ВК: Перед тем, как мы закончим, мы хотели бы напомнить нашей аудитории, что многие наши радиовыпуски связаны между собой сериями тем, поэтому, если они пропустили какие-либо выпуски в этой серии или если они просто хочу услышать еще раз, все эти выпуски доступны в вашем любимом приложении для подкастов. Чтобы найти их, просто выполните поиск по запросу «Закреплено истиной от Crystal Sea Books». Если вы хотите узнать больше, посетите сайт crystalseabooks.com, где «Мы не идеальны, но наш босс идеален!» (Вступительные цитаты из Библии из Нового пересмотренного издания американской Библии) Бытие, глава 1, стихи с 3 по 5, Новое исправленное издание американской Библии Эпоха земли Солнечной системы — Creation.com Возраст и рецессия Луны — Creation.com Палеозойские кораллы и лунная рецессия — Creation.com Динозавры С14 — Creation.com
—- МОЛИТВА ПОКЛОНЕНИЯ СВЯТОМУ ДУХУ ВК: Перед тем, как мы закончим, мы хотели бы напомнить нашей аудитории, что многие наши радиовыпуски связаны между собой сериями тем, поэтому, если они пропустили какие-либо выпуски в этой серии или если они просто хочу услышать еще раз, все эти выпуски доступны в вашем любимом приложении для подкастов. Чтобы найти их, просто выполните поиск по запросу «Закреплено истиной от Crystal Sea Books». Если вы хотите узнать больше, посетите сайт crystalseabooks.com, где «Мы не идеальны, но наш босс идеален!» (Вступительные цитаты из Библии из Нового пересмотренного издания американской Библии) Бытие, глава 1, стихи с 3 по 5, Новое исправленное издание американской Библии Эпоха земли Солнечной системы — Creation.com Возраст и рецессия Луны — Creation.com Палеозойские кораллы и лунная рецессия — Creation.com Динозавры С14 — Creation.com
редкоземельный элемент | Использование, свойства и факты
электронные вероятности для гадолиния
Просмотреть все СМИ
- Ключевые люди:
- Фрэнк Гарольд Спеддинг
Карл Густав Мосандер
- Похожие темы:
- переходный металл
гадолиний
церий
лантан
самарий
Просмотреть весь связанный контент →
Сводка
Прочтите краткий обзор этой темы
редкоземельный элемент , любой член группы химических элементов, состоящей из трех элементов группы 3 (скандий [Sc], иттрий [Y] и лантан [La]) и первого расширенного ряда элементов ниже основная часть периодической таблицы (от церия [Ce] до лютеция [Lu]). Элементы от церия до лютеция называются лантаноидами, но многие ученые также, хотя и неправильно, называют эти элементы редкоземельными элементами.
Элементы от церия до лютеция называются лантаноидами, но многие ученые также, хотя и неправильно, называют эти элементы редкоземельными элементами.
Редкоземельные элементы обычно являются трехвалентными элементами, но некоторые из них имеют другие валентности. Церий, празеодим и тербий могут быть четырехвалентными; самарий, европий и иттербий, с другой стороны, могут быть двухвалентными. Во многих вводных научных книгах редкоземельные элементы рассматриваются как настолько химически похожие друг на друга, что в совокупности их можно рассматривать как один элемент. В определенной степени это правильно — около 25 процентов их использования основано на этом близком сходстве, — но остальные 75 процентов использования редкоземельных элементов основаны на уникальных свойствах отдельных элементов. Более того, внимательное изучение этих элементов обнаруживает огромные различия в их поведении и свойствах; например, температура плавления лантана, элемента-прототипа ряда лантаноидов (918 ° C, или 1684 ° F), намного ниже температуры плавления лютеция, последнего элемента в ряду (1663 ° C, или 3025 ° F). Эта разница намного больше, чем во многих группах периодической таблицы; например, температуры плавления меди, серебра и золота различаются всего примерно на 100 ° C (180 ° F).
Эта разница намного больше, чем во многих группах периодической таблицы; например, температуры плавления меди, серебра и золота различаются всего примерно на 100 ° C (180 ° F).
Само название редкоземельных элементов является неправильным. Во время их открытия в 18 веке они оказались компонентом сложных оксидов, которые в то время назывались «землями». Кроме того, этих минералов оказалось мало, и поэтому эти недавно открытые элементы были названы «редкими землями». На самом деле эти элементы довольно распространены и присутствуют во многих пригодных для разработки месторождениях по всему миру. 16 встречающихся в природе редкоземельных элементов попадают в 50-й процентиль содержания элементов. К началу 21 века Китай стал крупнейшим в мире производителем редкоземельных элементов. Австралия, Бразилия, Индия, Казахстан, Малайзия, Россия, Южная Африка и США также добывают и перерабатывают значительные количества этих материалов.
Многие люди не осознают огромного влияния редкоземельных элементов на их повседневную жизнь, но почти невозможно избежать использования современной технологии, которая их не содержит. Даже такой простой продукт, как кремень для зажигалок, содержит редкоземельные элементы. Примером их повсеместного распространения является современный автомобиль, один из крупнейших потребителей редкоземельных продуктов. В десятках электродвигателей типичного автомобиля, а также в динамиках его звуковой системы используются постоянные магниты из неодима, железа и бора. В электрических датчиках используется оксид циркония, стабилизированный оксидом иттрия, для измерения и контроля содержания кислорода в топливе. Трехкомпонентный каталитический нейтрализатор использует оксиды церия для восстановления оксидов азота до газообразного азота и окисления монооксида углерода до диоксида углерода и несгоревших углеводородов до диоксида углерода и воды в продуктах выхлопа. Люминофоры в оптических дисплеях содержат оксиды иттрия, европия и тербия. Лобовое стекло, зеркала и линзы отполированы с использованием оксидов церия. Даже бензин или дизельное топливо, приводящее в движение автомобиль, очищали с использованием редкоземельных катализаторов крекинга, содержащих оксиды лантана, церия или смеси редкоземельных элементов.
Даже такой простой продукт, как кремень для зажигалок, содержит редкоземельные элементы. Примером их повсеместного распространения является современный автомобиль, один из крупнейших потребителей редкоземельных продуктов. В десятках электродвигателей типичного автомобиля, а также в динамиках его звуковой системы используются постоянные магниты из неодима, железа и бора. В электрических датчиках используется оксид циркония, стабилизированный оксидом иттрия, для измерения и контроля содержания кислорода в топливе. Трехкомпонентный каталитический нейтрализатор использует оксиды церия для восстановления оксидов азота до газообразного азота и окисления монооксида углерода до диоксида углерода и несгоревших углеводородов до диоксида углерода и воды в продуктах выхлопа. Люминофоры в оптических дисплеях содержат оксиды иттрия, европия и тербия. Лобовое стекло, зеркала и линзы отполированы с использованием оксидов церия. Даже бензин или дизельное топливо, приводящее в движение автомобиль, очищали с использованием редкоземельных катализаторов крекинга, содержащих оксиды лантана, церия или смеси редкоземельных элементов. Гибридные автомобили питаются от никель-лантан-металлогидридной аккумуляторной батареи и электрического тягового двигателя с постоянными магнитами, содержащими редкоземельные элементы. Кроме того, современные средства массовой информации и коммуникационные устройства — сотовые телефоны, телевизоры и компьютеры — используют редкоземельные элементы в качестве магнитов для динамиков и жестких дисков и люминофоров для оптических дисплеев. Используемые количества редкоземельных элементов довольно малы (0,1–5 процентов по весу, за исключением постоянных магнитов, которые содержат около 25 процентов неодима), но они критически важны, и любое из этих устройств не будет работать так же хорошо или будет значительно тяжелее, если бы не редкие земли.
Гибридные автомобили питаются от никель-лантан-металлогидридной аккумуляторной батареи и электрического тягового двигателя с постоянными магнитами, содержащими редкоземельные элементы. Кроме того, современные средства массовой информации и коммуникационные устройства — сотовые телефоны, телевизоры и компьютеры — используют редкоземельные элементы в качестве магнитов для динамиков и жестких дисков и люминофоров для оптических дисплеев. Используемые количества редкоземельных элементов довольно малы (0,1–5 процентов по весу, за исключением постоянных магнитов, которые содержат около 25 процентов неодима), но они критически важны, и любое из этих устройств не будет работать так же хорошо или будет значительно тяжелее, если бы не редкие земли.
Викторина «Британника»
Периодическая таблица элементов
Проверьте свою связь с периодической таблицей элементов в этой викторине по всем 118 химическим элементам и их символам. Вы можете быть знакомы с химическими символами водорода и кислорода, но можете ли вы сопоставить такие низкопрофильные элементы, как гадолиний и эрбий, с соответствующими символами?
Хотя редкоземельные элементы существуют с момента образования Земли, об их существовании стало известно только в конце 18 века. В 1787 году лейтенант шведской армии Карл Аксель Аррениус обнаружил в небольшой каменоломне в Иттербю (небольшой городок недалеко от Стокгольма) уникальный черный минерал. Этот минерал представлял собой смесь редкоземельных элементов, а первым отдельным элементом, выделенным в 1803 г., был церий.0003
В 1787 году лейтенант шведской армии Карл Аксель Аррениус обнаружил в небольшой каменоломне в Иттербю (небольшой городок недалеко от Стокгольма) уникальный черный минерал. Этот минерал представлял собой смесь редкоземельных элементов, а первым отдельным элементом, выделенным в 1803 г., был церий.0003
История отдельных редкоземельных элементов сложна и запутана, в основном из-за их химического сходства. Многие «недавно открытые элементы» были не одним элементом, а смесью целых шести различных редкоземельных элементов. Кроме того, поступали заявления об открытии большого количества других «элементов», которые должны были принадлежать к ряду редкоземельных элементов, но таковыми не являлись.
Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту.
Подпишитесь сейчас
Последний встречающийся в природе редкоземельный элемент (лютеций) был открыт в 1907 году, но исследование химии этих элементов было затруднено, потому что никто не знал, сколько существует настоящих редкоземельных элементов. К счастью, в 1913–1914 годах исследования датского физика Нильса Бора и английского физика Генри Гвина Джеффриса Мозли разрешили эту ситуацию. Боровская теория атома водорода позволила теоретикам показать, что существует только 14 лантаноидов. Экспериментальные исследования Мозли подтвердили существование 13 из этих элементов и показали, что 14-й лантаноид должен быть элементом 61 и находиться между неодимом и самарием.
К счастью, в 1913–1914 годах исследования датского физика Нильса Бора и английского физика Генри Гвина Джеффриса Мозли разрешили эту ситуацию. Боровская теория атома водорода позволила теоретикам показать, что существует только 14 лантаноидов. Экспериментальные исследования Мозли подтвердили существование 13 из этих элементов и показали, что 14-й лантаноид должен быть элементом 61 и находиться между неодимом и самарием.
В 1920-х годах поиски элемента 61 были интенсивными. В 1926 году группы ученых из Университета Флоренции, Италия, и из Университета Иллинойса заявили, что открыли элемент 61 и назвали его флорентием и иллинием соответственно, но их утверждения не могли быть подтверждены независимо. Шум от этих претензий и встречных претензий в конце концов стих к 1930 году. Только в 1947 году, после деления урана, 61-й элемент определенно был выделен и назван прометием учеными из Ок-Риджской национальной лаборатории Комиссии США по атомной энергии в Теннесси. (Более подробную информацию об открытии отдельных элементов можно найти в статьях об этих элементах. )
)
За 160 лет открытий (1787–1947) выделение и очистка редкоземельных элементов было трудным и трудоемким процессом. Многие ученые всю свою жизнь пытались получить 99-процентную чистоту редкоземельных элементов, обычно путем фракционной кристаллизации, которая использует небольшие различия в растворимости соли редкоземельного элемента в водном растворе по сравнению с растворимостью соседнего лантанидного элемента.
Поскольку было обнаружено, что редкоземельные элементы являются продуктами деления при расщеплении атома урана, Комиссия по атомной энергии США приложила большие усилия для разработки новых методов разделения редкоземельных элементов. Однако в 1947 Джеральд Э. Бойд и его коллеги из Окриджской национальной лаборатории, а также Фрэнк Гарольд Спеддинг и его коллеги из лаборатории Эймса в Айове одновременно опубликовали результаты, показавшие, что ионообменные процессы предлагают гораздо лучший способ разделения редкоземельных элементов.
Исследование 315 000 профилей пользователей ВК для NATO StratCom
Как мы исследовали последствия блокировки ВКонтакте в Украине
О клиенте и преследуемых целях
Центр передового опыта стратегических коммуникаций НАТО (NATO StratCom COE) — международная военная организация, аккредитованная НАТО. Он был основан в 2014 году и состоит из семи государств-членов – Эстонии, Германии, Италии, Латвии, Литвы, Польши и Великобритании.
Он был основан в 2014 году и состоит из семи государств-членов – Эстонии, Германии, Италии, Латвии, Литвы, Польши и Великобритании.
Миссия организации заключается в улучшении возможностей стратегических коммуникаций в Альянсе и союзных странах.
В июне 2018 года Стратком НАТО обратился в нашу компанию за помощью в новом исследовании проблем безопасности в онлайн-среде и роли правительств в противодействии им.
Объект нашего исследования
В мае 2017 года крупнейшая российская социальная сеть «ВКонтакте» (ВК) была запрещена в Украине для защиты национальной безопасности Украины от пророссийской пропаганды. После этого, по данным Google Trends, произошло снижение пользователей ВК почти на 80%.
Но последствия запрета ВКонтакте необходимо было изучить с других точек зрения, чтобы понять эффективность такой реакции правительства на пропаганду.
Мы разработали исследование 315 697 активных украинских профилей пользователей ВКонтакте из разных возрастных групп и местоположений, которое проводилось с 1 мая 2016 года по 14 июня 2018 года. Поскольку некоторые территории оккупированы Россией, мы также отдельно изучили два региона: территории (ППТ), где был введен запрет на ВКонтакте, и неподконтрольные правительству территории (НППТ), где запрет не вводился.
Нашей конкретной целью было проанализировать изменения в динамике постов, демографии пользователей и идеологических темах, используемых в постах до и после бана.
Используемые инструменты
Инструменты Social Media Intelligence, нейронные сети, кластеризация, социальные графы, анализ поведения пользователей.
Факты, которые мы обнаружили
Динамика публикаций
Для изучения этого аспекта мы разработали собственные Python-скрипты для поиска информации, которые позволили нам исследовать почти 20 миллионов сообщений.
В результате удалось определить три волны динамики постинга в ВК за исследуемый период.
Первая волна была до бана, когда общее количество постов достигло 101 000 в день. Вторая волна была после бана, когда число сократилось на 53% до 38 000 в среднем. С апреля 2018 года, когда началась третья волна, трафик снизился на 10 000 и стабилизировался на этом уровне.
Анализ поведения пользователей
С помощью социальных графов нам удалось провести анализ поведения пользователей и исследовать:
- кто ушел из вк после бана
- кто остался в соц сети
- кто был самым влиятельным и как менялись их связи.
Результаты исследования показали, что после бана пользователи ВКонтакте стали более подключенными. У пользователей из GCA (подконтрольных правительству территорий) после запрета было в среднем на 16% больше друзей, чем до него.
Мы также обнаружили, что пользователи из ППТ, которые продолжали использовать ВК после запрета, были на 4,2 года моложе, чем пользователи из неподконтрольных правительству территорий (27 лет против 31 года).
Тематический анализ постов
В ходе исследования мы использовали алгоритм кластеризации, позволяющий идентифицировать посты аккаунта на идеологическую тематику. Мы обнаружили, что количество идеологических постов после бана увеличилось в 1,22 раза по сравнению с периодом до бана.
По результатам нашего процесса кластеризации появилась новая тема «Российские новости». Заметно увеличилась «пророссийская пропаганда», а доля «украинских новостей» уменьшилась. Эти изменения можно объяснить переходом в пророссийскую инфосферу.
Идейные пользователи стали значительно больше связаны – после бана среднее количество друзей у идеологического пользователя выросло со 197 до 501.
Результаты, которые мы получили исследования в течение месяца.
Популярность сети ВКонтакте в Украине заметно снизилась. Но кроме этого предсказуемого факта обнаружилось много других аспектов:
- Изучив 20 млн постов, мы определили три волны динамики постинга и заметили новую тенденцию ухода пользователей после апреля 2018 года9.0055
- Сравнив распространение ВК на разных территориях, мы пришли к выводу, что сейчас на подконтрольных правительству территориях оно всего на 19% ниже, чем на территориях, оккупированных Россией.
- С помощью социальных графов было установлено, что после бана пользователи ВКонтакте в среднем стали больше подключены и стали потреблять больше информации из большего количества групп.
- Аудитория ВКонтакте помолодела, и ее средний возраст различается на территориях ГК и НГК.
- Используя алгоритм кластеризации, мы смогли определить идеологических пользователей, которые продолжали пользоваться ВКонтакте.
 Они стали более активными в публикации по сравнению со средним пользователем. Увеличилась доля идеологических постов — с 36% до бана до 52% после бана.
Они стали более активными в публикации по сравнению со средним пользователем. Увеличилась доля идеологических постов — с 36% до бана до 52% после бана.
Исследование стало частью исследования StratCom НАТО, посвященного роли правительств в противодействии критическим вызовам безопасности. Он был включен в публикацию «Последствия запрета социальной сети ВК в Украине».
Получите бесплатную консультацию нашего эксперта
| СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ
3
Получить учебники | Новые учебники | Подержанные учебники | Учебники для колледжей
bn=vk ahluwalia&pg=2 | Получить учебники | Новые учебники | Подержанные учебники | Учебники для колледжей – GetTextbooks.com
| ||||||||||||
| Войти | Зарегистрироваться | Настройки | Продать книги | Список желаний |
| Поиск… |
| 0 % | |||
| Discovery Philosophy & Ethics for Ocr Gcse Religious Studies by Jon Mayled, Libby Ahluwalia Мягкая обложка , 208 страниц , Опубликовано в 2002 г.  компанией Trans-Atlantic Publications, Inc. компанией Trans-Atlantic Publications, Inc. |
| Christianity (Religious Studies for Ocr Gcse) by Jon Mayled, Janet Green, Libby Ahluwalia Paperback , 160 Pages , Published 2003 by Hodder Arnold ISBN-13: 978-0-340-78962-9, ISBN: 0-340-78962-X |
| Принятие мер (торговое издание) Создание социальных изменений посредством силы, солидарности, стратегии и устойчивого развития Топорек, Ребекка Л., Ахлувалия , Мюндер Каур Торговля в мягкой обложке , 9062 Опубликовано 2020 by Cognella Press ISBN-13: 978-1-5165-9121-3, ISBN: 1-5165-9121-6 |
| Что дальше для вас Восьмикратный путь к преобразованию того, как мы нанимаем и управляем талантами от Ashutosh Garg, Kamal Ahluwalia , Джон В.  Томпсон Томпсон Hardcover , 184 Page , Published 2019, 184 Pages , Published 2019, 184 Pages , . ISBN-13: 978-1-9822225-48-3, ISBN: 1-982225-48-3 |
|