Содержание
Человек науки и наука человечности
…В книгах ищут не развлечение и не забвение, но истину и духовное оружие,
Т. Манн
Ни одна из беллетристических или научно-популярных книг об ученых не проходит мимо читателя. Более того: романы или повести об ученых чаще всего становятся «бестселлерами».
Есть определенная социальная закономерность в огромной популярности такой литературы сейчас, на рубеже десятилетий, в эпоху ускоренного научно-технического прогресса. Наука постепенно превращается в ведущий фактор общественного производства. Начало этого процесса отмечал К. Маркс: «…Научный фактор впервые сознательно и широко развивается, применяется и вызывается к жизни в таких масштабах, о которых предшествующие эпохи не имели никакого понятия» 1.
Объем научных исследований, ведущихся в нашей стране, беспрецедентен. Масштаб людских ресурсов современной советской науки колоссален, – по сравнению с 1940 годом численность рабочих и служащих в сфере науки увеличилась в одиннадцать раз и превысила 4 миллиона человек.
Академик Г. Марчук в одном из своих выступлений подчеркнул: «Реализация научных идей, материализация научных достижений в технических системах предполагают высокий уровень развития интеллектуальных способностей человека, его нравственной и социальной ответственности. НТП (научно-технический прогресс – Н. И.), создавая условия для решения важных социальных проблем, предоставляет человеку возможности активного подхода к действительности, творческого участия в социальной деятельности, реализации его планов. В то же время человеческий фактор является центральным в осуществлении задачи соединения преимуществ социализма с достижениями научно-технической революции».
Можно напомнить и об усиленной интеллектуализации технического труда, и о повышении роли науки и использовании ее достижений на благо всей экономики страны, и о том, что под влиянием научно-технического прогресса меняется система образования. Меняется и характер самого научного поиска – «повышается роль коллективного труда, возрастает удельный вес совокупного творческого потенциала», как замечает Г.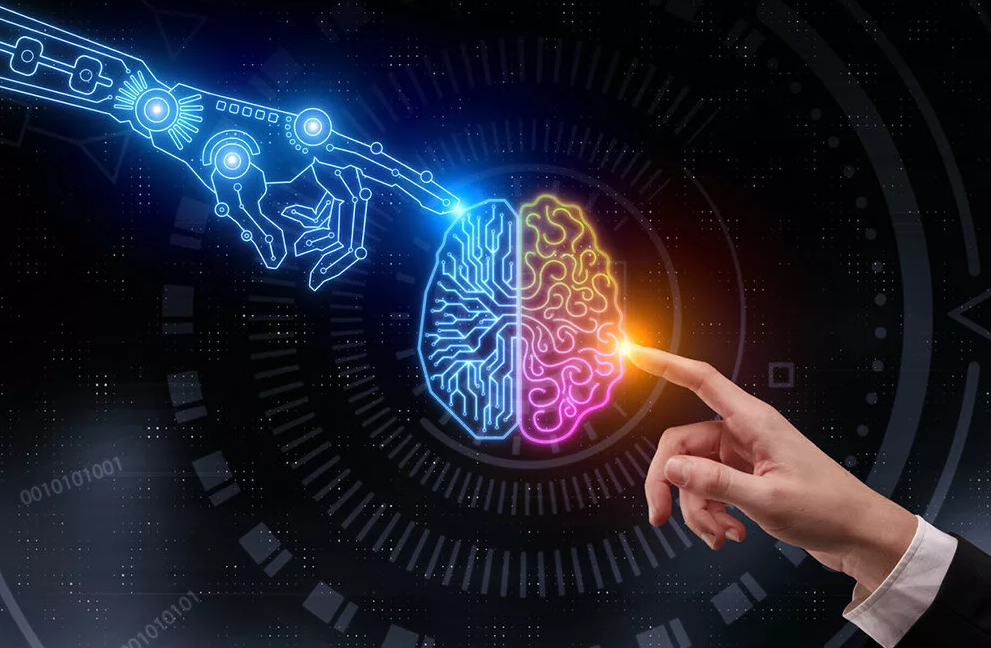 Марчук.
Марчук.
В общем, все говорит о том, что люди науки, ученые, стали мощной производительной и общественной силой. И сами по себе для литературы они, яркие, творческие личности, действительно представляют большой интерес.
Второй фактор: наука, как никогда прежде, своими достижениями стала не только служить прогрессу, но и своими последствиями беспокоить человечество. Человечество беспокоится о своей судьбе. И литература задумалась: а кто же они, эти люди, делающие столь парадоксальные – с нравственной точки зрения – открытия? Взрыв, «бум» беллетристики, кино и живописи, с героями-учеными, пал на 60-е годы. Именно тогда и обнаружила наука свой двусторонний и парадоксальный лик; именно тогда с благоговейным трепетом вглядывались «обычные» интеллигенты в неописуемо отчужденные от мирской суеты лица очкастых молодых гениев, обтянутых черными свитерами, колдовавших над таинственными приборами или застывших в неопределенно величественной, недоступной простым смертным медитации…
(Насколько реалистичным, похожим было такое изображение, я судить не берусь.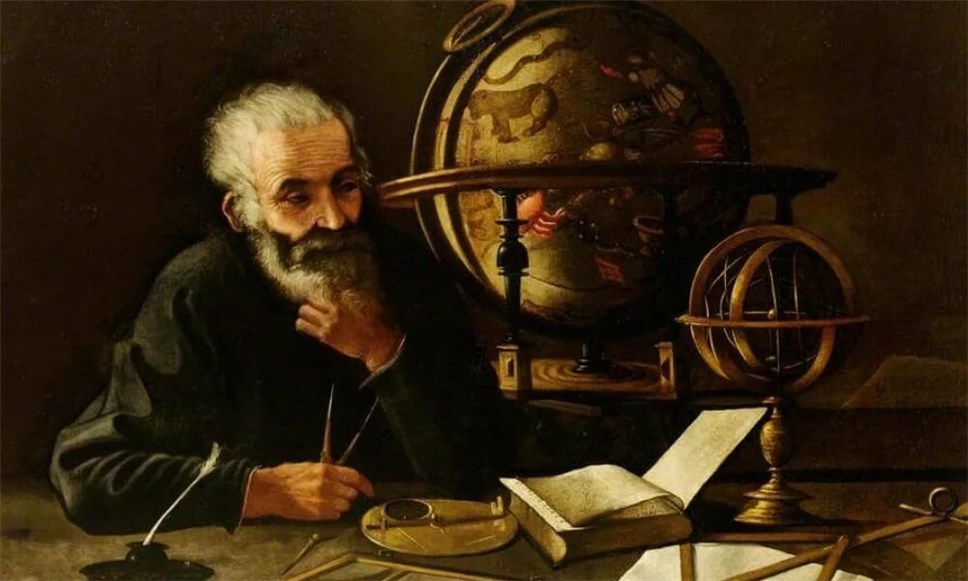 )
)
Герои были возвышенные, отрешенные, не такие, как все. Повесть И. Грековой «За проходной» населяли какие-то непонятные, даже и вовсе иногда на людей непохожие интеллектуальные «силы». В фильме «Девять дней одного года», который, как писали тогда критики, открывает новые горизонты исследования человека, вообще нет изображения личности, человека как неповторимого и уникального творения, а есть интеллектуальная тень человека, который, как иронизировал П. Палиевский, «стремится смертельно облучиться, а смертельно облучившись, начинает скорее записывать формулы, не обращая внимания на жену, которая пришла к нему в этот момент, потрясенная тем, что он должен умереть. Ценнее всего на свете для него это абстрактное знание».
Гуманизм литературы был как бы отодвинут в сторону; на первый план выходили – лаборатории, опыты, эксперименты, какие-то словно картонные реакторы. Чисто личные, личностные «запросы» героев игнорировались. Все вроде бы компенсировала ирония. Но ирония, прикрывая, ни от чего не спасает.
Эта литература и это искусство были романтичны по своему пафосу, по своей сути; они изображали своих героев некими «байроническими натурами»: ирония, подмешанная к цинизму, скепсис, прекрасная наружность, и все это – на фоне молний, грозы, ливня, в общем, – в стремлении покорить, разгадать, подчинить стихию.
А уж если здесь изобличался цинизм, то и цинизм тоже был не какой-нибудь простецкий, а глобальный: «хоть черту душу заложить, лишь бы дело делать», как говорит Тулин из «Иду на грозу» Д. Гранина. Тот же Тулин замечает: «Галилей все-таки отрекся. Ради того, чтобы иметь возможность работать и дальше. Он был деловой товарищ…».
Но проза эта была в то же время и сентиментальной. Обманутые девушки, преданные возлюбленные, уходящие куда-то прочь, уезжающие, улетающие, чтобы не мешать любимому заниматься наукой. Проливались слезы, разыгрывались мелодрамы, совершались и преодолевались адюльтеры. Все ради науки, все жертвы на ее алтарь, да и жертвы ли это! – так стоял вопрос.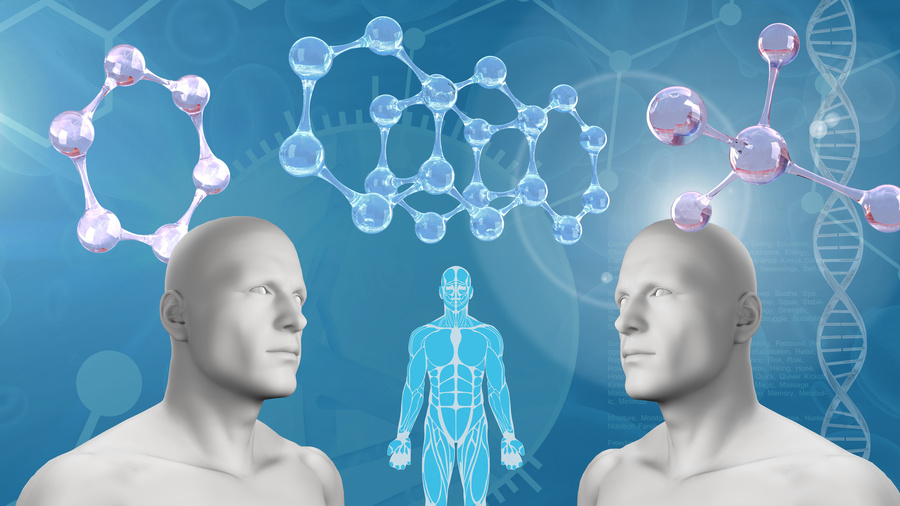 «Физики», я думаю, торжествовали. Во всем, во всех областях знания началось повальное увлечение точными науками. Люди готовы были всю жизнь просчитывать на машине чей-нибудь частотный словарь или искать систему употребления гласных в творчестве Ахматовой.
«Физики», я думаю, торжествовали. Во всем, во всех областях знания началось повальное увлечение точными науками. Люди готовы были всю жизнь просчитывать на машине чей-нибудь частотный словарь или искать систему употребления гласных в творчестве Ахматовой.
Сейчас, когда в литературном процессе обозначилось такое существенное явление, как «деревенская проза» (можно сколько угодно спорить о термине, но другого пока нет), когда развитие литературно-критической мысли как бы направлено этим неожиданным, не запланированным в эпоху НТР самодвижением литературы, когда ведутся споры и ломаются копья вокруг перспективности «техносферической» прозы, проза, героями которой являются ученые, деятели науки, так волновавшая читателя в 60-е годы, не находится в центре общественного внимания. Оставшись столь же популярной и читабельной, она, как это ни парадоксально, существует где-то на периферии современной критики. Хотя, казалось бы, проблемы, поднимаемые ею, герои, изображаемые и столь любимые ею, есть самые современные проблемы и самые современные герои.
Ю. Суровцев в своей статье «Люди искусства и науки в современном романе» («Дружба народов», 1976, N 2) писал: «Научное в Вихрове, Лобанове, Крылове- это неотъемлемая часть их человеческого облика, характера, поведения, и на эту именно «часть» Леонов и Гранин обратили внимание, вроде бы и непропорционально большое. Однако литература не арифметика, и пропорции здесь иной, не количественной природы. Думаю, не ошибусь, сказав, что «Русский лес» и романы Гранина об ученых пришлись ко двору в свое время не только благодаря нравственной проблематике и обогнали «свое» время тоже не из-за нее одной.
Изображение самого процесса творческого труда людей творческих профессий – актуальная задача сегодняшней прозы».
Но что такое творческий труд? Каким видится критику изображение этого процесса?
Изображение творческого процесса отнюдь не тождественно, на мой взгляд, изображению только творческого труда где бы то ни было – в лаборатории или в уютной квартире.
Изображение творческого процесса – это и изображение биографии души ученого, творца, это и изображение самовыявления и самовыражения личности – одна из сложнейших задач литературы вообще. Творческий процесс гораздо обширнее и мощнее самого результата, итога, открытия как данности. Не подробное описание деятельности мозга либо «душевного подъема», сопровождающего «открытие», а проникновение в органическую, напряженную жизнь души – вот что должен поставить своей целью писатель.
Размышляя о задачах искусства, в одном из своих ранних выступлений М. Бахтин писал: «Три области человеческой культуры – наука, искусство и жизнь – обретают единство только в личности, которая приобщает их к своему единству. Но связь эта может стать механической, внешней. Увы, чаще всего это так и бывает.
Художник и человек наивно, чаще всего механически соединены в одной личности; в творчество человек уходит на время из «житейского волненья»…»
Достичь единства, показать «внутреннюю связь элементов личности» поможет только одно – «единство ответственности», замечает М. Бахтин. Изображение пошлой, событийной прозы жизни самой по себе, а творческого процесса или вдохновения – самого по себе, без слияния в личности поэта или ученого, сознающего свою ответственность и свою вину за «прозу» жизни, – такое отдельное, «поэтажное» исследование человека неплодотворно.
Бахтин. Изображение пошлой, событийной прозы жизни самой по себе, а творческого процесса или вдохновения – самого по себе, без слияния в личности поэта или ученого, сознающего свою ответственность и свою вину за «прозу» жизни, – такое отдельное, «поэтажное» исследование человека неплодотворно.
В дальнейшем я остановлюсь на некоторых произведениях, посвященных людям науки и появившихся в последние годы. Я намеренно не расширяю круг таких произведений. Нет, пожалуй, ничего более неточного и несправедливого в критике, чем группировка произведений по «производственному» принципу. Чаще всего в одну «обойму» благодаря такой группировке попадают произведения совершенно разные по своему художественному методу, по жанру, героям, проблематике. Поэтому я остановлюсь на тех произведениях, которые объединяет, на мой взгляд, попытка изображения творческого процесса как процесса самосознания личности (многие из них уже были предметом критического анализа).
* * *
А. Крон в «Бессоннице» попытался показать биографию души своего героя его собственными глазами через полуисповедь-полудневник.
Крон в «Бессоннице» попытался показать биографию души своего героя его собственными глазами через полуисповедь-полудневник.
«Исповедь» его условна. Например, только что он получает записку о смерти руководителя Института онтогенеза, ближайшего своего соратника и друга Павла Успенского – и тут же замечает: «Меня всегда забавляло (подчеркнуто здесь и далее мной. – Н. И.) выражение «пишущий эти строки». Почему-то я представляю себе этого пишущего тощим испуганным человечком, выглядывающим из-за частокола строк, одной из тех комических фигурок, какие нынче принято рисовать на полях научно-популярных изданий… Пишущий эти строки даже пытался убедить себя, будто делает это исключительно для собственного удовольствия, но очень скоро догадался, что лукавит». И так далее. Это, можно сказать, одно из первых, но сильных впечатлений от героя – кокетство. Однако кокетство во время исповеди, да еще и перед гробом Успенского… не слишком ли?
Но Юдин сразу и как-то уж очень афористично заявляет, что не слишком: «Но вот его (Успенского. – Н. И.) больше нет, и в дальнейшем мне предстоит адаптировать свою психику с учетом этой новой реальности. Наше сознание консервативно, и в одну минуту это не делается». И эта афористичность, признаюсь, опять-таки настораживает. Правда, Юдин – физиолог, он не будет сентиментально лить слезы, он трезвый аналитик, для него эмоция есть тоже предмет размышлении, а не только человеческое, человечное чувство. И исповедь для него не старинное средство открыть душу, как говорили раньше, покаяться, но средство того же самого анализа, оценки, ломки стереотипных восприятий, осуждения, а иногда и – суда. Эти «ночные записи» Юдина ведутся при свете бдительного досмотра.
– Н. И.) больше нет, и в дальнейшем мне предстоит адаптировать свою психику с учетом этой новой реальности. Наше сознание консервативно, и в одну минуту это не делается». И эта афористичность, признаюсь, опять-таки настораживает. Правда, Юдин – физиолог, он не будет сентиментально лить слезы, он трезвый аналитик, для него эмоция есть тоже предмет размышлении, а не только человеческое, человечное чувство. И исповедь для него не старинное средство открыть душу, как говорили раньше, покаяться, но средство того же самого анализа, оценки, ломки стереотипных восприятий, осуждения, а иногда и – суда. Эти «ночные записи» Юдина ведутся при свете бдительного досмотра.
Юдин по характеру своего труда и натуры не работник, не «деятель», а ученый, исследователь, аналитик, человек думающий прежде всего. Он, правда, сразу попытался отделить свою работу в лаборатории от своих размышлений о жизни, «научное» от «человеческого»: «как вещественный след моих ночных бдений у меня накопились кое-какие записи приватного характера, имеющие лишь отдаленное отношение к той исследовательской работе, которой я занимаюсь у себя в лаборатории».
Сам процесс научного труда А. Крон не изображает – его волнуют бытовые происшествия и события социальные, частью которых является наука как сфера общественного сознания. В принципе его герои могли быть и не физиологами, а, скажем, литераторами либо врачами – людьми любой «интеллигентной» профессии, любого умственного труда.
Правда, писатель удивительно щедр на детали и воспроизводит жизнь Института и лаборатории, «научный быт» достоверно, скрупулезно выписывая фактуру действительности. Но существует, живет и мыслит его герой Юдин не в Институте, не в лаборатории, а в настоящей «башне из слоновой кости», холостяцкой квартире, «будто нарочно созданной для уединения и размышления». Эта позиционная отдаленность, положение Юдина в пространстве как бы «над схваткой» – не случайная деталь в романе.
Однако, размышляя о жизни, Юдин не забывает о своей работе, о проблемах надежности человеческого организма, которыми он занимается: «К моему герою примешивается и профессиональный интерес. Одна из самых спорных проблем физиологической науки – граница между нормальным и патологическим развитием организма. Был ли Успенский болен, во всяком случае болен настолько, чтобы смерть его была неизбежным следствием болезни?» Но Юдин тут же, отдав дань профессии, отмахивается от нее: в конце концов, не важно, от чего, важно, что он умер и что сейчас происходит с Бетой, его вдовой…
Одна из самых спорных проблем физиологической науки – граница между нормальным и патологическим развитием организма. Был ли Успенский болен, во всяком случае болен настолько, чтобы смерть его была неизбежным следствием болезни?» Но Юдин тут же, отдав дань профессии, отмахивается от нее: в конце концов, не важно, от чего, важно, что он умер и что сейчас происходит с Бетой, его вдовой…
И в описании истории Института рассказчика волнует не «борьба умов», не различие взглядов и позиций героев в науке, которой они отдали жизнь, а побочные истории, как бы легенды, мифологизирующие эту историю.
Возьмем, например, происшествие с пропажей шинели, занимающее столь большое место в повествовании. «Произошло это на второй день чрезвычайной сессии нашего Института, сохранившейся в памяти коллектива как «антинеомальтузианская», – замечает повествователь. – Почему подвергшиеся на этой сессии разгрому видные ученые и способная молодежь обвинялись именно в неомальтузианстве, мне не совсем ясно и поныне…» Вот здесь бы и обнажить кипевшие страсти, здесь бы и показать характеры, убеждения, столкновения, носившие, между прочим, отнюдь не безобидный характер.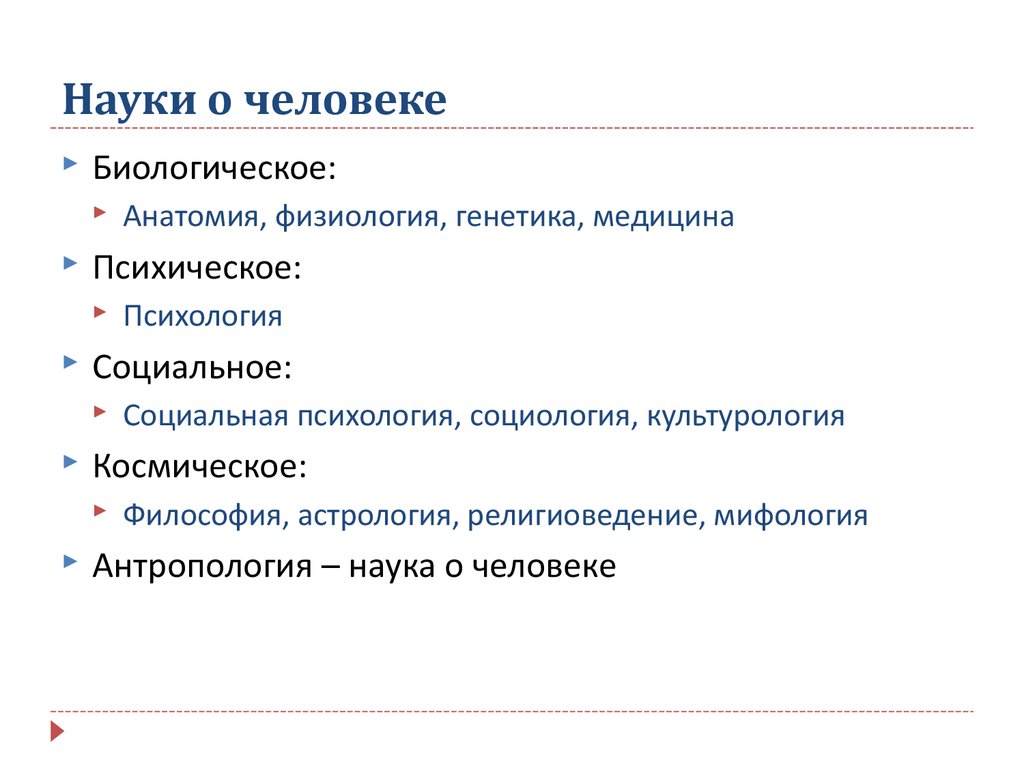 Однако повествователь отделывается скороговоркой и переходит на эпизод с шинелью, украденной у генерала. Для повествователя этот эпизод важнее всей «чрезвычайной сессии». Старик Антоневич, из гардероба которого украли шинель, своей стабильной и неколебимой честностью как бы противостоит той несправедливости, которая воплотилась для него в приспособленце и карьеристе Вдовине. Эпизод рассказан подробнейшим образом, во всех деталях. Все громкокипящие страсти стихают рядом с этим происшествием, которое «сразу стало известно всему Институту и на некоторое время умягчило создавшееся после сессии умонастроение, внеся в него гуманно-юмористическую нотку».
Однако повествователь отделывается скороговоркой и переходит на эпизод с шинелью, украденной у генерала. Для повествователя этот эпизод важнее всей «чрезвычайной сессии». Старик Антоневич, из гардероба которого украли шинель, своей стабильной и неколебимой честностью как бы противостоит той несправедливости, которая воплотилась для него в приспособленце и карьеристе Вдовине. Эпизод рассказан подробнейшим образом, во всех деталях. Все громкокипящие страсти стихают рядом с этим происшествием, которое «сразу стало известно всему Институту и на некоторое время умягчило создавшееся после сессии умонастроение, внеся в него гуманно-юмористическую нотку».
Да и в описании самой сессии повествователя занимает не столько суть дела, сколько обстановка: безразмерные носки и шариковые ручки, продававшиеся с лотков; жаркие юпитеры, блеск орденов и лауреатских знаков.
Следующий эпизод с Антоневичем происходит во время обсуждений решений XX съезда, так много изменивших в жизни всей страны и Института в частности: «В эти горячие дни никто не вспоминал о старике Антоневиче. Но старик сумел о себе напомнить. Во второй день в кулуары собрания просочилась сенсация, на короткое время затмившая события куда большего масштаба:
Но старик сумел о себе напомнить. Во второй день в кулуары собрания просочилась сенсация, на короткое время затмившая события куда большего масштаба:
– Старик Антоневич женится!»
Конечно, Антоневич действительно воплощение Совести Института, живой его ангел-хранитель. Но достаточна ли «событийная» позиция повествователя?
Замечу в то же время, что автор не допускает нарочитого отделения в Юдине профессионального от человеческого. И наука, которой занимается Юдин, – это наука о человеке, и интерес его к человеку необычайно обострен, нацелен, откровенен и открыт. Замечательна та внимательность, с которой Юдин описывает человеческие экземпляры, как бы беря их на заметку, на «карточку» (кстати, и этим тоже, а не только «гуманизмом» объясняется пристальный интерес Юдина к Антоневичу). Отсюда, как правило, «все другие» для Юдина статичны, и иногда «среда обитания» точнее, четче рассказывает об обитателе, чем сам экземпляр (например, почти сатирическое описание кабинета директора продмага Шалашова: «Стол товарища Шалашова… поражал богатством и разнообразием реквизита.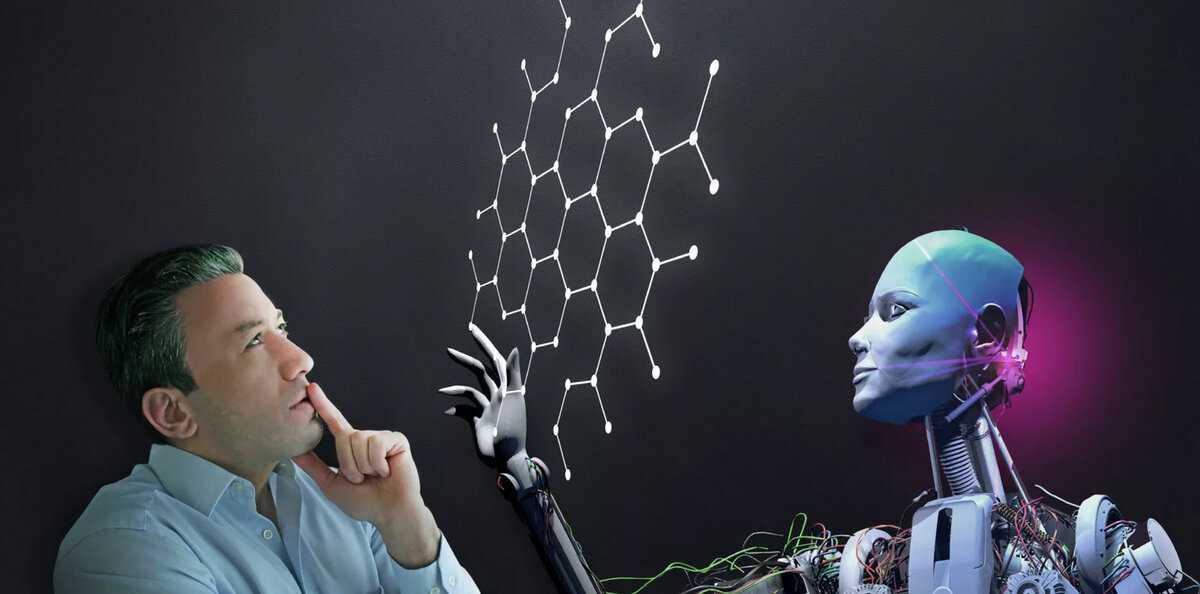 Чернильный прибор в виде орла с распростертыми крыльями весил, вероятно, около пуда…» – и так далее; а затем и его самого: «Товарищ Шалашов продолжал писать. Я залюбовался им. Все – цвет кожи, блеск волос, каждое движение – свидетельствовало об идеальной работе всего физиологического аппарата»).
Чернильный прибор в виде орла с распростертыми крыльями весил, вероятно, около пуда…» – и так далее; а затем и его самого: «Товарищ Шалашов продолжал писать. Я залюбовался им. Все – цвет кожи, блеск волос, каждое движение – свидетельствовало об идеальной работе всего физиологического аппарата»).
Предугадывая реакцию читателя, сомневающегося в необходимости такого явного крена в сторону максимально подробного изложения бытовых сцен, событий и происшествий, возникновения на страницах «записей» Юдина множества неожиданных для жанра «романа об ученом» болтливых персонажей, побочных эпизодов, автор шутливо, опять-таки устами главного своего героя, замечает: «Перечитывая сегодня эти прошлогодние записи, я задаю себе вопрос: не слишком ли много внимания к тому, что в нашей литературной критике принято называть «задворками жизни»? Откровенно говоря, этот термин никогда не казался мне удачным. Я физиолог и привык считать, что в любом организме все соподчинено и нет никаких задворков… Нельзя постигнуть все причины старения, не изучая быта. Слово это чисто человеческое, применительно к животным мы говорим «условия обитания».
Слово это чисто человеческое, применительно к животным мы говорим «условия обитания».
В романе откровенно разделяются две линии, говоря условно: научно-этическая, «институтская», в которой, в отличие от литературной схемы «романа об ученых» предыдущего десятилетия, любовь и наука действуют заодно, и бытовая, те самые «задворки жизни», изучение и изображение которых столь валено и необходимо повествователю.
Игорь Золотусский писал в своей статье середины 60-х годов «Фауст и физики»: «Сейчас нет смысла говорить о том, что показал Гранин в Тулине. Об этом уже писали. Важнее то, о чем напомнил нам этот роман. Он напомнил нам, что никакой разницы между литературой о человеке и литературой о человеке науки нет.
Вот почему Фауст, почти не притрагивавшийся к пробирке, дает мне больше знания о драме сознания, чем сверхъядерщик из только что появившейся пьесы».
А. Кроном, например, достоверно, с фактологическими подробностями изображаются те обстоятельства, при которых терпит внутренний крах и уходит из жизни Успенский, или та мелодрама (а иногда и водевиль) обстоятельств, из которых «выбирается» в быту Юдин.
Драма обстоятельств – и драма сознания. Еще раз процитирую И. Золотусского: «…Драма обстоятельств… в конце концов всякая житейская драма. Она возможна не только в сфере науки, но и в других сферах.
Человек недоволен жизнью, она кажется ему хуже, чем он ее себе представляет. И он вступает в спор с жизнью, пробует преодолеть разрыв. И чего бы он ни желал при этом – клочка земли или свободы для общества, – это драма обстоятельств.
Драма сознания – это драма самой мысли, драма познающего духа, драма науки. Эйнштейн назвал ее «драмой идей».
Современная беллетристика порой останавливается на драме обстоятельств, сопровождающих научный процесс. Расширить «сферу человеческого» писатель пробует за счет сугубого быта, практики, «условий обитания» – борьбы с химчисткой, изображения продавцов в магазине, бесед с домработницами, эпизодов со стариком Антоневичем.
«Биография души» героя, как в песок, уходит в событийное, мелкое, сиюминутное, слишком «современное», слишком фельетонное.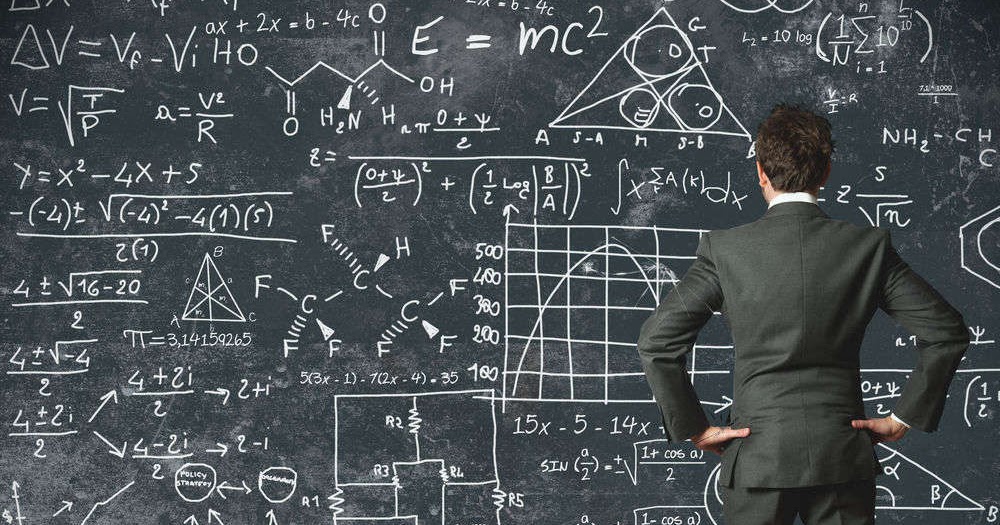 Да, драма сознания, творческое напряжение души не могут существовать вне обстоятельств, независимо от них. И тут я никак не могу согласиться с точкой зрения И. Золотусского, отделяющего драму сознания от драмы обстоятельств. Обстоятельства драмы сознания, социальная обусловленность философской, напряженной мысли ученого – вот что являет литературу о творцах (ученых, художниках) в лучших и пока недосягаемых своих образцах – в том же «Русском лесе» и «Скутаревском» Л. Леонова.
Да, драма сознания, творческое напряжение души не могут существовать вне обстоятельств, независимо от них. И тут я никак не могу согласиться с точкой зрения И. Золотусского, отделяющего драму сознания от драмы обстоятельств. Обстоятельства драмы сознания, социальная обусловленность философской, напряженной мысли ученого – вот что являет литературу о творцах (ученых, художниках) в лучших и пока недосягаемых своих образцах – в том же «Русском лесе» и «Скутаревском» Л. Леонова.
При всей очевидной гуманности выбранной точки зрения А. Крон изображает человека как продукт определенных обстоятельств. «Среда заела», – как писал Достоевский, посмеиваясь над вульгарным материализмом. Известна, однако, та критика, которой основоположники научного коммунизма подвергали это характерное для домарксова материализма заблуждение, к сожалению, в практике художественного творчества сохранившее силу непререкаемого авторитета. «Материалистическое учение о том, – писал К. Маркс, – что люди суть продукты обстоятельств и воспитания, что, следовательно, изменившиеся люди суть продукты иных обстоятельств и измененного воспитания, – это учение забывает, что обстоятельства изменяются именно людьми…» 2
Юдин пытается бороться с обстоятельствами, но они обходят его, ищут лазейку – и находят! «Я ушел взбешенный. Коробочка все-таки меня настигла. Ее принес Фрол. Он заплатил свои деньги, и мне было некуда податься. В коробочке были аккуратно уложены завернутые в пергаментную бумагу икра и севрюга, банки с крабами и растворимым кофе, с десяток апельсинов – все то, чего не было на прилавках. И я понял, что Шалашова мне не сломить».
Коробочка все-таки меня настигла. Ее принес Фрол. Он заплатил свои деньги, и мне было некуда податься. В коробочке были аккуратно уложены завернутые в пергаментную бумагу икра и севрюга, банки с крабами и растворимым кофе, с десяток апельсинов – все то, чего не было на прилавках. И я понял, что Шалашова мне не сломить».
В романе «Двухчасовая прогулка» В. Каверина перед нами – жизнь и борьба с обстоятельствами Петра Андреевича Коншина, биолога, заведующего отделом в научно-исследовательском Институте.
Замечу сразу: какими проблемами занят Коншин, автору в принципе не важно. Важно то, что противостоящие черные силы в лице директора, а также замдиректора пытаются не дать Коншину и его сотрудникам этими проблемами заниматься, пытаются развалить, уничтожить талантливейший отдел Института.
Как и в «Бессоннице», соль повествования составляет не сюжет (борьба с административными методами руководства наукой), а подробности, тщательное выписывание «интерьера» обстоятельств событийной жизни героя.
- К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т, 47, стр. 556.[↩]
- К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 3, стр. 2.[↩]
Хотите продолжить чтение? Подпишитесь на полный доступ к архиву.
Уже подписаны? Авторизуйтесь для доступа к полному тексту.
Человек. Наука. Цивилизация. К семидесятилетию академика В.С. Стёпина | История философии, Русская | Книги по философии
- Подробности
- Категория: История философии, Русская
- Создано: 2011-06-18
Автор: doctordss
- Просмотров: 1229
Отв. редактор , составитель И.Т. Касавин
Человек. Наука. Цивилизация. К семидесятилетию академика В.С. Стёпина
М.: Канон+ , 2004. — 816 с.
ISBN 5-88373-225-9.
Формат: PDF 27,1 Мб
Качество: сканированные страницы + текстовый слой
Язык: русский
Книга представляет собой юбилейное издание, посвященное 70-летию академика Российской академии наук В.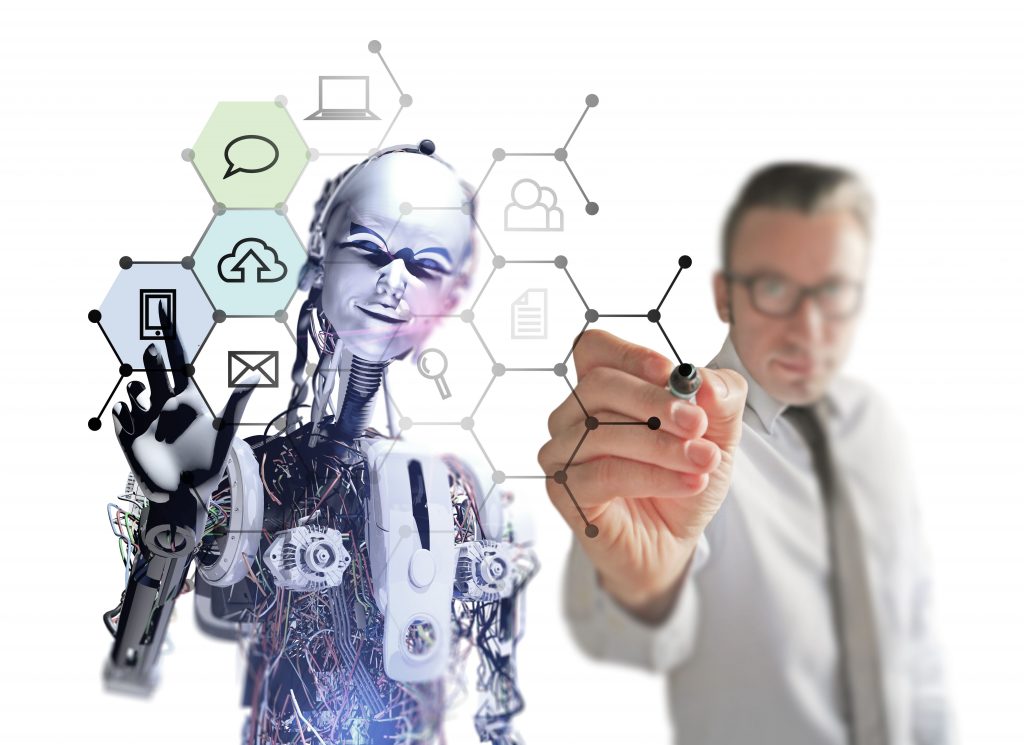 С. Стёпина, автора широко известных работ в области теории познания, истории и методологии науки, философии культуры и социальной философии. В работе приняли участие видные ученые не только России, но и Беларуси, Украины и других зарубежных стран, выступившие со своими оригинальными концепциями, как связанными с трудами В. С. Стёпина, так и просто посвященными ему В книге освещается весьма широкий круг проблем, которыми он занимается и которые стали главными темами настоящей публикации. Это природа и способы формирования научного знания, методологический анализ истории науки, картина мира и структуры бытия, эпистемология и типы рациональности, судьбы культуры и цивилизации, понимание гуманистических ценностей, а также социальный и личностный контекст его научного творчества. Главное внимание в книге уделено эвристичности и актуальности идей В. С. Стёпина о необходимости создания нового теоретического мировоззрения, о взаимосвязи науки и других видов культуры, роли ценностей в развитии техногенной цивилизации, которые открывают новые перспективы общественного развития.
С. Стёпина, автора широко известных работ в области теории познания, истории и методологии науки, философии культуры и социальной философии. В работе приняли участие видные ученые не только России, но и Беларуси, Украины и других зарубежных стран, выступившие со своими оригинальными концепциями, как связанными с трудами В. С. Стёпина, так и просто посвященными ему В книге освещается весьма широкий круг проблем, которыми он занимается и которые стали главными темами настоящей публикации. Это природа и способы формирования научного знания, методологический анализ истории науки, картина мира и структуры бытия, эпистемология и типы рациональности, судьбы культуры и цивилизации, понимание гуманистических ценностей, а также социальный и личностный контекст его научного творчества. Главное внимание в книге уделено эвристичности и актуальности идей В. С. Стёпина о необходимости создания нового теоретического мировоззрения, о взаимосвязи науки и других видов культуры, роли ценностей в развитии техногенной цивилизации, которые открывают новые перспективы общественного развития.
Авторы настоящего издания избрали предметом своего интереса темы, занимавшие юбиляра на его долгом научном пути. Среди них природа и способы формирования теоретических объектов науки, структура и развитие научного знания, связь науки и иных типов культуры, характер культурной динамики и взаимосвязи различных культур, типы цивилизаций и будущее человечества, природа философской рефлексии, ее роль в культуре и обществе и многое другое. Чрезвычайное многообразие, отличающее эту тематику, на первый взгляд граничит с разбрасыванием, если не понять внутренней логики развития личности автора. В данном случае эта логика напоминает логику развертывания теоретического знания. Оно начинается с конструктивного введения абстрактного объекта, прорабатывания его на ряде экспериментальных ситуаций, уточнения в ходе включения его в общую теоретическую схему наполнения его новым содержанием в ходе междисциплинарного взаимодействия и приобретения им панорамного методологического и мировоззренческого смысла в контексте оснований науки.
Оглавление
И. Т. Касавин. Предисловие 8
I. ВАЖНО, ЧТОБЫ РАБОТА НЕ ПРЕКРАЩАЛАСЬ .11
Беседа первая. Система отсчета 11
Беседа вторая. От структуры теории — к основаниям науки 34
Беседа третья. Культура и типы рациональности 54
Беседа четвертая. Философия и цивилизация 70
II. ПРИРОДА ФИЛОСОФИИ 89
Т.П. Ойзерман
Что такое философия? 89
И. Т. Касавин
Философская рефлексия и универсалии культуры 97
Е.Л. Фейнберг
Об «основном вопросе философии» 113
КуртХюбнер (Германия)
Как философия высказывается о поэзии 117
III. НАУЧНАЯ ТЕОРИЯ. ОСНОВАНИЯ НАУКИ 126
Л. М. Томилъчик (Беларусь)
Логика открытия 126
Л.Ф. Кузнецова (Беларусь)
Динамика оснований науки и проблема порождения
нового научного знания 137
М. А. Розов
О структуре теории .148
Ханс Позер (Германия)
Математика и Книга Природы. Проблема применимости математики к реальности 163
Проблема применимости математики к реальности 163
Вл.П. Визгин
О проблеме научных революций и их типологии 179
Я. С. Яскевич (Беларусь)
Эволюция эталонов методологического дискурса: от классической к современной науке .196
Е.А. Мамчур
Являются ли все еще единство и простота идеалами научного знания? .209
Л Л. Маркова
Самодостаточность вместо объективности (в науке и в искусстве) 224
Мюнг-Хюн Ли (Республика Корея)
За пределами спора реализма и антиреализма 235
IV. ФИЛОСОФИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 240
И. С. Добронравова (Украина)
Методологическая концепция Стёпина в применении к нелинейной науке 240
Том Рокмор ( США )
Постнеклассическая концепция науки B.C. Стёпина
и эпистемологический конструктивизм . 248
A.П. Огурцов
Философия науки в России: марафон с барьерами .261
B. Л. Рабинович
Что было, то не сплыло. Реставрация или реконструкция? 280
Ханс Ленк (Германия)
Оперативные и теоретикодеятельностные аспекты технологической теории науки .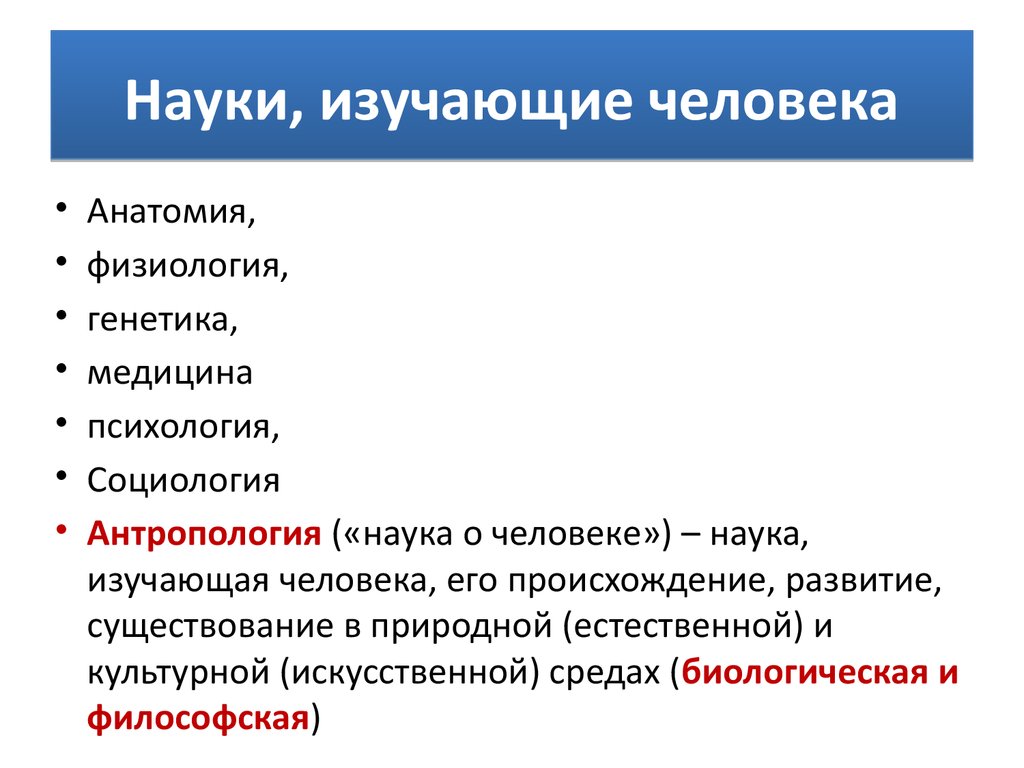 293
293
В. Ж. Келле
От производства знаний к производству технологий .302
В. Г. Горохов
Социальная оценка техники как «прикладная» философия техники 314
V СТРУКТУРЫ БЫТИЯ 334
Ю.В. Сачков
Вероятность как структурная характеристика бытия .334
В. В. Казютинский
Научная картина мира и Вселенная 352
Ром Харре (Великобритания)
Проблема совместного действия .383
П.П. Гайденко
Понятие времени и принцип относительности у Анри Пуанкаре 401
Б. Г Юдин
Человек сегодня и завтра: между природой и конструкцией 417
В. И. Аршинов, В. Г. Буданов
Синергетика как инструмент формирования новой картины мира 428
Е.Н. Князева, С. П. Курдюмов
Темпоральные ландшафты коэволюции .445
VI. ЭПИСТЕМОЛОГИЯ И РАЦИОНАЛЬНОСТЬ .463
A.Ф. Зотов
Европейская культура и научная рациональность: история, современность, перспективы . 463
B.C. Швырев
О гуманитаризации современной научной рациональности 483
Д. С. Чернавский, Н.М. Чернавская
С. Чернавский, Н.М. Чернавская
О методологических аспектах научного творчества 494
Л.А. Микешина
Особенности создания абстракций и теорий в гуманитарных науках 511
И. И Меркулов
Природа эпистемологических знаний и когнитивная наука 531
В. М. Розин
Схема и особенности эзотерического познания 542
VII. КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ .552
Л.Н. Митрохин
B.C. Стёпину — 70 лет! . 552
В. М. Межуев
Культура в зеркале философского знания .562
И. К Паншин
Глобализация и судьбы цивилизаций .574
АнъЦинънянъ (Китай)
Теория техногенной цивилизации и марксизм . 584
Г. В. Осипов
Когерентность современных социологических теорий . 596
В. Г. Федотова
Социальное конструирование приемлемого для жизни общества (к вопросу о методологии) 611
Н.С. Автономова
Письмо, чтение, восприятие в культуре 635
Г. М. Бонгард-Левин, Б. С. Каганович
Вячеслав Иванов и Иван Гревс (история дружбы, запечатленная в письмах) . 647
647
В. Н. Порус
В. Соловьев и Шестов: единство в трагедии свободы .679
М. Т. Степанянц
Образование в мире культурного многообразия .695
Ин-Сук Ча (Республика Корея)
Реформированный либерализм . 704
VIII ФИЛОСОФИЯ И ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ .710
В.А. Лекторский
Трансформации европейской культуры и христианские ценности 710
А.А. Гусейнов
Закон насилия и закон любви (теоретический комментарий к одноименному трактату Л.Н. Толстого) 722
Н.И. Лапин
Традиционные и либеральные ценности в современном российском обществе .738
И. К. Лисеев
Экологические императивы современной цивилизации 755
Н.В. Мотроьиилова
И снова о варварстве и цивилизации — применительно к России 764
Р.Г. Апресян
Закон талиона в развитии культуры (очерк тенденций) .778
В. И. Толстых
Мастер философской публицистики .789
Биография академика B.C. Стёпина 800
Научные труды академика B.C. Стёпина 802
Ссылки удалены по просьбе правообладателя
Назад
Вперёд
Южный федеральный университет | Пресс-центр: Всероссийская научно-практическая конференция «Человек труда и наука» пройдет в октябре 2021 года в смешанном формате
Южный федеральный университет | Пресс-центр: Всероссийская научно-практическая конференция «Человек труда и наука» пройдет в октябре 2021 года в смешанном формате
Размер шрифта
A
A
Межстрочный интервал
A
A
Цвет
A
A
Сведения об образовательной организации
RU
- RU
- EN
25. 06.2021
06.2021
Всероссийская научно-практическая конференция «Человек труда и наука» пройдет в октябре 2021 года в смешанном формате
25.06.2021
25 октября будет проводится вторая Всероссийская научно-практическая конференция «Человек труда и наука».
Проведение конференции приурочено к знаменательной дате: 90-летию Ростовского государственного экономического университета (РИНХ).
Организаторы конференции: Ассоциация территориальных объединений организаций профсоюзов ЮФО, Представительство ФНПР в ЮФО, Федерация Профсоюзов Ростовской Области, Южный федеральный университет, Первичная профсоюзная организация работников и обучающихся ЮФУ, Первичная профсоюзная организация работников РГЭУ (РИНХ)
Формат: очный и в ZOOM
Место проведения конференции: Федерация Профсоюзов Ростовской Области, г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский проспект 87/65 (пленарное заседание).
Цель проведения конференции: обсуждение вопросов совершенствования социальных, экономических, юридических, медицинских и других условий трудовой деятельности различных категорий граждан в контексте решения задач модернизации экономики, повышения производительности труда во всех сферах общественного производства и управления, дальнейшего развития социального диалога в сфере социально-трудовых отношений.
На конференции планируется обсуждение следующих вопросов:
- Труд и социально-трудовые отношения в историческом контексте. Профсоюзы и их роль в развитии гражданского общества.
- Развитие дистанционных форм обучения и труда.
- Повышение производительности труда на основе применения инструментов бережливого производства: современные подходы и практика.
- Нормы и ценности труда в современном обществе. Социология труда.
- Экономика труда. Пути повышения доходов граждан и другие формы стимулирования трудовой деятельности в целях повышения производительности труда.
 Цифровизация экономики: новые формы труда и трудовых отношений.
Цифровизация экономики: новые формы труда и трудовых отношений. - Социально-профессиональная адаптация. Труд социально уязвимых групп населения. Трудовая миграция. Актуальные проблемы демографии и занятости.
- Законодательство о труде. Особенности регулирования трудовой деятельности различных категорий работников.
- Социальное партнерство в сфере труда. Социально-трудовые конфликты и пути их эффективного разрешения. Психология трудовых отношений.
- Медицина труда. Охрана труда. Профессиональная заболеваемость. Оздоровление трудящихся.
- Труд в литературе и искусстве.
25 октября – 10.30 – 13.00 — Пленарное заседание
14.00 – 18.00 — Работа секций, круглых столов и др.
Материалы конференции будут опубликованы в сборнике докладов и размещены в РИНЦ.
Заявки на участие в конференции просим направлять в срок до 1 октября 2021 года (включительно) на почту [email protected]
Краткая ссылка на новость sfedu. ru/news/66159
ru/news/66159
Дополнительные материалы по теме
24 сентября
23 сентября 2022 года прошла встреча с вице-президентом по журналам Восточной Европы издательства Springer Nature Александром Бирюковым
24 сентября
Природа, человек и технологии: открылся XIII Фестиваль науки Юга России
23 сентября
В ЮФУ пройдет конференция с международным участием «Трудовой договор и иные формы реализации права на труд: современное состояние и перспективы развития»
23 сентября
В ИТА ЮФУ завершился марафон программирования «Хакатон Роспатент ЮФУ»
23 сентября
ЮФУ приглашает студентов к участию во втором культурно-образовательном хакатоне «История будущего» 2022»
23 сентября
Студентов ЮФУ приглашают принять участие в Медиашколе «ДонМолодой»
Может ли человек жить пять тысяч лет? / Наука / Независимая газета
Проблема интерфейса мозг-компьютер – это только первый этап на пути полного переноса человеческого сознания на внешний носитель.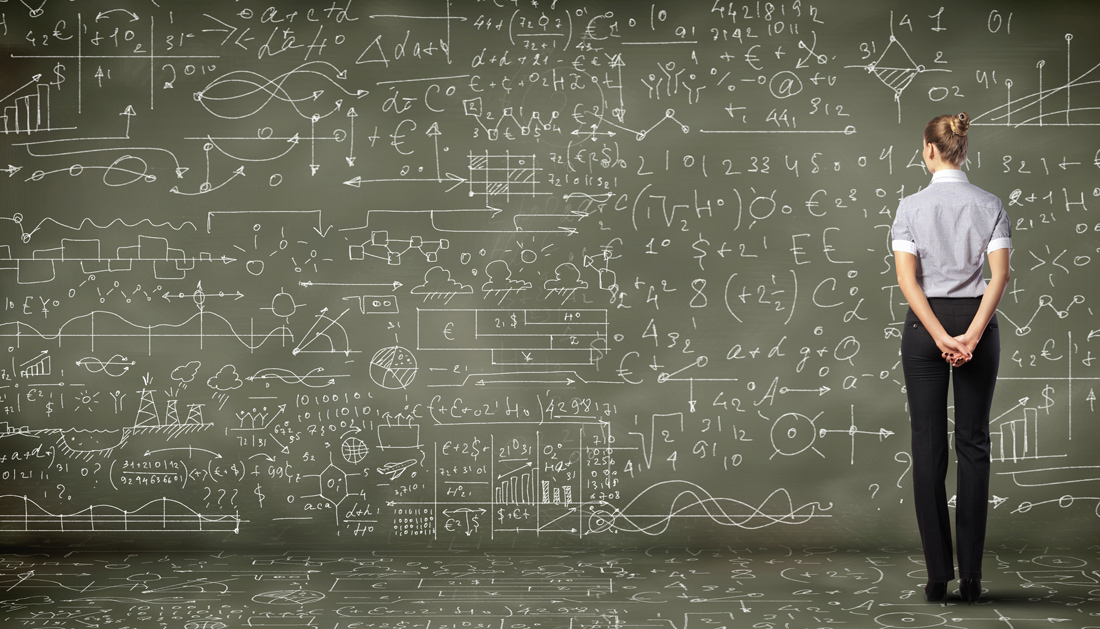
Фото Reuters
Вопрос, поставленный в заголовке, кажется из фантастического романа. Геронтологи обещают 120 более или менее здоровых лет среднестатистическому человеку. Мечтатели – 150. Но чтобы 5 тыс.? Библейский Мафусаил, рекордный зафиксированный – не записями о рождении и смерти в книге регистраций, а Священным Писанием – долгожитель прожил 969 лет. А тут сразу 5 тыс. То есть родившийся в эпоху сверхдолгожителей – если 5 тыс. лет жизни будет возможно – проживет столько же, сколько прошло с момента создания пирамид.
Ровесница Большого взрыва
Жизнь на Земле возникла более 4 млрд. лет назад. Рассматривая ее как некое единое (сверх)существо, объединенное общим генетическим кодом, липидной мембраной, ферментативным синтезом и многими другими процессами, обнаруживаешь, что «дедушка» этого существа (если б существовал) мог застать Большой взрыв! Вселенная, возникшая примерно 13 млрд. лет назад, всего-навсего в три раза старше, чем земная жизнь: воистину поразительно, если хотя бы немного задуматься!
Клетки, как известно, размножаются делением надвое. Но это совершенно не то же самое, что разрезать надвое хлеб. Попробуйте представить, что надвое поделилась лошадь простым делением, после чего половинки образовали двух жеребят. Деление клеток – сложнейший процесс, который далеко не до конца понят. Однако именно он позволяет живому – биоценозу как единому организму – существовать 4 млрд. лет кряду.
Но это совершенно не то же самое, что разрезать надвое хлеб. Попробуйте представить, что надвое поделилась лошадь простым делением, после чего половинки образовали двух жеребят. Деление клеток – сложнейший процесс, который далеко не до конца понят. Однако именно он позволяет живому – биоценозу как единому организму – существовать 4 млрд. лет кряду.
Существование жизни на протяжении миллиардов лет поразительно со многих точек зрения. Коснемся только одной из них. Как известно из физики, энтропия замкнутой системы возрастает, хаос побеждает порядок. Однако в мире живого ничего подобного не происходит. Жизнь существует как иерархия систем, находящихся вдали от положения равновесия. При этом пока в «энтропийную смерть» погружается одна ее часть, другие (новорожденные многоклеточные организмы или дочерние клетки) успевают из нее «увернуться».
Этот процесс, ускользания от перехода в равновесие, в человеческом организме происходит иерархически на всех уровнях структурирования миллиарды раз на протяжении жизни одного человека: чудо, по сравнению с которым накормить 7 тыс. человек семью хлебами – безделица. До понимания этого феномена, ускользания от положения равновесия in vivo, науке еще далеко. Но сама постановка вопроса полезна.
человек семью хлебами – безделица. До понимания этого феномена, ускользания от положения равновесия in vivo, науке еще далеко. Но сама постановка вопроса полезна.
Душа клетки после клонирования
Считать ли, что с рождением двух дочерних клеток материнская умерла – или, напротив, продолжает жизнь, раздвоившись в своих детях, которыми стала, – вопрос философский. Если не говорить о душе клетки – о чем вроде бы даже самые рьяные виталисты не говорят: в противном случае пришлось говорить бы о миллиардах душ клеток человеческого организма, которые каждую секунду рождаются и умирают, – делясь надвое, материнская клетка бесспорно продолжила свою жизнь в дочерних. При таком определении жизни конкретного организма клетка, существовавшая миллион или миллиард лет назад, продолжает жить и сейчас, с точностью до мутаций, которые на этом уровне рассмотрения несущественны.
Делящиеся клетки одноклеточных организмов определенно продолжают жизнь клетки-матери, так как являются плоть от плоти ее. Что же касается многоклеточных, их жизнь если и продолжается, то совершенно иначе. Сперматозоид и яйцеклетка, сливаясь, дают начало новому организму. Который не является тем же самым, что мать и отец, поскольку генетический материал комбинируется из генома обоих родителей.
Что же касается многоклеточных, их жизнь если и продолжается, то совершенно иначе. Сперматозоид и яйцеклетка, сливаясь, дают начало новому организму. Который не является тем же самым, что мать и отец, поскольку генетический материал комбинируется из генома обоих родителей.
Так было с возникновения жизни и по сей день. Однако в ближайшем будущем этот статус-кво может и измениться. И даже еще того более: в отдельных экспериментах уже осуществлено – вопреки тому, что происходило in vivo с момента возникновения жизни до конца ХХ века.
В каждой клетке человеческого организма – и мужского, и женского – есть набор генов, достаточный, чтобы из него породить дочернее существо. Технологии внедрения в яйцеклетку генома одного из родителей, предварительно удалив находящийся в ней материнский геном и осуществляя ее оплодотворение геномом той же самой особи, бесспорно позволяют вырастить новое существо.
Первая млекопитающая особь, полученная из генетического материала другого взрослого существа путем клонирования, – овца Долли. Ее гены были взяты из дифференцированных (соматических) клеток, а не из половых или стволовых. Клонирование стало реальностью. Теоретически не представляет проблемы создать точную копию любого конкретного человека, сдвинутого в рождении на несколько десятков лет, иначе говоря – омоложенного. Омоложенно не так, как омолаживают в рекламных проспектах, а на самом деле: отсчет жизни сдвинут во времени, ибо человек (особь) рождается из матки суррогатной матери или искусственной матки во второй раз.
Ее гены были взяты из дифференцированных (соматических) клеток, а не из половых или стволовых. Клонирование стало реальностью. Теоретически не представляет проблемы создать точную копию любого конкретного человека, сдвинутого в рождении на несколько десятков лет, иначе говоря – омоложенного. Омоложенно не так, как омолаживают в рекламных проспектах, а на самом деле: отсчет жизни сдвинут во времени, ибо человек (особь) рождается из матки суррогатной матери или искусственной матки во второй раз.
Продолжая процесс клонирования клонированных организмов (людей), можно создать тело внука, правнука и т.д., генетически идентичное телу любого из вас, читатель. Другими словами, в принципе возможно продлить жизнь вашего тела на сотни, тысячи – а где тысячи, там и миллионы, и миллиарды – лет. В принципе. И исходя из того уровня научных представлений, которые доминируют в настоящее время.
Таким образом, если считать человеком то, что вы, читатель или читательница, видите, взглянув на себя в зеркало, прожить 5 тыс. лет – в меру понимания современной науки – человек БЕЗУСЛОВНО МОЖЕТ.
лет – в меру понимания современной науки – человек БЕЗУСЛОВНО МОЖЕТ.
Из мозга в мозг перелетая
Получив ответ на предыдущий вопрос, тотчас встает следующий: будет ли этот, идентичный вам, вами? Вы как личность? Будет ли ваша точная генетическая копия вами самими?
Допустим, вы купили новый компьютер. Или ту же модель вашего старенького компьютера, в котором что-то начинает ломаться. Перекачать содержимое памяти старенького компьютера в новенький дело незамысловатое: воткнули флешку – вот и скопировали.
Вопрос о переселении душ – если рассматривать мозг человека работающим как компьютер – с точки зрения computer science сегодня незамысловатый процесс. Если рассматривать мозг человека работающим как компьютер. Но в том-то и дело, что человеческий мозг устроен совершенно не так, как компьютеры! Нельзя переслать информацию из одного мозга в другой, как пересылают информацию по Интернету или с одного сотового телефона на дисплей другого с помощью sms.
Попадание информации извне происходит только при посредничестве органов чувств – а не так, как в компьютерах напрямую. Относительно прямого переноса информации из одного мозга в другой, без преобразования в органах чувств, предполагающих преобразования из одних физических процессов в другие, у природы имеется четкий запрет. Причем запрет этот распространяется на все живущие на Земле организмы без исключения.
Но ведь и на клонирование организмов у природы имеется четкий запрет. А мы его делаем! Подумаешь, какие-то там запреты! Запреты природы человек разумный попросту отказывается замечать! В двери, на которых Жизнью (эволюцией или Тем, кто Ее создал) написано: «Вход категорически запрещен», – человечество входит без колебаний. Запрет расщеплять уран, создав и АЭС, и бомбы, и запрет на эксперименты с геномом, по сути, одно и то же. А обнаружив за дверью новую дверь с такой же надписью: «Вход категорически запрещен», без колебаний открываем и новую. Не задумываясь – и даже еще того более: принципиально отказываясь задуматься, дверь куда и во что открываем. И так раз за разом. Этика, чувство самосохранения себя, коллективного, и религия вступают в противоречие с мечтой человека о продлении своей жизни – включая создание копии себя самого.
И так раз за разом. Этика, чувство самосохранения себя, коллективного, и религия вступают в противоречие с мечтой человека о продлении своей жизни – включая создание копии себя самого.
Принцип неопределенности для мозга
Вернемся к вопросу, поставленному в начале статьи. То, что можно создавать генетически идентичного, но более молодого близнеца человека (клон), который будет так же здоров, как оригинал, и проживет (с точностью до флуктуаций) столько же, скорее всего не вопрос: человечество научится это делать. А вот сможет ли оно переносить сознание с оригинала на копию, так, чтобы в новом теле душа, обитавшая в старом, продолжала ощущать себя той же?
Пересадка мозга из одного тела в другое, необязательно даже клон прежнего тела, вполне возможно, станет реальностью. Но это не избавит старый мозг в новом теле от болезней типа Альцгеймера. Поэтому смысл такой пересадки ограничен, поскольку нормального существования сильно не продлит.
Несравненно более фундаментален другой вопрос: возможен ли перенос информации, составляющей душу, из мозга-оригинала в мозг клона, подобно тому, как переносится информация с одного компьютера на другой, – продлевая таким образом жизнь человека в том смысле, как она понималась во все века? Если возможен – человечеству необходимо немедленно начать обсуждать целесообразность объявления международной программы «пересадка души» масштаба освоения космоса или расшифровки генома. Потому что, если это станет возможным даже через 100 или 200 лет, решение проблемы смерти в масштабах тысячелетий кардинально изменит жизнь людей и всего человечества.
Если же ответ на вопрос о переносе души (информации) из одного мозга в другой окажется отрицательным, ситуация совершенно иная. Это будет означать существование пределов познания, поставленных человеку природой, и/или, даже если такое знание будет получено, невозможность реализации этих знаний для осуществления поставленных целей.
Подобные ситуации известны в природе: принцип неопределенности, к примеру, запрещает одновременное точное знание координат и скоростей элементарных частиц. Принципы функционирования мозга до сих пор не изучены даже на уровне того, что именно является механизмом памяти: синапсы между нейронами, электрические поля в мозге, химические вещества в клетках, все сразу, еще что-то или нечто совершенно отличное от всего перечисленного.
В контексте обсуждаемой проблематики не в том даже дело, является ли понимание механизма одновременного функционирования более чем 10 млрд. нейронов мозга неизмеримо более сложной задачей, чем понимание физиологии этого функционирования. А в том, возможно ли воссоздание состояния мозга и перенос информации (души) из одного мозга в другой в принципе. Проблема, которая должна стать предметом обсуждения физиологов, молекулярных биологов, специалистов по искусственному и естественному интеллекту. А одновременно – философами и политиками, специалистами по этике, верующими и атеистами.
Потому что тот или иной ответ на этот принципиальный вопрос меняет представления о существовании (или несуществовании) пределов познания, эволюции этики, запретов открывать двери природы, на которых написано: «Открывание категорически запрещено!» – под влиянием научно-технологического прогресса. А следовательно, направления развития человеческой цивилизации в целом.
Нью-Йорк
ПРОСТО ЧЕЛОВЕК | Наука и жизнь
Евгения Николаевна Синская — вольнослушательница Московского сельскохозяйственного института (Петровской сельскохозяйственной академии). Фото 1910 года.
Рисунок М. Шалавеене.
Евгения Николаевна Синская. Ленинград, 1962 год. Рисунок А. А. Филатенко.
‹
›
Открыть в полном размере
Евгения Николаевна Синская (1889-1965) — доктор биологических и сельскохозяйственных наук, друг и соратник Николая Ивановича Вавилова. В 1940 году Николай Иванович выдвинул кандидатуру Евгении Николаевны для избрания ее членом-корреспондентом Академии наук и написал в отзыве, что она является «одним из талантливейших растениеводов Советского Союза».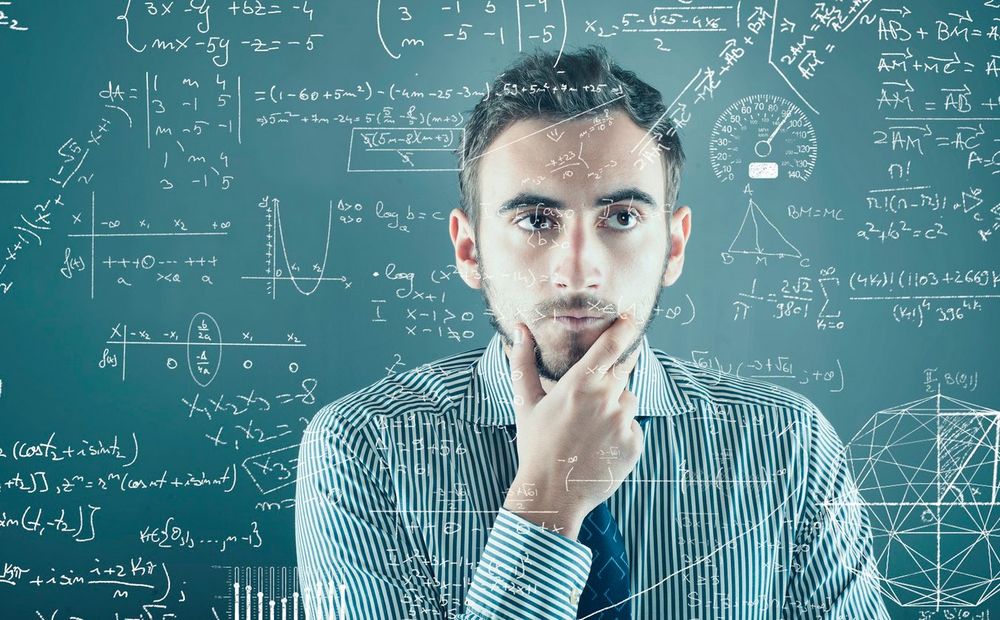 Кандидатура Синской не прошла из-за ареста самого Николая Ивановича. В память о своем друге Е. Н. Синская написала воспоминания. Издание книги осуществил по решению ученого совета Институт физиологии растений и генетики Украины (г. Киев) в 1991 году. Тираж был — 4,5 тысячи экземпляров. До российского читателя записки Евгении Николаевны, к сожалению, не дошли. В написанных незадолго до смерти воспоминаниях она рассказывала о детстве и годах юности, о трудностях, с которыми приходилось сталкиваться девушке, мечтавшей получить высшее образование. Педагоги гимназии Общества преподавателей, где Евгения училась (закончила в 1908 году), прочили ей блестящее будущее на литературном поприще. Но девушка выбрала биологию. Она поступила в московскую Петровскую земледельческую и лесную академию при поддержке таких поборников женского образования, как профессор Алексей Федорович Фортунатов, Василий Робертович Вильямс и Алексей Григорьевич Дояренко (последний руководил ее дипломной работой). Но даже при этом Евгения Николаевна была зачислена на первый курс всего лишь вольнослушателем.
Кандидатура Синской не прошла из-за ареста самого Николая Ивановича. В память о своем друге Е. Н. Синская написала воспоминания. Издание книги осуществил по решению ученого совета Институт физиологии растений и генетики Украины (г. Киев) в 1991 году. Тираж был — 4,5 тысячи экземпляров. До российского читателя записки Евгении Николаевны, к сожалению, не дошли. В написанных незадолго до смерти воспоминаниях она рассказывала о детстве и годах юности, о трудностях, с которыми приходилось сталкиваться девушке, мечтавшей получить высшее образование. Педагоги гимназии Общества преподавателей, где Евгения училась (закончила в 1908 году), прочили ей блестящее будущее на литературном поприще. Но девушка выбрала биологию. Она поступила в московскую Петровскую земледельческую и лесную академию при поддержке таких поборников женского образования, как профессор Алексей Федорович Фортунатов, Василий Робертович Вильямс и Алексей Григорьевич Дояренко (последний руководил ее дипломной работой). Но даже при этом Евгения Николаевна была зачислена на первый курс всего лишь вольнослушателем. Здесь, в стенах Петровки, она и познакомилась с Вавиловым, он был старше ее на три курса. Рассказ «Просто человек», который предлагается вниманию читателей, написан в то же время, что и воспоминания о днях юности. Героиня рассказа, Ксана, встретив «водяного доктора», остро осознает, что ей тоже хочется приносить пользу людям. Это очень личное переживание, близкое автору, быть может, поэтому Евгения Николаевна не стремилась опубликовать рассказ при жизни. Но он позволяет лучше понять эту одаренную женщину.
Здесь, в стенах Петровки, она и познакомилась с Вавиловым, он был старше ее на три курса. Рассказ «Просто человек», который предлагается вниманию читателей, написан в то же время, что и воспоминания о днях юности. Героиня рассказа, Ксана, встретив «водяного доктора», остро осознает, что ей тоже хочется приносить пользу людям. Это очень личное переживание, близкое автору, быть может, поэтому Евгения Николаевна не стремилась опубликовать рассказ при жизни. Но он позволяет лучше понять эту одаренную женщину.
Кандидат сельскохозяйственных наук В. П. ОРЛОВ, зам. директора
по науке ВНИИ зернобобовых и крупяных культур (г. Орел).
Это случилось в начале XX века. Среднеазиатская глинистая пустыня Терпак-Кала имела такой же вид, как и сотни лет назад.
Беспощадное июльское солнце тяжко пекло сквозь мутный красновато-желтый воздух — ни на минуту нельзя было остаться с непокрытой головой. Выжженная равнина незаметно сливалась с горизонтом в буровато-опаловой дымке. Растения выгорели, за исключением немногих кустиков полыни и солянки.
Растения выгорели, за исключением немногих кустиков полыни и солянки.
Но даже в этом пекле кишела жизнь. За камнями притаились змеи, там и сям ползали ящерицы. Горячая буро-желтая почва покрыта дырочками. Покопаешь тонкой палочкой — найдешь скорпиона, в другой — еще какую-нибудь «живность». Вот две крупные зеленые фаланги вступили в смертельный поединок, на время замирают в угрожающей позе, а затем снова кидаются друг на друга. Битва обязательно кончается смертельным исходом.
Термиты, всевозможные жуки, другие представители летающего и ползающего, жужжащего
и стрекочущего населения пустыни оглашают воздух шумами, сливающимися в общий
однотонный гул, который в сознании как-то сплавляется в одно с полуденным зноем
и заполняющей все пространство от неба до земли желтовато-красновато-бурой пылью.
Проникающая во все щели и поры пыль покрывает две небольшие парусиновые палатки; они стали почти незаметными, сливаясь в один тон с окружающим ландшафтом.
В одной палатке на раскладушке отдыхала после скудного обеда студентка-ботаник Ксана Иванова, в другой — зоолог Михаил Фердинандович Клейнмихель. Их оставили на несколько дней для описания очередного участка. Остальные члены экспедиционной партии Отдела земельных улучшений уехали дальше и должны были захватить их на обратном пути. Клейнмихель, еще не старый, ко всему привыкший человек, а совсем юной Ксане было «страшно интересно» остаться в «настоящей» пустыне.
В первый же день она с жаром приступила к работе. Подвязав повыше парусиновую юбку, Ксана надела сапоги, чтобы, не дай бог, не наступить на фалангу, скорпиона или змею, и к вечеру, деловито шагая по участку, нанесла на карту куртины уцелевшей от засухи растительности, отметила фенологическое состояние каждого вида, собрала гербарий. Вернувшись в лагерь, она, к своему удивлению, поняла, что выполнила задание. С утра Ксана тщательно перебрала и определила те растения, которые не могла сразу опознать по сухим остаткам, после чего оказалась совершенно свободной.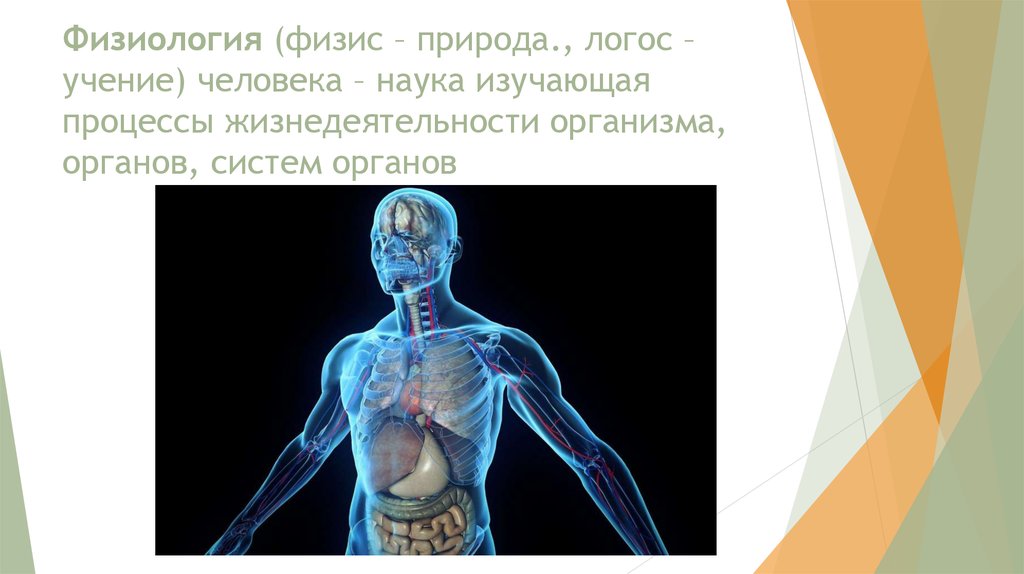 «Восторги» кончились.
«Восторги» кончились.
То лето выдалось особенно знойное и сухое, и ботаникам в июле месяце не могло найтись в пустыне много дела.
Две-три книжки, на всякий случай захваченные ею и Клейнмихелем, уже прочитаны. Безделье угнетало девушку.
— Ничего, Ксаночка, — утешал ее зоолог, — через три дня наши заедут за нами, а пока уж вы как-нибудь…
И он снова наклонялся над препарируемыми мышами. Шли дни. Никто не подъезжал к двум одиноким палаткам. Ксана изнывала, ее охватило какое-то отупение и полное безразличие ко всему, кроме одного: «Когда же, наконец, можно будет взяться за дело!»
Зной усиливался. Даже Клейнмихель, вытирая лоб, цедил сквозь зубы: «Черт подери», — но сейчас же принимал обычный свой вид.
Некоторое развлечение доставляла еда, но вскоре фрукты кончились, консервы вышли, осталась пшенная крупа и твердые безвкусные сухари. Вода в бурдюках пропахла кожей, стала теплой и, по мнению Ксаны, «тошнотворно невкусной».
— Она какая-то протухлая, — жаловалась девушка Михаилу Фердинандовичу.
— Ничего, — бормотал зоолог, — потерпите. Хорошо, что такая есть. Вот завтра-послезавтра за нами приедут, поедете в Зеленую Степь, а там всякие квасы-лимонады будут.
Прошла неделя, а две одинокие палатки все еще стояли в пустыне. У их обитателей совсем пропал аппетит, хотя пшено и сухари еще оставались. Михаил Фердинандович перестал отпускать воду для умывания.
Клейнмихель, казалось, еще более похудел, но не выказывал никакого недовольства. Он писал сочинение «О нравах и поведении пустынных животных» и многие часы — днями и ночами — просиживал перед норкой какой-нибудь полевки или тушканчика, определяя, сколько времени они проводят в норе, в какие часы оттуда выходят, когда возвращаются, что приносят и так далее. Некоторых из своих «поднадзорных» он препарировал, чтобы исследовать содержимое их желудков.
— Вы бы, Ксаночка, прогулялись хотя бы, — говорил он девушке, сам не зная, что бы еще посоветовать.
— Куда я пойду? Что здесь смотреть? Только пыль, жара и ваши «козявки».
Ночь не приносила облегчения. Духота не сменялась прохладой. Ксана очень боялась, что в палатку заползет змея или фаланга, и перед сном осматривала все углы и свою постель. Забываясь тяжелым сном, она сразу же попадала в объятия кошмаров: змеи и фаланги, заспиртованные Михаилом Фердинандовичем, оживали, выползали из своих банок и норовили забраться к ней в палатку.
— Фу-ты, — вздрагивала она, просыпаясь.
Ксана спала так беспокойно, что легкая раскладушка не выдерживала и падала.
— Михаил Фердинандович! — жалобно взывала она.
Невозмутимый немец в накинутом плаще появлялся с гвоздями, веревочками, молоточком — подвязывал, приколачивал…
— Ну, теперь крепко!
И отправлялся спать.
Днем туманные миражи играли на горизонте, но Ксана уже не радовалась тому, что увидела их воочию. С безнадежным видом смотрела она в пыльную даль и все реже растерянно вопрошала:
— Когда же они приедут? Наверно, с ними что-то случилось…
— Ничего не случилось, — возражал зоолог, — просто повезло больше, чем нам: работа попалась интересная, вот и задержались. Знают, что провизии нам хватит.
Знают, что провизии нам хватит.
А про себя подумал: «В самом деле, что-то стряслось с ними, черт подери… Верно, лошадей у них украли».
— Михаил Фердинандович, — просила Ксана зоолога. — Давайте я помогу вам, я быстро освою методику.
— Ну, вот еще, — бурчал Клейнмихель. — Не могу я время зря тратить.
Вдруг ей в голову пришла спасительная мысль:
— Михаил Фердинандович, а вдруг кто-нибудь мимо проедет!
— Кому здесь проезжать?
— Приехали же мы сюда, и другие за чем-нибудь могут мимо ехать, вот и заберут нас с вами.
— Я-то не поеду, — возразил Клейнмихель, — у меня еще осталась кой-какая работенка. Дождусь наших. А вы, конечно, поезжайте, если случай представится.
Весь день Ксана смотрела вдаль. Глаза, покрасневшие от зноя и пыли, — воды-то освежить лицо Клейнмихель не давал, — закрывались в томительной полудремоте.
И вдруг Ксана заметила вдали облачко пыли, услышала отдаленный звон колокольчика,
затем и стук колес, а вскоре показался тарантас, запряженный лошадью.
Со всех ног Ксана побежала к нему, размахивая шляпой в одной руке и носовым платком в другой:
— Остановитесь, подождите-е-е!!! Очень нужно, постойте же!
Тарантас некоторое время ехал в прежнем направлении, а затем круто повернул к бегущей. Ездок остановил лошадь перед запыхавшейся Ксаной. Среднего роста, коренастый человек лет сорока пяти проворно спрыгнул на песок.
— Иван Матвеич Перегудкин, местный техник по орошению. С кем имею честь и чем могу служить-с? — отчеканил он.
— Ботаник Отдела земельных улучшений Ксана Иванова.
«Зачем незнакомому человеку представляться Ксаной? — мелькнуло в голове. — А впрочем, он гораздо старше меня, пусть».
И она коротко пояснила Перегудкину, в чем дело.
— Таак-с! — протянул Перегудкин, что-то соображая и поглядывая на часы. — Я живу в десяти верстах от станции Карасайск, там я вас высажу и поеду дальше, а вы успеете на ночной скорый поезд из Самарканда. Часам к восьми утра будете в Зеленой Степи. Только собирайтесь побыстрее, времени у нас в обрез, да и лошадка моя не любит стоять на месте-с.
Только собирайтесь побыстрее, времени у нас в обрез, да и лошадка моя не любит стоять на месте-с.
А Ксана уже мчалась по направлению к палаткам. Она выхватила оттуда давно уложенный чемоданчик и, заметив сидящего на корточках перед мышиной норкой Клейнмихеля, крикнула:
— Михаил Фердинандович, прощайте, попутчик е-есть, я уезжаю в Зеленую Степь!
Клейнмихель вскочил, потоптался на месте, бормоча про себя: «Да как же так, — вдруг… Переговорить надо… С незнакомым человеком, под вечер…», — пробежал несколько шагов по направлению к Ксане, затем, то ли успокоенный видом форменной фуражки ездока, то ли сообразив, что все равно Ксану уже не остановишь, махнул рукой и повернул обратно к норе. А счастливая Ксана, забравшись в тарантас, смотрела, как фигура Клейнмихеля и палатки отдалялись от нее.
Никто не назвал бы фигуру Перегудкина изящной, но всякий сказал бы, что он ладно скроен. Таких людей немало встречалось Ксане, но вместе с тем попутчик определенно не походил ни на одного из тех, кого она знала.
Лошадка была ему под стать: коротковатая, крепкая и упрямо-деловитая. Колокольчик позванивал негромко и равномерно.
«Звоны-стоны,
Перезвоны,
Звоны-вздохи,
Звоны-сны…» — всплыли в памяти модные стихи декадентского поэта, которыми прожужжали ей уши подруги.
Сама же она не любила декадентской поэзии.
«Ну, этот колокольчик совсем другое названивает, — подумала Ксана:
«Мы доедем,
Куда надо,
Куда надо,
Попадем!» — перевела она на свой лад потренькивание колокольчика.
«Завтра — уже в Зеленой Степи! Наверно, из Москвы письма есть, свежие газеты… И обязательно в баню! Вот хорошо!»
Ксана оглянулась. Все та же пустыня. Полынные пространства чередовались с огромными такырами. Надвигался вечер, но жара не спадала. Радостное возбуждение, вызванное внезапным отъездом, немного улеглось. И она снова ощутила жару и духоту; ресницы отяжелели от пыли. Не хотелось ни думать, ни говорить, и она была рада, что Перегудкин тоже молчит.
— Да ведь мы без дороги едем, — вдруг заметила она.
— Да-с, напрямик! — ответил Перегудкин. — Я эти места хорошо знаю, провезу вас самым кратким и удобным путем.
Проехали в молчании еще около часа. Перегудкин обернулся вполоборота к Ксане:
— Тут я заверну к арычку небольшому, чистенький, хороший — искупаемся. Вы, наверное, наголодались, и я пока не предлагаю: до купания кушать вред-но-с.
Вскоре они подъехали к воде.
— Вот это место хорошее, устраивайтесь! А я в те тростники пойду-с.
Ксана купалась долго и с наслаждением. Когда она оделась, из-за тростников показался и попутчик. Ксана отметила, что он подтянутый, какими бывают военные, и в то же время все с ног до головы выдавало в нем штатского.
Они снова сели в тарантас. Перегудкин пустил лошадь шагом, вытащил из-под сиденья корзинку, достал кружку и хорошо отточенный нож, развернул один за другим свертки и разложил провизию на дне корзины: несколько лепешек, кусок овечьего сыра, который он нарезал тонкими ломтиками, флягу с кумысом и груши.
— Прошу! Чем бог послал! Груши мытые-с.
Ксана не заставила себя упрашивать.
— А вы? — произнесла она уже с набитым ртом.
— Я сыт-с, — ответил Перегудкин. — По дороге к знакомому учителю заезжал, его жена славным пирогом накормила. Знал бы, что с вами встречусь, обязательно кусочек прихватил бы, — добавил он простодушно.
Ксана уплетала еду за обе щеки. Убедившись, что девушка наелась, Перегудкин снова пустил лошадь быстрой рысцой. Освеженная купанием и подкрепленная едой, Ксана приободрилась.
Надвигались сумерки. С гор, к которым они постепенно приближались, повеял прохладный ветерок. Спать больше не хотелось, но думать и разговаривать тоже не тянуло. Приятно было молча подставлять под прохладный ветерок обожженное солнцем лицо.
Попадались на глаза растения, но распознать их из-за быстрой езды она не могла. Раза два она просила Перегудкина остановиться, чтобы рассмотреть растения и взять интересные в гербарий. Он охотно исполнял просьбу.
Тьма постепенно сгущалась, и растений не стало видно. Продолжали ехать молча.
Продолжали ехать молча.
Вдруг Перегудкин весь напрягся, наклонился вперед и крикнул своей лошадке:
— Ну, милая, вперед!
И та моментально резко ускорила свой бег.
— Еще, еще скорей! — каким-то странным призывным голосом произнес он снова.
Лошадь помчалась во весь опор, тарантас вздрагивал, так что дух захватывало.
— Скорей, скорей! — несколько раз повторил он.
Ксана и не воображала, что возможна такая бешеная езда. Лошадь, казалось, летела по воздуху.
— Скорей! — хотя скорее было невозможно.
Ксана вцепилась в бортики, руки занемели, дыхание захватило. Она крепилась, но не выдержала:
— Иван Матвеевич, немного потише, я вывалюсь!
Но тот не откликнулся. Сквозь мрак она видела только его напряженную спину. Бешеная езда продолжалас ь. Повторное обращение вновь осталось без ответа.
И вдруг страх напал на нее: «Уже ночь, и я одна в этой пустыне. Куда он так скачет?» Ксана почувствовала свою полную беспомощность.
И как раз в этот момент Перегудкин обернулся, озорно и лукаво взглянул на нее, и в этом взгляде было столько добродушия, что Ксанины страхи как рукой сняло. Она улыбнулась, но Перегудкин уже не видел ее улыбки или не захотел обратить внимания.
— Скорей!
«Верно нужно зачем-то быстро ехать», — подумала успокоенная Ксана. От природы ловкая и сильная, она плотнее умастилась в тарантасике и, напрягая упругие мускулы, старалась держаться крепко и не подскакивать на толчках. Постепенно езда перестала утомлять ее.
Перегудкин не ослаблял внимания и все время вглядывался вперед. Даже в темноте он точно направлял свою лошадку, и, несмотря на бешеный ход, тарантас удерживал равновесие.
Стало совсем темно. Бездонная и безбрежная равнина освещалась только редкими звездами. Ветер то пригонял с гор тучи, то снова рассеивал их. И тогда звезды своим мягким ровным светом погружались в таинственный фиолетово-черный сумрак, свойственный азиатским предгорьям.
И уже не было у Ксаны другого желания, как мчаться, мчаться без конца в эту темную даль. Стало так хорошо, что словами выразить нельзя. Наслаждение? Нет, не то! Счастье? Нет, нечто иное. Слезинки вдруг скатились по щекам Ксаны: слезы благоговения и сочувствия ко всему сущему. Мир и она слились в единое целое.
Стало так хорошо, что словами выразить нельзя. Наслаждение? Нет, не то! Счастье? Нет, нечто иное. Слезинки вдруг скатились по щекам Ксаны: слезы благоговения и сочувствия ко всему сущему. Мир и она слились в единое целое.
На горизонте обозначились черно-фиолетовые внизу и туманно-белые вверху силуэты гор. Звезды почти касались самых вершин.
Пахло ночной свежестью, росой и пряными степными травами. Изредка вспыхивали зарницы, и тогда ледяные зубцы гор загорались и бросали голубой и холодный свет на облачные шарфы, которые тоже начинали слегка светиться, но этого света было недостаточно, чтобы рассеять мрак на равнине, и она в эти моменты казалась фиолетовым морем до самого горизонта.
Время как бы исчезло.
Долго или нет мчались так по безлюдной равнине, Ксана не могла сообразить. Перегудкин вдруг встрепенулся:
— Довольно, милая, потише!
Лошадка сменила отчаянную скачку на деловую рысцу.
— Хорошо? — повернулся он к Ксане.
— Хорошо! — ответила она каким-то особым, совсем необычным для нее, идущим из глубины груди голосом.
— Ах и люблю же я быструю езду, — продолжал Перегудкин. — Да это и необходимо при моей профессии. Часто приходится ездить по ночам по пустынным местам. И на лихого человека наткнуться можно. Бывало и такое. Поэтому я хорошо вымуштровал свою лошадку. Как скажу: «Скорей!», — то она знает, что должна бежать из последних сил, пока не скажу: «Довольно!» Когда нужно какой-нибудь инструмент или груз захватить — на тарантасе езжу, а то — верхом на ней же.
Перегудкин лукаво улыбнулся:
— А ведь я вас ремешочком пристегнул, а вы и не заметили-с. Это я для младшего сынишки соорудил-с.
Ощупав себя, Ксана с удивлением обнаружила вокруг талии широкий и прочный ремень. Два конца его крепились к углам тарантаса, а третий — к кожаному поясу Перегудкина.
— А вам сначала было непривычно-с, — продолжал довольный ее удивлением Перегудкин. — Вы все старались крепче держаться, просили ехать потише, а я знал, что вы прикреплены -с, и не беспокоился. А потом вы совсем струхнули-с и про меня-с плохо подумали: будь он неладен, куда меня везет? А вскоре привыкли-с, приспособились, и вам понравилось. ..
..
Все верно, удивилась Ксана и весело рассмеялась.
— А я, пожалуй, напрасно вас привязывал. Вы, я вижу, девица справная, не дамского покроя, удержались бы.
Ей захотелось узнать больше о спутнике:
— Вы так хорошо знаете местность — уроженец?
— Нет, я родился в другом месте, но живу в здешних краях более двадцати лет. Если хотите, расскажу вам, как попал сюда, чтобы скоротать время. До станции еще часа два с гаком, но мы выезжаем на шоссе, дальше дорога пойдет ровная, прямая; за лошадью можно почти не следить.
Перегудкин повернулся вполоборота к Ксане и начал свой рассказ:
— Я родился в Поволжье, в маленьком скучнейшем городке. Родители мои из мелких
купцов. Небогатые, но с известным достатком. Я был единственным сыном, и они
захотели дать мне образование. Окончил начальную школу, потом среднее техническое
училище. Вот из училища, еще почти мальчиком, я и попал первый раз в эти места
на летнюю практику. Ох и соскучился же я здесь тогда! Тошнехонько показалось
в пустынных равнинах. Жара, духота, пыль осточертели мне. Практика кончилась,
Жара, духота, пыль осточертели мне. Практика кончилась,
и я был рад-радехонек, что возвращаюсь домой.
Перед самым отъездом одна старая местная женщина вдруг сказала мне:
— А ты, паренек, все равно вернешься сюда. Рано или поздно, а тоска тебя возьмет. Кто раз испил сырдарьинской водицы, тому покоя уже не будет. Рано ли, поздно ли, а потянет сюда.
Я рассмеялся и старухины слова скоро позабыл. Ну, вот-с… Вернулся я домой. Училище закончил, поступил там же на работу. Но жизнь не заладилась. Родители вскоре померли. Родни-то было много, но ни я к ним, ни они ко мне совсем не подходили.
Я искал какой-то правды, и сам не знал, какой. Хотел жить по призванию и не видел, в чем оно. Хотел в высшее учебное заведение поступать. Меня все отговаривали. Трудно, экзамен за гимназию надо экстерном сдать.
Ну, да этого всего я добился бы, настойчивости у меня хватает. Только стал я программы просматривать факультетов разных, и ни одна не понравилась. Хватился за университет — «храм науки», думал. Посмотрел программу исторического факультета, а там все только история, науки общественные. Узко, показалось мне. Ведь мне многое хотелось знать: и как мир устроен, и для чего я в нем живу, и прочее такое.
Посмотрел программу исторического факультета, а там все только история, науки общественные. Узко, показалось мне. Ведь мне многое хотелось знать: и как мир устроен, и для чего я в нем живу, и прочее такое.
И ни один факультет не отвечал моим умонастроениям. Узко — и душе простора нет. Вроде как второе техническое училище.
Решил самообразованием заняться. Стал книги скупать и где можно доставать. До сих пор книги — мои лучшие друзья. Однако жизнь не устраивалась. Служба не нравилась. Все больше бумажные дела, а другой работы в округе найти нельзя.
Умер тут мой крестный, из разорившихся дворян, и оставил мне наследство. А наследство состояло из полки старинных книг и замечательной скрипки, тоже старинной. Не то, что «Страдивариус», но вроде того. И пристрастился я к музыке. Дело у меня сначала пошло. Знакомые, родня закричали: «Талант! Талант!». И дамы провинциальные вокруг меня увиваться стали — романсы и прочую белиберду при луне слушать. Ух, нет же на земле тварей хуже дам. Вот, Ксана, пуще всего желаю вам — не становитесь дамой!
Вот, Ксана, пуще всего желаю вам — не становитесь дамой!
«Не стану», — подумала про себя Ксана.
— При таком времяпрепровождении и невеста у меня объявилась. И я был влюблен, да и разные там тетушки, бабушки хотели непременно свадьбу устроить. Это же первое развлечение — родственников или знакомых женить.
А ближе к свадьбе убедился я, что мы с невестой совсем разные и чужие люди. Ни одной-то жилочки не оказалось родной, и ничего-то в душе общего.
Я отказался от нее. Она сначала огорчилась, а я сказал:
— Благодарите бога, что мы на всю жизнь друг друга не огорчили.
Ну, успокоилась вскоре и за другого вышла.
А вскорости я и в скрипке разочаровался. Всего того, что на душе есть, выразить не мог в игре своей. И увидел, что не талант, не быть мне музыкантом.
Политическими партиями стал интересоваться. Примкнул к одной радикальной организации, но удовлетворения в ней не нашел. Что все устройство жизни до дна перевернуть надо, — это понятно, а вот что после переворота будет, никак себе представить не мог. Ну и затосковал я совсем.
Ну и затосковал я совсем.
Родня и знакомые от меня отступились, чудаком и анархистом прозвали. А я ведь еще совсем молодым был.
И вдруг слова старухины припомнил. И не то, чтоб словам значение придал, а так, нутром почувствовал — вот где покой найду.
Переехал сюда. Здесь работы по орошению начинались. Устроился на службу. Вот и живу здесь с тех пор. Полюбил этот простор… Нравится постоянная езда, одиночество среди дикой природы. И работа нравится. Люблю непосредственную пользу приносить.
Прорвет где-нибудь дамбу или еще какая авария, сейчас же едешь, налаживаешь. Вода здесь — это все, как кровь в организме. «Водяным доктором» меня местные жители прозвали. Молодым инженерам советы даю, пока не оперятся. Это дает мне известную независимость в положении. А к карьере служебной не стремлюсь. Мне и так неплохо: «От добра добра не ищут».
— А вы «ваткой» не занимаетесь? — спросила Ксана, наслышавшаяся о хлопковом ажиотаже и уже сталкивавшаяся с местными дельцами и спекулянтами-«ваточниками».
— Нет-с, с детства к коммерции отвращение получил. Огород есть, садик хороший, коровку, птицу держим. Нельзя иначе: сидим на отшибе — одни на водном наблюдательном пункте. Не побежишь в магазин, не купишь. Садик я люблю и это дело понимаю. Местным жителям черенки хороших сортов раздаю. Теперь больше этим жена ведает, ну и ребятишки подросли, хорошо подсобляют.
— У вас большая семья? — спросила Ксана.
— Трое сыновей, славные ребята. Конечно, в некотором роде дикари. На воле растут. Никаких эдаких «манер» не знают. А женился я на здешней.
— На сартянке? — уточнила Ксана.
— Нет, те изнеженные и вероломные. Киргизку взял. Верные и трудолюбивые женщины. Учил ее сам. Подтянул. С полуслова друг друга понимаем, живем хорошо.
— А как же с книгами?
— Обходимся. Прежнюю библиотечку с собой перевез. Для жены «Ниву» выписываю. Там всегда приложения хорошие, классики больше. Ребятишки подрастают, так им есть что читать. Один-два толстых журнала получаю. В этом году выписал «Вестник Европы» и «Вестник воспитания». «Вестник воспитания» раньше не получал, захотел познакомиться. Очень мне там понравились статьи Фортунатова о высшей школе. Вот вы студентка, вам будет интересно прочесть, реко-мендую-с.
В этом году выписал «Вестник Европы» и «Вестник воспитания». «Вестник воспитания» раньше не получал, захотел познакомиться. Очень мне там понравились статьи Фортунатова о высшей школе. Вот вы студентка, вам будет интересно прочесть, реко-мендую-с.
Ксана никогда не держала в руках «Вестника воспитания» и не слыхала имени Фортунатова. «Обязательно прочту», — подумала она.
— А скрипку вы совсем забросили?
— Нет-с, зачем! Играю в свободное время. Нот имею небольшой запасец. Я ведь
только классиков признаю. А теперь сынишка старший к скрипке пристрастился.
Так импровизирует — заслушаешься! Пожалуй, талант.
— Вот и будет знаменитостью, — вставила Ксана.
— Боюсь я этого, пусть будет лучше просто человеком. Я, знаете, люблю такие профессии, которые непосредственную пользу дают. Вот как моя! Или врач.
— Но и артист непосредственно дает радость, наслаждение, утешение…
— Это-то так, только искусство бывает разное. Знаменитым артистом плохо быть. Беспокойся, что о тебе критик напишет, как на тебя царь из императорской ложи взглянет, какую тебе роль режиссер определит. Независимости никакой. Вот в старину были менестрели, барды разные, здесь и теперь — акыны, ашуги. Это жизнь настоящая!
Беспокойся, что о тебе критик напишет, как на тебя царь из императорской ложи взглянет, какую тебе роль режиссер определит. Независимости никакой. Вот в старину были менестрели, барды разные, здесь и теперь — акыны, ашуги. Это жизнь настоящая!
— А отпуск как вы проводите?
— В горах, на охоте. Собаку хорошую имею. Ну и природа же в здешних горах! Вам надо попасть туда обязательно… Ну, вот и к станции подъезжаем. Вовремя поспели.
Возле небольшой, слабо освещенной станции Перегудкин остановил лошадь и передал вожжи Ксане.
— Я сей момент билетик вам куплю, кассир у меня знакомый.
Через пару минут он уже протягивал Ксане билет:
— Плацкартный достал. До Зеленой Степи еще выспаться успеете. Чемоданчик у вас легонький, я ведь от лошадки отойти не могу-с. Вот и поезд показался. Счастливого пути-с! Может, и доведется еще встретиться.
— Вряд ли, — грустно проговорила Ксана, — наша экспедиция через неделю отправляется в Семиречье.
— Кто знает, что будет-с. Кто испил сырдарьинской воды… Ну-с, подходит. Всего лучшего!
Кто испил сырдарьинской воды… Ну-с, подходит. Всего лучшего!
Ксана крепко пожала руку Перегудкина, пошла к поезду и поднялась с чемоданчиком в вагон. Войдя, она выглянула из окна, но тарантаса уже не было — он скрылся в ночной мгле.
Ксана взобралась на верхнюю полку и сразу уснула здоровым, крепким сном молодости. Когда она проснулась, поезд уже подходил к Зеленой Степи.
…Ксана шла по дороге от вокзала к домику, где помещалась база экспедиции. Шла задумчиво. Ее охватило чувство, будто она повзрослела. Люди, которых она до сих пор, казалось, хорошо знала, представлялись ей в совсем ином свете: «У того головы не заметно, а этот какой-то безрукий, а тот просто глыба бесформенного материала. Ну, а этот? Сделан из кисеи и ваты, внутри пусто! А вот Перегудкин — другой, настоящий, законченный…»
Она остановилась, ей сделалось не по себе.
— Барышня! Что это вы? Никак с поезда? А где же остальные? — удивился сторож Семен Иванович, нанятый на лето из местных старожилов.
Ксана кратко объяснила.
— Вот что! До Карасайска, значит, с водяным дохтырем ехали?
— А вы его знаете?
— Как не знать? Его вся округа знает. Человек правильный!
Ксана направилась к начальнику и с волнением в голосе просила послать поскорее подводу за Клейнмихелем. Подводу послали, а еще через два дня приехали и остальные.
Начались шумные рассказы о неурядицах и приключениях, шутки и сборы в дальнейший путь. Скоро вся экспедиция выехала по плановому маршруту в Семиречье. Новые места, новые люди, новые впечатления! Водоворот жизни закружил Ксану.
Прошли годы. Ксана прожила долгую и богатую событиями жизнь. С Перегудкиным она больше не встречалась, но его образ и все детали ночного переезда живо сохранились в памяти. Ей казалось, что после той ночи она выросла и глубже стала понимать природу и людей.
В Азии с тех пор Ксане бывать не пришлось, но когда она стала стареть, то все чаще и чаще приходила в голову мысль: «А не окончить ли мне свои дни там?»
Она еще не уехала в Азию, но, пока человек жив, ни он сам, ни другие не знают, что его ждет.
Человек – НАУКА – общество презентация, доклад
Человек –
НАУКА –
общество
ИИЦ – Научная библиотека представляет
виртуальную выставку
ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
Журнал теоретических и прикладных исследований
В апреле 1999 года при поддержке Российского гуманитарного научного фонда вышел в свет первый номер академического педагогического журнала «Образование и наука. Известия Уральского отделения Российской академии наук». Главной целью создания журнала было реальное воплощение одной из центральных идей работы РАО – поддержки развития педагогической науки в регионах России.
Активное развитие и постоянное расширение сферы влияния на научную жизнь педагогического сообщества выявляет значительный потенциал журнала в координации научных исследований и инновационной деятельности в сфере образования Уральского региона. Одним из примеров растущего авторитета журнала и его популярности в научных кругах является тот факт, что публикация в журнале исследовательских материалов докторских диссертаций является на сегодня требованием многих руководителей диссертационных советов по педагогике в Уральском регионе. Как в педагогических исследованиях, так и в практических разработках педагогов и руководителей образовательных учреждений присутствует большое количество ссылок на статьи нашего журнала.
Одним из примеров растущего авторитета журнала и его популярности в научных кругах является тот факт, что публикация в журнале исследовательских материалов докторских диссертаций является на сегодня требованием многих руководителей диссертационных советов по педагогике в Уральском регионе. Как в педагогических исследованиях, так и в практических разработках педагогов и руководителей образовательных учреждений присутствует большое количество ссылок на статьи нашего журнала.
НАУКА И ЖИЗНЬ
Ежемесячный научно-популярный журнал. Основан в 1890 году. Издание возобновлено в октябре 1934 года.
Журнал «Наука и жизнь» основан в 1890 году. Его создатель – Матвей Никанорович Глубоковский(1857 – 1903) был оригинальной и многосторонней личностью.
В 1890 году он создал свой еженедельный журнал, целью которого в первом номере провозгласил «популяризацию знаний и сообщение всех выдающихся научно-практических новостей в возможно популярной форме, но не впадая в бульварный тон и стоя в стороне от всякой тенденциозности и политиканства». Тогдашняя «Наука и жизнь» имела формат приблизительно как у сегодняшнего «Огонька», 16 страниц и выходила раз в неделю.
Тогдашняя «Наука и жизнь» имела формат приблизительно как у сегодняшнего «Огонька», 16 страниц и выходила раз в неделю.
Из-за тяжелой болезни редактора выход «Науки и жизни» прекратился в 1900 году.
Издание было возобновлено только в 1934 году, под редакцией Н. Л. Мещерякова (1865 – 1942), старого большевика, публициста, впоследствии члена-корреспондента АН СССР. Совсем в другой исторической обстановке журнал во многом сохранял программу старой «Науки и жизни». Но, разумеется, вместо «отречения от тенденциозности и политиканства» в программнойоткрывавшей первый номер, подчеркивалось: «Все вопросы в статьях нашего журнала будут освещаться с точки зрения марксизма-ленинизма».
В 1938 году «Наука и жизнь» стала органом АН СССР, а в 1948 году, после создания Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний, перешла в систему этого общества.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Научно-методический журнал.
Основные рубрики:
Общая педагогика, история педагогики и образования
Теория и методика обучения и воспитания
Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной
и адаптивной физической литературы
Теория и методика дошкольного образования
Теория и методика профессионального образования
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
Научно – методический журнал. Учредитель: Международная академия наук педагогического образования (МАНПО). Журнал входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание учёной степени доктора и кандидата наук. Периодичность журнала – 12 раз в год, издаётся с 2000 года.
Основные рубрики журнала:
Качество педагогического образования
Информационная среда современного вуза
Регион крупным планом
НАУКА И РЕЛИГИЯ
Ежемесячный научно-популярный журнал, зарегистрирован Министерством печати и информации РФ. Учредитель и издатель – ООО «НИР Лтд».
Учредитель и издатель – ООО «НИР Лтд».
Основные рубрики:
В контексте современности
Стезя духовная
Мир православия
Конфликтная зона
Точка зрения
Феномены
Религия и искусство
Проза «НиР»
Ваше здоровье
Школа доктора Буланова
Лунный календарь
Геокосмический прогноз
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
Научный журнал, учредителями которого являются Московский городской психолого-педагогический университет и Психологический институт Российской академии образования. Периодичность издания 4 раза в год, издаётся с 1996 года, рекомендован ВАК Министерства образования РФ в перечне ведущих научных журналов и изданий для публикации научных результатов диссертационных исследований. Круг затрагиваемых тем достаточно широк и каждый найдёт в публикациях журнала для себя что-нибудь интересное.
Основные рубрики:
Педагогическая психология
Социальная психология
Общая психология
Диагностический инструментарий
Междисциплинарные исследования
НАУКА. ОБЩЕСТВО. ЧЕЛОВЕК
ОБЩЕСТВО. ЧЕЛОВЕК
Вестник Уральского отделения РАН – издание, в котором освещаются наиболее значимые итоги научных исследований сотрудников институтов Отделения, обсуждаются глобальные проблемы и задачи, на решение которых необходимо мобилизовать интеллектуальный потенциал уральских учёных.
Адресован научным сотрудникам, студентам вузов и всем, кто интересуется актуальными проблемами и состоянием современной науки.
Журнал основан в 2002 году. Периодичность – выпускается 4 раза в год.
Основные рубрики:
Вызовы времени
История науки
В лабораториях и институтах
Связь времени
Портрет современника
Отечество
История
Давайте обсудим
Культурный дискурс
Книжная полка
НАУКА И ШКОЛА
Научно-методический журнал создан и функционирует согласно идеям и плану развития его создателя, доктора педагогических наук, профессора, Почётного профессора МПГУ Каменецкого Самуила Ефимовича. Учредителем является Московский педагогический государственный университет. Издаётся с 1996 года, периодичность издания 6 раз в год.
Учредителем является Московский педагогический государственный университет. Издаётся с 1996 года, периодичность издания 6 раз в год.
Журнал входит в перечень периодических научных и научно-технических изданий, выпускаемых в РФ, в которых рекомендуется публикация основных результатов диссертаций, на соискание учёных степеней кандидата наук и доктора наук по педагогике, психологии, истории.
Основные рубрики:
Образовательная политика
Педагогическое образование
Педагогическое образование в национальной школе
Педагогическое образование за рубежом
Педагогические исследования
Новые информационные исследования
Вопросы истории
ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
И СОВРЕМЕННОСТЬ
(ОНС) — единственное в нашей стране академическое междисциплинарное издание.
На страницах журнала представлены статьи по политологии и праву, экономике и социологии, философии и истории, культурологии и психологии. Предпочтение отдается исследованиям на стыке различных дисциплин, в том числе гуманитарных и естественнонаучных. Среди наших авторов и читателей — те, кому тесно в рамках отраслевых изданий и «отраслевого» мышления, кого интересуют универсальные вопросы и тенденции, кто хочет ориентироваться в широком круге современных проблем, кто пытается найти новые, нетривиальные ответы на традиционные и современные вопросы российского бытия, выявить тенденции модернизационных процессов в стране и в мире.
Предпочтение отдается исследованиям на стыке различных дисциплин, в том числе гуманитарных и естественнонаучных. Среди наших авторов и читателей — те, кому тесно в рамках отраслевых изданий и «отраслевого» мышления, кого интересуют универсальные вопросы и тенденции, кто хочет ориентироваться в широком круге современных проблем, кто пытается найти новые, нетривиальные ответы на традиционные и современные вопросы российского бытия, выявить тенденции модернизационных процессов в стране и в мире.
На страницах журнала обсуждаются следующие проблемы:
экономика, социум, политика, культура России;
построение общенаучной картины мира;
особенности и перспективы трансформационных процессов;
синергетика и методология обществознания;
перспективы человека и мировой цивилизации;
регионалистика и модернизационные процессы;
межнациональные отношения.
Журнал также публикует дискуссии, интервью, встречи за «круглым столом», материалы для подготовки новых курсов по обществоведческим дисциплинам в вузах и старших классах средней школы. Свое место на страницах журнала занимают статьи, посвященные состоянию культуры в современном мире, вопросам женского движения. Постоянная рубрика будет знакомить с последними работами ученых-славистов из университетов Запада и Востока.
Свое место на страницах журнала занимают статьи, посвященные состоянию культуры в современном мире, вопросам женского движения. Постоянная рубрика будет знакомить с последними работами ученых-славистов из университетов Запада и Востока.
Скачать презентацию
УЧЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК II | Научный человек
по
Научный человек
поддерживается
Трискеллектиф
Трискеллектиф
On vient de trouver la centrale nucléaire qui alimente le гараж/панк! Cэт альбом explosif. Комментарий un type tout seul peut délivrer autant d’énergie ? Il remonterait à lui seul ле мораль d’une armée en déroute. Du pur rock ‘n’ roll qui dévaste tout sur son pass, un ouragan sonore !!! Que c’est bon!
Любимый трек: Brazilian Napkins.
кальций3000
Джастин Оррис
некро6669
ТДВ
Эрик «Пиклз» Бротон
Терлоски
Грант Эмери
Харрисон Уилсон
амоспикенс
Vøiđđåppłə
Джиммитворм
Тейт
Джо Корра
SUB HUM RECORDS
сикон
велодум
прибойпие
Скатился
Мадре
Брент Дэвис
Майкл Ф.
Колин Больной
Иоаннис Валиакос
garrlei2003
Аарон Сир
Отм Петти
Шум для нулей
Пол А Бланко
Люси
Дж.Н.
Уильям Джей Бойд
Призрачный гонщик
овощехранилище
Эндрю Мяу
Майкл Чепмен twfa
лямшенк98
Гроши
робинсон64
Ротбард
РИС
Ев
икара-шум777
Хуан Гастелум
Макото ХАРА
die_tec
палевинтрисумерк
Пони
Полкук
Торсти
Дакс
Мясной автобус Лафлино
Адам Спектор
докторвафли
цифры0
Грег Хауэлл
Марк Лонголучко
Джулиан Мур
Владыка Левой Руки
Кит Обаза
бор
Клинтон Джонсон
Мэтью
Тайлерфосс
n8p666
Майкл Люгер
Джоедекаролис
гтсмед23
Бирвольф716
waustinm
Питер Шек
Росс Валенти
Пэт
теги
теги
панк
гараж
гаражный панк
хардкор
хардкор панк
индустриальный панк
нойз-панк
нойз-рок
пост-все
рок-н-ролл
странный
Баффало
около
Научный человек
Баффало, Нью-Йорк
В будущем я найду лекарство от будущего
www. swimmingfaithrecords.com
swimmingfaithrecords.com
контакт / помощь
Связаться с человеком науки
Потоковая передача и
Справка по загрузке
Активировать код
Пожаловаться на этот альбом или аккаунт
Научный советник «Человека-муравья» объясняет реальную физику фильма
Вы можете подумать, что фильм о супергерое, который может уменьшаться до размеров муравья, не имеет под собой реальной основы, но, по словам Спиридона Михалакиса, квантового физика из Калифорнийского технологического института, есть некоторый факт. за вымышленным миром «Человека-муравья».
Михалакис знал бы. Он работал научным консультантом как над оригинальным фильмом «Человек-муравей» 2015 года, так и над новым продолжением «Человек-муравей и Оса». В этой роли Михалакис помог создателям фильма и актеру Полу Радду (который играет Человека-муравья) раскрыть реальную науку, стоящую за силами супергероев, и так называемое квантовое царство фильмов, место, которое не регулируется нормальными законами. физики.
физики.
Но какая часть вселенной «Человека-муравья» связана с наукой? Может ли человек уменьшиться до размеров насекомого и выжить? NBC News MACH недавно встретился с Михалакисом, чтобы узнать о реальной физике, лежащей в основе фильмов.
Звезды «Человека-муравья и Осы» Пол Радд и Эванджелин Лилли. Энди Парк / Marvel Studios
Это интервью было отредактировано для ясности и краткости.
MACH: Человек-муравей не обязательно пользуется таким большим уважением, как другие известные супергерои, но, поскольку это ваша область знаний, можете ли вы привести аргумент в пользу того, почему Человек-муравей мог идти лицом к лицу? столкнетесь с одним из самых больших орудий во вселенной Marvel?
Спиридон Мичалаки, квантовый физик из Калифорнийского технологического института, работал научным консультантом в фильмах «Человек-муравей». Вышел фильм «Человек-муравей», и меня процитировали, что у Супермена, моего любимого супергероя в детстве, не было бы шансов против Человека-муравья. Люди такие: «Нет. О чем ты говоришь? Этого не будет». Я имел в виду, что Супермен — это тот, кто [имеет] высшие силы в сфере физики, с законами, которые мы понимаем.
Люди такие: «Нет. О чем ты говоришь? Этого не будет». Я имел в виду, что Супермен — это тот, кто [имеет] высшие силы в сфере физики, с законами, которые мы понимаем.
Человек-муравей, отправившись в Квантовый мир и поняв, как работать с исходным кодом реальности на этом уровне, он смог переписать законы физики. Он мог перемещаться в пространстве и времени так, как ни один другой супергерой. Дело не только в мощности. Он изменит даже само понятие массы и поднимет вещи гораздо проще. Это сумасшедшее место в квантовом мире.
Вернемся к основам. Что такое квантовая физика?
Под квантовой физикой обычно понимают физику Вселенной на микроскопическом уровне. Это какое-то недоразумение. Квантовая физика кажется основой всей физики, почти как теория познания — способ для нас, как человечества, [задавать] вопросы, выходящие за рамки того, что мы могли задавать раньше. Удаление этого фильтра позволяет нам видеть реальность в ее истинной форме и приводит к некоторым очень странным вещам, которые в конечном итоге происходят, например, частицы находятся в двух местах одновременно [и] квантовая запутанность, которая представляет собой способность этих частиц общаться. друг с другом, так или иначе, на огромных расстояниях. Когда вы изучаете квантовую физику, вы пытаетесь понять, как ведут себя частицы, а также более крупные объекты в этом мире, когда у вас есть возможность рассматривать их с разных точек зрения.
друг с другом, так или иначе, на огромных расстояниях. Когда вы изучаете квантовую физику, вы пытаетесь понять, как ведут себя частицы, а также более крупные объекты в этом мире, когда у вас есть возможность рассматривать их с разных точек зрения.
Есть ли аспекты квантового мира в фильмах «Человек-муравей», которые на самом деле уходят корнями в реальную квантовую физику?
Когда меня пригласили на первый фильм, чтобы обсудить некоторые аспекты квантовой физики, которые могут иметь отношение к сюжету, одна из вещей, которая действительно нашла отклик у сценаристов и Пола [Радда], заключалась в том, что по ходу дела все глубже и глубже погружаясь в Квантовый Мир, вещи, которые мы принимаем как должное — идея о том, что существуют законы физики, что существует измерение времени, и мы движемся через него в одном направлении — все эти вещи потенциально растворяются. Сама реальность тает и появляются новые возможности. Я нахожу это интересным, что у меня есть возможность в качестве консультанта по фильму представить публике некоторые действительно передовые и научно-фантастические идеи, которые сейчас являются частью физики.
Некоторые части «Человека-муравья» основаны на реальной науке, но уменьшение или увеличение людей остается научной фантастикой. Студия Marvel
Внесли ли вы какой-то конкретный вклад в сюжет фильма?
На этот раз я работал над сценарием. Одной из главных движущих сил сюжета является связь Скотта Лэнга [которого играет Радд] с оригинальной Осой, которую играет Мишель Пфайффер, потому что ходили слухи, что ближе к концу первого фильма было отражение Оса на шлеме Человека-муравья, когда он находился в Квантовом мире. Идея состоит в том, что они каким-то образом связаны квантовой запутанностью, поэтому у него есть эти видения персонажа Мишель Пфайффер, которые позволят команде отправиться и забрать ее из квантового мира.
Это была твоя идея?
Это был весь мой вклад. [Было] очень забавно видеть, как сценаристы взволнованы этим, и что существует такой замечательный механизм из реальной науки, который может продвигать сюжет вперед. Это была лишь одна из тем, которые мы обсуждали. Еще один был, главный злодей в сиквеле «Человек-муравей и Оса» — дама по имени Призрак. Когда она была моложе, произошел несчастный случай, и в итоге она застряла между нашим миром и Квантовым миром, вступая и выходя из него, поэтому мне было что сказать о том, как это работает, что это значит и где ее силы. пришли из.
Еще один был, главный злодей в сиквеле «Человек-муравей и Оса» — дама по имени Призрак. Когда она была моложе, произошел несчастный случай, и в итоге она застряла между нашим миром и Квантовым миром, вступая и выходя из него, поэтому мне было что сказать о том, как это работает, что это значит и где ее силы. пришли из.
Удастся ли когда-нибудь уменьшить людей до размеров муравьев?
Идея уменьшиться или стать огромным, как Человек-гигант против Человека-муравья, это, безусловно, одни из самых научно-фантастических аспектов фильма.
Костюм Человека-муравья позволяет ему уменьшаться в размерах и обладать сверхчеловеческой силой. Marvel Studios
Было бы много проблем у людей, если бы они были уменьшены хотя бы до десятой части своего первоначального размера — от правильного дыхания до сохранять хладнокровие. Даже их голос звучал так, как будто они все время вдыхали гелиевый шарик. Это было бы довольно веселое существование, если бы оно не убивало их слишком быстро.
Вы можете создать «мюонную материю», которая точно такая же, как обычная материя, но вместо электронов у вас будут частицы, которые выглядят точно так же, как электроны, но они в 200 раз тяжелее. У них одинаковый электрический заряд, поэтому вся химия одинакова. Хорошая вещь в этой мюонной материи заключается в том, что атомы будут в 200 раз меньше, а это означает, что вы можете уменьшить объект на очень короткий период времени, после которого эти мюоны снова распадутся на свои электронные сущности. Вы можете уменьшить его в 200 или 1000 раз, в зависимости от того, насколько тяжелыми были эти новые типы электронов. Этот тип материи может быть создан только на циклотронах, в местах, где есть пучки частиц, движущихся очень быстро и сталкивающихся друг с другом, и они не будут существовать очень долго.
Есть ли у вас какое-нибудь представление о том, как Квантовый мир может сыграть роль в будущих фильмах Marvel?
Сразу после выхода оригинального фильма «Человек-муравей» я прочитал интервью с Кевином Файги, президентом Marvel Studios, в котором он сказал, что Квантовый мир сыграет очень важную роль в будущем киноиндустрии Marvel. Вселенная. Я потерял его, потому что я придумал и описал это новое царство. Прямо сейчас мы видим — по крайней мере, благодаря сиквелу в «Человеке-муравье», — что эта область будет играть важную роль в будущем, а также с «Капитаном Марвелом» [выход которого запланирован на март 2019 года].].
Вселенная. Я потерял его, потому что я придумал и описал это новое царство. Прямо сейчас мы видим — по крайней мере, благодаря сиквелу в «Человеке-муравье», — что эта область будет играть важную роль в будущем, а также с «Капитаном Марвелом» [выход которого запланирован на март 2019 года].].
Если квантовая физика лежит в основе физической реальности, вы можете спроектировать реальность так, чтобы она отличалась от прежней, и не только идеи пространства и времени, но и вещи, которые мы еще даже не считали людьми, например, где законы исходит из физики. Это отличная площадка для будущего кинематографической вселенной Marvel.
Дополнительный отчет Шивани Кхаттар и Брока Стоунхэма.
Хотите больше историй о потрясающей физике?
- Физик Брайан Грин о трех величайших загадках науки, которые он хотел бы разрешить Твиттер, Фейсбук и Инстаграм.
Насколько реальна наука о Человеке-муравье?
Космос поддерживается своей аудиторией.
 Когда вы покупаете по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию. Вот почему вы можете доверять нам.
Когда вы покупаете по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию. Вот почему вы можете доверять нам.(Изображение предоставлено Marvel Studios и Walt Disney Pictures)
Премьера фильма «Человек-муравей» от Marvel, премьера которого состоялась в 2015 году с Полом Раддом в роли титулованного уменьшающегося супергероя, привнесла в Кинематографическую вселенную Marvel еще больше научных возможностей. Способности Человека-муравья включают в себя уменьшение до невероятных размеров с помощью специального костюма, командование видами муравьев и возможность вырасти до гигантских размеров. Большинство этих способностей сосредоточено вокруг «частицы Пима» гениального ученого Хэнка Пима, вымышленной экзотической группы субатомных частиц, которая позволяет изменять размер и массу объекта по желанию в обход закона квадрата-куба. Насколько реально все это может быть на самом деле?
Как видно из , это видео от Vsauce3 (открывается в новой вкладке) с Полом Раддом и Джейком Ропером, уменьшенное до абсурдно маленького размера, создает массу проблем.
 Во-первых, плотность вашего тела (если поддерживать его при сжатии) будет настолько велика, что оно просто рухнет само на себя из-за огромного давления. Очевидно, что эта проблема решается благодаря способности Частицы Пима поддерживать структуру тела, уменьшенного до невероятных размеров.
Во-первых, плотность вашего тела (если поддерживать его при сжатии) будет настолько велика, что оно просто рухнет само на себя из-за огромного давления. Очевидно, что эта проблема решается благодаря способности Частицы Пима поддерживать структуру тела, уменьшенного до невероятных размеров.Костюм Человека-муравья и устройства, которые наполняют частицами Пима все, к чему прикрепляется устройство, похожее на хоккейную шайбу, позволяют немедленно изменять размер объектов, не беспокоясь о травмах или нарушении закона квадрата-куба: принцип физики, открытый Галилеем Галилея, который утверждает, что любой объект, который увеличивается в размерах, увеличивает площадь своей поверхности в квадрате, а объем увеличивается в кубическом разе.
Кроме того, уменьшение вашего размера будет также означать, что звуки, которые вы издаете, резко увеличатся по частоте, а длина волны вашего голоса будет составлять от 12 до 26 кГц, что находится за пределами диапазона человеческого слуха. Таким образом, вдобавок к тому, что вы будете раздавлены огромным весом вашего тела, помещенного в такое маленькое пространство, вы будете общаться только вслух неразборчивым писком и писком.
 Однако всякий раз, когда Человек-муравей уменьшается, кажется, что люди все еще могут слышать его, несмотря на абсурдное уменьшение в размерах.
Однако всякий раз, когда Человек-муравей уменьшается, кажется, что люди все еще могут слышать его, несмотря на абсурдное уменьшение в размерах.(Изображение предоставлено Marvel Studios и Walt Disney Pictures)
Если бы уменьшение до небольшого размера также пропорционально уменьшало плотность вашего тела, то вы бы не были раздавлены. Однако ваша способность противостоять даже слабому ветру становится практически невозможной. При размере муравья вы будете весить всего 0,03 г. При таком весе ветер со скоростью около 8 миль в час легко унесет вас, а человеческое чихание приведет к почти смертельным повреждениям при скорости ветра более 100 миль в час!
Несмотря на все это, есть и положительная сторона. Потеря веса резко увеличила бы вашу скорость при муравьиных размерах. Ваши шаги будут в 20 раз быстрее, чем обычно. Одним из самых быстрых людей на планете является Усэйн Болт, максимальная скорость которого составляет около 27 миль в час. Если бы он был размером с муравья, его максимальная скорость достигла бы более 540 миль в час, или почти 80% скорости звука.
 Эти скорости иногда совпадают со скоростью, которую могут развивать костюмы Человека-муравья и Осы, как показано в фильмах и комиксах.
Эти скорости иногда совпадают со скоростью, которую могут развивать костюмы Человека-муравья и Осы, как показано в фильмах и комиксах.К сожалению, есть еще один недостаток. Ваш метаболизм при таких размерах увеличился бы до уровня, при котором человеку нужно было бы потреблять пищу для получения энергии с почти постоянной скоростью только для поддержания тепла и средств к существованию. Так что, даже если бы вы могли бежать со скоростью, при которой ничто не могло бы вас коснуться, вы, вероятно, умерли бы от голода.
(Изображение предоставлено Marvel Studios и Walt Disney Pictures)
Еще один фантастический элемент «Человека-муравья» — введение Квантового Царства, или пространства между реальностями. Впервые замечено в «Человеке-муравье» 2015 года, когда Скотт Лэнг, второй пользователь костюма Человека-муравья, снимает ограничитель костюма, чтобы уменьшить его до размера, превышающего безопасное ограничение, которое может поддерживать частица Пима (который меньше, чем даже размер атомы).
 По мере того как Скотт сжимается все меньше и меньше, разбивая части костюма Желтого Жакета, мы видим, как Скотт летит по воздуху рядом с частицами пыли, которые больше, чем он сам. А затем постоянно уменьшаясь до размеров, где мы видим таких существ, как тихоходки (он же водяной медведь или моховой поросенок), а затем в пространство, где все, кажется, распадается до едва заметной точки. Геометрия и странные изображения затуманивают экран, а затем Скотт Лэнг плывет в почти кромешной пустоте, и лишь голубые пучки энергии освещают близлежащие карманы пространства.
По мере того как Скотт сжимается все меньше и меньше, разбивая части костюма Желтого Жакета, мы видим, как Скотт летит по воздуху рядом с частицами пыли, которые больше, чем он сам. А затем постоянно уменьшаясь до размеров, где мы видим таких существ, как тихоходки (он же водяной медведь или моховой поросенок), а затем в пространство, где все, кажется, распадается до едва заметной точки. Геометрия и странные изображения затуманивают экран, а затем Скотт Лэнг плывет в почти кромешной пустоте, и лишь голубые пучки энергии освещают близлежащие карманы пространства.Вплоть до пространства между атомами изображения на самом деле довольно точны для того, что вы могли видеть. Грубые текстуры частиц пыли и других вещей, плавающих в воздухе, похоже, основаны на изображениях мелких частиц, полученных с помощью электронного микроскопа, на которых видны пещеры и гороподобные области вокруг. Мы видим тихоходку, проплывающую мимо, когда Скотт сжимается до размеров пылинки, что указывает на размер менее 5 микрон.
 Согласно большинству результатов, средний размер тихоходки составляет около 0,4 мм.0271 (открывается в новой вкладке), намного крупнее средней частицы пыли.
Согласно большинству результатов, средний размер тихоходки составляет около 0,4 мм.0271 (открывается в новой вкладке), намного крупнее средней частицы пыли.(Изображение предоставлено Marvel Studios и Walt Disney Pictures)
Позже, в «Мстителях: Финал» 2019 года, все герои используют свойства Квантового мира, чтобы манипулировать пространством-временем и путешествовать в разные моменты времени, чтобы получить Камни Бесконечности, чтобы спасти вселенную. Очевидно, что простое сжатие до очень малых размеров на самом деле не приводит к путешествию во времени, и технология, используемая для разработки этой техники, объясняется «техно-болтовней» Брюса Бэннера, которая включает в себя связь между использованием частиц Пима и специализированной машиной для изменяют пространство-время вокруг себя по мере того, как они сжимаются.
Отдавая должное Marvel, мы рассмотрели большинство распространенных теорий о путешествиях во времени в нашей статье о возможных путешествиях во времени, и для некоторых из них потребуются экзотические частицы.
 Частицы Пима довольно экзотичны. Однако на данный момент это в основном вымышленное изображение, поскольку Квантовое Царство может быть связано с фантастическими элементами вселенной Marvel, такими как магия и невозможные существа, которых также можно описать только как богоподобных.
Частицы Пима довольно экзотичны. Однако на данный момент это в основном вымышленное изображение, поскольку Квантовое Царство может быть связано с фантастическими элементами вселенной Marvel, такими как магия и невозможные существа, которых также можно описать только как богоподобных.В целом, наука Человека-муравья представляет собой смесь фантастических элементов с достаточным реализмом, чтобы сделать ее убедительной для среднего зрителя. Объяснения технологии Pym Particle в сочетании с упрощенными объяснениями квантовой механики и того, как могло бы работать уменьшение до таких нелепых размеров, если бы существовал способ сделать это, чтобы придать вид полуреализма сеттингу, в остальном фантастическому типу. Объяснения, пусть и немного рудиментарные, служат прекрасной цели дать более жесткий подход к науке о фэнтези, которая в противном случае использовалась бы довольно свободно.
Пока вы не придираетесь к каждой мелочи в том, как работает механика, наука о Человеке-муравье, кажется, держится.
 Как и в большинстве фильмов, нам не нужно все время подвергать сомнению, и если это имеет смысл для повествования и продвигает сюжет вперед, то просто расслабьтесь, не думайте об этом слишком много и наслаждайтесь.
Как и в большинстве фильмов, нам не нужно все время подвергать сомнению, и если это имеет смысл для повествования и продвигает сюжет вперед, то просто расслабьтесь, не думайте об этом слишком много и наслаждайтесь.Если вы хотите узнать больше о квантовой физике, ознакомьтесь с нашей статьей об этих 10 ошеломляющих фактах о квантовой физике.
Смотреть Человека-муравья на Disney+
(открывается в новой вкладке)
Disney+ Ежемесячно
(открывается в новой вкладке)
$7,99
/мес. открывается в новой вкладке)
(открывается в новой вкладке)
Disney+ Yearly
(открывается в новой вкладке)
79,99 $
/год
(открывается в новой вкладке)
Просмотр сделки)
на Disney+ (открывается в новой вкладке)
Присоединяйтесь к нашим космическим форумам, чтобы продолжать обсуждать последние миссии, ночное небо и многое другое! А если у вас есть новость, исправление или комментарий, сообщите нам об этом по адресу: community@space.
 com.
com. надбавка за то, что он белый натурал в науке США
Исследование показывает, что некоторые группы людей в науке более привилегированы, чем другие
Крупное всестороннее исследование показывает, как выглядят привилегии в науке: гетеросексуальные белые мужчины, не являющиеся инвалидами, получают больше зарплаты, больше уважения и больше возможностей для карьерного роста по сравнению со всеми другими группами.
Прошлые исследования показали, как сексизм, расизм и другие виды дискриминации по отдельности способствуют неравенству в научных кругах. Но социолог Эрин Чех из Мичиганского университета в Анн-Арборе сравнила опыт исследователей, которые соответствовали спектру 32 пересекающихся идентичностей. Она проанализировала данные опроса примерно 25 300 исследователей, работающих в различных секторах, включая научные круги, промышленность и правительство США, проведенного в период с 2017 по 2019 год. Исследование было опубликовано в Научные достижения за последний месяц 1 .

Чех, которая описывает себя как цисгендерную белую квир-женщину, говорит, что результаты показывают последовательные, поразительные модели привилегий, которые сохраняются после поправки на различия в образовании, опыте, рабочих часах, семейных обязанностях и более чем дюжине других смешанных факторов. Анализ показывает, что гетеросексуальные белые мужчины без инвалидности пользуются массой нетрудовых преимуществ, которые нельзя объяснить такими различиями. Им платят в среднем на 7 831 доллар США в год больше, чем другим группам, с поправкой на смешанные факторы. Им также предоставляется больше карьерных возможностей, они чувствуют себя более уважаемыми на работе и подвергаются меньшему преследованию, чем люди из любой другой пересекающейся демографической группы, которую изучал Чех, и поэтому они с меньшей вероятностью уйдут из науки.
«Снова и снова я слышу [люди говорят], что нет данных, подтверждающих существование привилегий», — говорит Джессика Эскивель, физик из Национальной ускорительной лаборатории Ферми в Батавии, штат Иллинойс.
 Теперь у маргинализированных групп есть достоверные данные, на которые они могут указать и сказать: «Вот то, о чем вы просили. Что теперь?» — говорит Эскивель, черная, странная, нейроотличная мексиканка.
Теперь у маргинализированных групп есть достоверные данные, на которые они могут указать и сказать: «Вот то, о чем вы просили. Что теперь?» — говорит Эскивель, черная, странная, нейроотличная мексиканка.Больше денег, больше уважения
Гетеросексуальные белые мужчины без инвалидности получают как минимум на 32 000 долларов США больше в год по сравнению с цветными квир-людьми, имеющими такой же уровень опыта, срок пребывания в должности, количество отработанных часов, семейные обязанности, образование и другие факторы. , нашел Чех. Самая привилегированная группа также зарабатывает на 20 000 долларов США в год больше, чем инвалиды любого пола, этнической принадлежности или сексуальной идентичности.
Келси Байерс, агендерный, бесполый и множественный биолог-инвалид, работающий в Центре Джона Иннеса в Норвиче, Великобритания, говорит, что неблагоприятное положение, с которым сталкиваются маргинализированные группы, вызывает тревогу, а разрыв в заработной плате шокирует: «Как человек, который изо всех сил пытался буквально войти в дверь, [выводы] были ударом под дых, но я знаю, что это правда».

Чех обнаружил, что наиболее неблагополучными группами являются цветные женщины, идентифицирующие себя с ЛГБТК, а также люди с физическими недостатками, хроническими заболеваниями или психическими расстройствами. У людей в этих группах была более низкая заработная плата и меньше возможностей для карьерного роста, они пользовались меньшим уважением со стороны коллег и часто чувствовали себя отверженными — даже когда их образование, опыт и рабочие характеристики были такими же, как у их гетеросексуальных, белых мужчин, здоровых сверстников.
Кристофер Джексон, чернокожий геолог из Соединенного Королевства, говорит, что исследование Чеха показывает, как личность и обстоятельства определяют, кто будет заниматься наукой. «Быть умным недостаточно», — говорит он, потому что не у всех есть одинаковый доступ к возможностям или поддержка сверстников, чтобы помочь им достичь того, чего они хотят. Многие барьеры, с которыми приходится сталкиваться некоторым людям, также остаются в основном незамеченными, добавляет Джексон, который ушел из академии в марте, чтобы присоединиться к научной консалтинговой фирме.

Эскивель надеется, что данные исследования Чех помогут противостоять тому, с чем она столкнулась: исследователи из привилегированных групп задаются вопросом, заслуживают ли маргинализированные ученые, нанятые в рамках инициатив по разнообразию, своего места в академических кругах. По ее словам, людям, не подвергающимся маргинализации, следует задуматься о том, как привилегии облегчили их карьеру.
Культурные изменения
Необходимы структурные и культурные изменения, чтобы устранить неравенство, из-за которого представители меньшинств уходят из науки, говорит социолог Мередит Нэш из Австралийского национального университета в Канберре. «Вы не можете привести людей из исторически исключенных групп в эти области [и ожидать, что они останутся], не создав среду для их процветания», — говорит она.
Чтобы создать более справедливые рабочие места, говорит Нэш, учреждения и их руководители должны пересмотреть процессы, которые дают несправедливое преимущество определенным группам людей.
 Она говорит, что белые цисгендерные женщины, такие как она сама, часто получают выгоду от инициатив по обеспечению справедливости, им также необходимо задуматься о своих привилегиях и использовать их для защиты большего разнообразия.
Она говорит, что белые цисгендерные женщины, такие как она сама, часто получают выгоду от инициатив по обеспечению справедливости, им также необходимо задуматься о своих привилегиях и использовать их для защиты большего разнообразия.Это означает критический взгляд на методы найма и продвижения по службе, а также переосмысление того, как академия признает и вознаграждает научные достижения, говорит Чех. Учитывая, что системные преимущества основаны на исторической чрезмерной представленности белых мужчин в науке, структурные и культурные изменения начинаются с этой группы, добавляет она. По ее словам, белые мужчины, которые готовы размышлять и обсуждать эти формы привилегий, обладают реальным влиянием.
Но прошлые исследования показали, что многие белые мужчины в некоторых областях утверждают, что не знают о расизме или сексизме вокруг них, несмотря на доказательства того, что их область может быть особенно враждебной средой для женщин и представителей групп меньшинств.
 При опросе физиков белые люди часто дистанцировались от проблемы, говоря, что она не возникает в их лабораториях и что решения лежат вне их сферы влияния.
При опросе физиков белые люди часто дистанцировались от проблемы, говоря, что она не возникает в их лабораториях и что решения лежат вне их сферы влияния.Такое отношение порождает неравенство, говорит Тимоти О’Коннор, инвалид, белый мужчина и генетик-эволюционист из Медицинской школы Университета Мэриленда в Балтиморе. «Нам нужно постоянно проявлять бдительность в борьбе с предвзятостью, где бы мы ее ни видели, даже и особенно в самих себе». Однако он добавляет, что необходимо проделать дополнительную работу, чтобы оценить разнообразный опыт исследователей с разными идентичностями внутри групп, которые были «сведены вместе» в исследовании Чеха. Например, в своем основном анализе исследование не делало различий между людьми с разными типами инвалидности или между людьми с разной ЛГБТ-идентичностью. В нем также использовались широкие этнические подразделения с небольшими нюансами, такие как «азиаты». Чех говорит, что это было сделано для защиты конфиденциальности респондентов.
Модели неблагополучия и привилегий закладываются задолго до того, как люди начинают карьеру в науке, говорит Мохаммад Таха, инженер-материаловед из Мельбурнского университета, Австралия, который идентифицирует себя как небинарный, трансгендерный, цветной квир-человек.
 Академические круги должны лучше измерять эффективность работы людей, оказавшихся в невыгодном положении. По словам Таха, у многих из этих людей не будет таких же возможностей, как у их сверстников из группы большинства, и их необходимо оценивать соответствующим образом при подаче заявления о приеме на работу и финансировании.
Академические круги должны лучше измерять эффективность работы людей, оказавшихся в невыгодном положении. По словам Таха, у многих из этих людей не будет таких же возможностей, как у их сверстников из группы большинства, и их необходимо оценивать соответствующим образом при подаче заявления о приеме на работу и финансировании.Они добавляют, что многие исследователи искренне заинтересованы в том, чтобы сделать академические круги более инклюзивными, но бездействуют. «Ваше бездействие не нейтрально; ваше бездействие усугубляет эту проблему».
Наука о сверхспособностях Человека-паука
Летний киносезон уже в самом разгаре: «Мстители: Финал» уже заработали более 2,7 миллиарда долларов по всему миру, и многие другие надеются заработать на глобальном волнении супергероев.
«Человек-паук: Вдали от дома» — новейший кинематографический рассказ о Питере Паркере, дружелюбном соседском супергерое, который может карабкаться по стенам, невероятно силен и проворен.
 Паркер также является научно подкованным героем, создающим свои собственные костюмы и снаряжение, который продолжает вдохновлять публику спустя 57 лет после того, как его впервые воплотили в жизнь Стэн Ли и Стив Дитко.
Паркер также является научно подкованным героем, создающим свои собственные костюмы и снаряжение, который продолжает вдохновлять публику спустя 57 лет после того, как его впервые воплотили в жизнь Стэн Ли и Стив Дитко.И хотя радиоактивные пауки, возможно, не прячутся в лабораториях, давая ничего не подозревающим студентам возможность лазить по стенам, сверхспособности Человека-паука и его синтетическая паутина не могут быть полностью недоступны. Penn Today поговорила с материаловедом и инженером Шу Янг, чтобы узнать больше о реальных версиях этих «супер» материалов и о том, как биология вдохновляет инженеров в ее области на создание искусственных материалов с уникальными функциями.
Когда инженеры видят невероятные материалы, полученные в результате биологии, такие как крепкие, но гибкие мышечные сухожилия, гекконы, лазающие по стенам, или шелк паука, как они подходят к процессу создания искусственных материалов с аналогичными свойствами?
Биологи и инженеры определенно должны работать вместе.
 Много лет назад мы сделали переливающиеся цвета, похожие на опал, и сказали: «Мы имитируем биологию; у них такие интересные цвета, и мы имитируем крылья бабочки», но на самом деле не знаем, как работают биоорганизмы и почему они это делают.
Много лет назад мы сделали переливающиеся цвета, похожие на опал, и сказали: «Мы имитируем биологию; у них такие интересные цвета, и мы имитируем крылья бабочки», но на самом деле не знаем, как работают биоорганизмы и почему они это делают.Затем мы начали работать с Дэном Джанзеном и Элисон Суини, и теперь мы пытаемся понять конвергенцию биологии и задаем более глубокие вопросы: если вы видите цвет, откуда он берется? Это из-за морфологии или из-за химии? Почему в одном семействе бабочек они разного цвета? Почему листья или семена некоторых растений и крылья бабочки имеют одинаковый цвет? Являются ли они из-за одного и того же механизма?
Если мы сможем понять, почему они ведут себя таким образом, мы сможем спроектировать структуру или разработать химию, обладающую аналогичной функциональностью, не тратя на это сотни миллионов лет и не предпринимая трудоемких шагов для создания таких же очень сложных структур, как это делает биология. .
Что делает паучий шелк таким «супер» материалом?
Существуют различные виды выравнивания нитей протеина шелка, что очень важно.
 Это похоже на ваши сухожилия, которые имеют направленность. Вы можете согнуть руку в одном направлении, но не в другом. Шелк паука имеет многоуровневую структуру или иерархию; они не состоят из одного типа белков. Они состоят из разных белков, которые имеют разную морфологию и ориентацию. И есть семь различных типов желез, которые пауки производят, чтобы прясть свой шелк.
Это похоже на ваши сухожилия, которые имеют направленность. Вы можете согнуть руку в одном направлении, но не в другом. Шелк паука имеет многоуровневую структуру или иерархию; они не состоят из одного типа белков. Они состоят из разных белков, которые имеют разную морфологию и ориентацию. И есть семь различных типов желез, которые пауки производят, чтобы прясть свой шелк.Кроме того, пауки вяжут эти шелка в паутину шаров различной геометрии, что также повышает прочность. Если у вас есть паутина на ветру, она может перемещаться, но на самом деле не рвется на части. Такая геометрия очень важна. Некоторые исследователи даже утверждают, что ветер вызывает изменения в геометрии паутины.
Это то, что мы пытаемся сделать прямо сейчас со структурами оригами/киригами: вы не изменяете внутреннее свойство материала, просто используете резку и складывание в качестве инструмента, что обеспечивает дополнительный, ранее недостижимый уровень дизайна, динамичности, и возможность развертывания, которые делают изначально жесткую, нерастяжимую панель растяжимой и складной в любом масштабе.

Стив Дитко подробно рассказал в своих комиксах о том, как работали веб-шутеры Питера Паркера. (Изображение: комиксы Marvel)
Синтетическая жидкость для паутины Человека-паука описывается как «жидкость, разжижающая сдвиг», которая «при контакте с воздухом длинноцепочечный полимер сплетается и образует чрезвычайно прочное и гибкое волокно». Это материал, который звучит реалистично?
Абсолютно. Истончение при сдвиге означает, что изначально это жесткий или очень вязкий материал, но если вы сдвигаете его, он становится менее вязким и его можно легко выровнять в направлении сдвига. Вот почему вы создаете определенное выравнивание молекул.
Например, кетчуп представляет собой материал, разбавляемый сдвигом. Из бутылки трудно выбраться, поэтому вы встряхиваете ее, чтобы расщепить молекулы кетчупа, что снижает вязкость. Биополимерные цепи будут растягиваться, распутываться и ускользать друг от друга, поэтому они смогут выйти из бутылки.
В 3D-печати истончение при сдвиге очень важно, потому что при печати вы хотите, чтобы материал проходил в виде жидкости, иначе он засорит сопло.
 Но как только он выйдет, вы хотите, чтобы он сразу затвердел, иначе материал разрушится, и вы не сможете получить хороший отпечаток.
Но как только он выйдет, вы хотите, чтобы он сразу затвердел, иначе материал разрушится, и вы не сможете получить хороший отпечаток.Одной из способностей Человека-паука является способность взбираться на стены и здания. Помимо пауков есть несколько животных, например, гекконы, которые также могут это делать. Как это работает?
В области робототехники геккон взволновал людей, потому что их способность взбираться на стены не основана на капиллярах или вакууме. У лягушек выходит жидкость, поэтому она какая-то липкая и грязная, к тому же вам придется носить жидкость для робота. Точно так же, если он основан на вакууме, вам нужно носить с собой вакуумный насос, поэтому он не энергоэффективен.
Я показывал этот фильм в своем классе: Этот парень карабкался на вакуумных подушках, и хотя это всего лишь пятиэтажное здание, это заняло у него несколько часов. В конце он увидел дождь и начал беспокоиться, потому что если у вас есть вода, ваш пылесос больше не работает.

Вот почему люди интересуются гекконом, потому что у него ничего этого нет. Он основан на взаимодействии Ван-дер-Ваальса через микроскопические волоски, называемые щетинками, на их подушечках пальцев, и на конце каждой щетинки находится около 1000 нано-волос, называемых лопаточками. У них много-много рядов щетинок. Когда щетинки/лопаточки прямые, они очень мало соприкасаются с плоской поверхностью, поэтому их очень легко оторвать. Однако, когда щетинки изгибаются, площадь контакта значительно увеличивается, учитывая, что шпателей миллионы, поэтому сцепление лучше. Щетинки могут открываться и закрываться таким образом, поэтому они изменяют адгезию.
Мы можем изготовить такие структуры, которые могут имитировать структурную адгезию, но проблема в том, что вес геккона всего 50 грамм, а у него на ладони миллионы таких щетинок. Это на самом деле перепроектировано. Человек весит как минимум 50 килограммов, то есть в 1000 раз больше.
Для сравнения, сила сцепления суперклея составляет около 1000 ньютонов на квадратный сантиметр, клейкой ленты — 50, а щетинок геккона — всего около 10.
 Таким образом, исследователи сталкиваются с дилеммой: если вам нужна сверхпрочность, как у суперклея, это необратимо, и если вы хотите, чтобы это было обратимо, вы не можете стать суперсильным.
Таким образом, исследователи сталкиваются с дилеммой: если вам нужна сверхпрочность, как у суперклея, это необратимо, и если вы хотите, чтобы это было обратимо, вы не можете стать суперсильным.Структура лапы геккона, показанная невооруженным глазом (вверху слева) и крупным планом плотно расположенных выступов щетинок под микроскопом. (Изображение: Келлар Осень)
Насколько мы близки к разработке материала, который позволит людям взбираться по стенам, не полагаясь на вакуум или влажный, липкий клей, который необратим?
Мы только что получили документ об этом клее. Он очень прочный и обратимый, и мой ученик использовал полоски площадью 2 квадратных сантиметра, чтобы удержаться на ногах. Он изготовлен из гидрогеля, который используется в контактных линзах. Как вы знаете, контактная линза, если вы положите ее в воду, станет мягкой, сгибаемой, но если вы забудете положить ее в воду, она станет сухой и ломкой или стекловидной. Наш материал эластичный в воде и стекловидный в сухом виде.

Когда он резиновый, кладешь его на подложку, и какой бы субстрат ни был, материал в него вдавливается, и при высыхании они становятся жесткими. Прелесть в том, что при высыхании они не так сильно садятся. Почему это важно? На поверхности много канавок, поэтому материал протискивается в эти канавки и обеспечивает идеальный контакт. Однако при высыхании, если и дают усадку, то расслаиваются, вылезают наружу, теряя при этом контакт с подложкой.
Наш гидрогелевый материал мало дает усадки, очень быстро сохнет, поэтому сохраняет деформированную форму. И в течение нескольких минут материал действительно меняет модуль упругости в 1000 раз, так что он внезапно превращается из мягкого, протискивающегося в полость, в очень жесткий, как оргстекло. Важно, что он остается в полости, а значит, их трудно отделить от подложки. Но если добавить воды, они набухнут и станут эластичными и скользкими, так что их можно будет разделить.
Питер Паркер известен как супергерой, но он также учится и проявляет большой интерес к науке и технике.
 Как вы думаете, есть ли у Паркера качества, которые делают его хорошим ученым, а также крестоносцем в маске?
Как вы думаете, есть ли у Паркера качества, которые делают его хорошим ученым, а также крестоносцем в маске?Самое важное в том, чтобы быть ученым или новатором, это любознательность. Питеру Паркеру было любопытно. Он увидел этого паука, ему было интересно, что происходит, потом он его укусил.
Также не боится рисковать. Всегда нормально ошибаться, потому что если вы совершаете ошибку, вы учитесь и можете продолжать пробовать что-то новое.
А пока я хочу, чтобы мои ученики сначала сделали домашнее задание и предусмотрели риск. Я сказал им, что прежде чем проводить эксперимент, дайте мне план. Подумайте, каков потенциальный результат, на что следует обратить внимание, чтобы ваше исследование было более продуктивным. Если что-то выйдет незапланированным, вам будет легче проследить и выяснить, почему. Тогда это приведет к новому витку открытий и понимания.
Итак, если вы видите что-то другое, не просто игнорируйте это; это может быть что-то более интересное или прорыв.
 Многие научные исследования могут пойти в другом направлении, поэтому очень важно быть непредубежденным и любопытным.
Многие научные исследования могут пойти в другом направлении, поэтому очень важно быть непредубежденным и любопытным.SHU YANG — профессор Материалогические науки и инженерия и Химическая и биомолекулярная инженерия в Школы инженерии и приспособленной науки.
Кредиты
Эрика К. Брокмайер
Писатель
Дата
Подтемы
- Биоинженерия,
- Вопросы и ответы
Школы
- Школа инженерии и прикладных наук
Как «человека науки» заменили «ученым»
Дж.
 Т. Каррингтон, редактор научно-популярного журнала Science-Gossip, в декабре 1894 года совершил выдающийся подвиг. Он нашел тему, по которой герцог Аргайл воинственный антидарвинист, и Томас Хаксли, также известный как «бульдог Дарвина», придерживался того же мнения.
Т. Каррингтон, редактор научно-популярного журнала Science-Gossip, в декабре 1894 года совершил выдающийся подвиг. Он нашел тему, по которой герцог Аргайл воинственный антидарвинист, и Томас Хаксли, также известный как «бульдог Дарвина», придерживался того же мнения.Кэррингтон заметил распространение определенного термина, связанного с научными исследованиями. Он счел это слово «неудовлетворительным» и написал восьми выдающимся писателям и ученым, чтобы спросить, считают ли они его законным. Седьмая ответила. Хаксли и Аргайл присоединились к большинству в соотношении пять к двум, когда они осудили этот термин. «Я отношусь к этому с большой неприязнью», — заявил Аргайл. Хаксли, демонстрируя свой обычный дар остроумно отмахиваться, сказал, что рассматриваемое слово «должно быть примерно таким же приятным словом, как «поражение электрическим током».
Слово было «ученый».
Джордж Кэмпбелл, 8-й герцог Аргайл.
Королевская коллекция, CC BYСегодня звание «ученый» не только общепринятое, но и желанное.
 Быть «ученым» — значит быть кем-то с признанным правом делать заявления о мире природы. Однако, как показывают дебаты 1894 года, этот термин имеет сложную историю среди англоязычных научных практиков. Оглядываясь назад, отказ Хаксли и Аргайла от слова «ученый» может показаться странным и даже мелочным. Но история слова — это не просто лингвистический курьез. Споры о его принятии или неприятии, в конце концов, касались не самого слова: они были о том, что такое наука и какое место ее практикующие занимают в своем обществе.
Быть «ученым» — значит быть кем-то с признанным правом делать заявления о мире природы. Однако, как показывают дебаты 1894 года, этот термин имеет сложную историю среди англоязычных научных практиков. Оглядываясь назад, отказ Хаксли и Аргайла от слова «ученый» может показаться странным и даже мелочным. Но история слова — это не просто лингвистический курьез. Споры о его принятии или неприятии, в конце концов, касались не самого слова: они были о том, что такое наука и какое место ее практикующие занимают в своем обществе.Лингвистическое упражнение
Английский ученый Уильям Уэвелл впервые употребил слово «ученый» в 1834 году в рецензии на книгу Мэри Сомервиль «О связи физических наук». В обзоре Уэвелла утверждалось, что наука становится фрагментированной, что химики, математики и физики имеют все меньше и меньше общего друг с другом.
Томас Хаксли.
Лок и Уитфилд, CC BY«Любопытную иллюстрацию этого результата, — писал он, — можно наблюдать в отсутствии какого-либо имени, которым мы могли бы коллективно обозначить изучающих познание материального мира».
 Затем он предложил «ученый», аналог «художника», как термин, который мог бы обеспечить лингвистическое единство для тех, кто изучает различные отрасли наук.
Затем он предложил «ученый», аналог «художника», как термин, который мог бы обеспечить лингвистическое единство для тех, кто изучает различные отрасли наук.Однако большинство ученых-исследователей 19 века в Великобритании предпочитали другой термин: «человек науки». Аналогом этого термина был не «художник», а «литератор» — фигура, пользующаяся большим интеллектуальным уважением в Британии. «Человек науки», конечно же, также имел то преимущество, что был гендерным, ясно показывая, что наука — это респектабельное интеллектуальное занятие, которым занимается только более серьезный и интеллигентный пол.
«Ученый» встретили более доброжелательно за Атлантикой. К 1870-м годам «ученый» заменил «человека науки» в США. Интересно, что этот термин был использован для того, чтобы отличить американского «ученого», человека, занимающегося «чистыми» исследованиями, от «профессионала», использующего научные знания для получения коммерческой выгоды.
«Ученый» стал настолько популярен в Америке, что многие британские наблюдатели начали предполагать, что он возник там.
 Когда Альфред Рассел Уоллес ответил на опрос Кэррингтона 1894 года, он назвал слово «ученый» «очень полезным американским термином». Однако для большинства британских читателей популярность этого слова в Америке была скорее свидетельством того, что этот термин был незаконным и варварским.
Когда Альфред Рассел Уоллес ответил на опрос Кэррингтона 1894 года, он назвал слово «ученый» «очень полезным американским термином». Однако для большинства британских читателей популярность этого слова в Америке была скорее свидетельством того, что этот термин был незаконным и варварским.Настроения против «ученых» в Британии сохранились и в 20 веке. В 1924 году слово «ученый» снова стало предметом обсуждения в периодическом издании, на этот раз во влиятельном специализированном еженедельнике Nature.
Старая мачта.
ПриродаВ ноябре физик Норман Кэмпбелл направил письмо редактору журнала Nature с просьбой пересмотреть политику журнала по избеганию употребления слова «ученый». Он признал, что когда-то это слово было проблематичным. Он был придуман в то время, «когда у ученых были некоторые проблемы со своим стилем» и «их справедливо обвиняли в неряшливости». Кэмпбелл, однако, утверждал, что такие вопросы «стиля» больше не беспокоят — теперь ученый добился общественного уважения.
 Кэмпбелл считал альтернативы старомодными. Действительно, «человек науки» был откровенно оскорбительным для растущего числа женщин в науке.
Кэмпбелл считал альтернативы старомодными. Действительно, «человек науки» был откровенно оскорбительным для растущего числа женщин в науке.В ответ редактор журнала Nature Ричард Грегори решил пойти по стопам Кэррингтона. Он запросил мнения лингвистов и ученых-исследователей о том, следует ли Nature использовать слово «ученый». Слово получило большую поддержку в 1924 году, чем 30 лет назад. Многие исследователи написали, что слово «ученый» — это нормальное и полезное слово, которое теперь прочно вошло в английский лексикон, и что Nature следует использовать его.
Уильям Уэвелл.
Популярная наукаОднако многие исследователи все же отвергли «ученого». Д’Арси Вентворт Томпсон, зоолог, утверждал, что «ученый» — это испорченный термин, используемый «людьми, которые не питают большого уважения ни к науке, ни к «ученому»». Выдающийся естествоиспытатель Э. Рэй Ланкестер возражал, что какой-нибудь «Барни Бункум» может претендовать на такое расплывчатое название.
 «Я думаю, что мы должны быть анатомами, зоологами, геологами, электриками, инженерами, математиками, натуралистами», — утверждал он. «Ученый» приобрел — может быть, несправедливо — значение устройства шарлатана».
«Я думаю, что мы должны быть анатомами, зоологами, геологами, электриками, инженерами, математиками, натуралистами», — утверждал он. «Ученый» приобрел — может быть, несправедливо — значение устройства шарлатана».«Ученый» пришлось ждать до Второй мировой войны
В конце концов, Грегори решил, что Природа не будет запрещать авторам использовать слово «ученый», но сотрудники журнала будут продолжать избегать этого слова. Грегори утверждал, что слово «ученый» было «слишком всеобъемлющим в своем значении… дело в том, что в наши дни специальных научных исследований никто не претендует на то, чтобы быть «культиватором науки вообще»».
Природа была далеко не одинока в своей позиции. Как заметил Грегори, Лондонское королевское общество, Британская ассоциация содействия развитию науки, Королевский институт и издательство Кембриджского университета отвергли термин «ученый» с 1919 года.24. Только после Второй мировой войны Кэмпбелл по-настоящему осуществил свое желание, чтобы «ученый» стал общепринятым британским термином для человека, занимающегося научными исследованиями.


 Цифровизация экономики: новые формы труда и трудовых отношений.
Цифровизация экономики: новые формы труда и трудовых отношений.