Содержание
Эссе на тему «Искусство и наука»
В наш век бурного развития науки и техники, всеохватывающих средств массовой информации нас, казалось бы, трудно удивить чем-то новым. А новое ежедневно неумолимо и шумно вторгается в нашу жизнь. И все же мир бесконечно богаче и многообразнее, чем все самые новейшие открытия в науке, технике, культуре и искусстве. Это ставит в затруднительное положение даже современных фантастов. Парадоксально? Но это так. Парадоксы всегда выражают нечто неожиданное, расходящееся с установившимся, общепринятым.
Познание — прежде всего человеческая деятельность. Это он, человек, всеми доступными ему, исторически сложившимися способами осваивает и очеловечивает действительность. Человек создал два поистине могучих средства познания природы и самого себя — науку и искусство.
Искусство возникло раньше науки, оно вначале вбирало в себя все формы человеческого познания. Почему же они впоследствии разделились? Ответ на этот вопрос надо искать в исследовании самой истории человеческого познания. Сама же история не что иное, как деятельность преследующего свои цели человека. Не история, именно человек, действительный, живой человек осваивал, обживал земной мир, черпал все свои знания, ощущения и прочее из чувственного мира и опыта получаемого от этого мира. Стремился устроить окружающий мир так, что бы человек в нем познавал и усваивал истинно человеческое, чтобы он познавал себя как человека.
Сама же история не что иное, как деятельность преследующего свои цели человека. Не история, именно человек, действительный, живой человек осваивал, обживал земной мир, черпал все свои знания, ощущения и прочее из чувственного мира и опыта получаемого от этого мира. Стремился устроить окружающий мир так, что бы человек в нем познавал и усваивал истинно человеческое, чтобы он познавал себя как человека.
Изобретение паровоза, автомобиля и самолета, кино и радио, не совершили переворота в психологии людей или их мировосприятии. Новые открытия в науке и технике несравнимы с предшествующими.
Наука и техника не могут не влиять на мировосприятие людей а следовательно, и на их психологию. И все же существует ли взаимовлияние между искусством и наукой? Да, наука и искусство не только бесспорно влияют друг на друга, но и соперничают в открытиях: первое — в области тайн природы, второе — человеческой души. Сам же мир науки может быть одним из многих объектов, к которым обращается искусство. Наука может сдвинуть с места гору Эверест, но она не может сделать хоть чуточку добрее человеческое сердце. Это может сделать только искусство, Мало того — это его заглавная, извечная цель. Современной Америке никак не откажешь в техническом и научном прогрессе, но нельзя сказать, что ее искусство духовно богаче, человечнее, глубже, ярче искусства Итальянского Возрождения, Французского искусства XVIII века или Русского искусства XIX столетия.
Наука может сдвинуть с места гору Эверест, но она не может сделать хоть чуточку добрее человеческое сердце. Это может сделать только искусство, Мало того — это его заглавная, извечная цель. Современной Америке никак не откажешь в техническом и научном прогрессе, но нельзя сказать, что ее искусство духовно богаче, человечнее, глубже, ярче искусства Итальянского Возрождения, Французского искусства XVIII века или Русского искусства XIX столетия.
Искусство — это грандиозное здание, отдельное же произведение — здание микроскопическое, но тоже завершенное. В науке же ни одно исследование не завершено оно имеет смысл и ценность в ряду предшественников и последователей. Если науку уподобить грандиозному зданию, то отдельные исследования — это кирпич в его стене. Поэтому искусство веками накапливает ценности, отсеивает слабое, но хранит великое, и оно сотни и тысячи лет волнует слушателей и зрителей. У науки путь более прямой: мысли каждого исследователя, добытые им факты — это кусочек пройденного пути.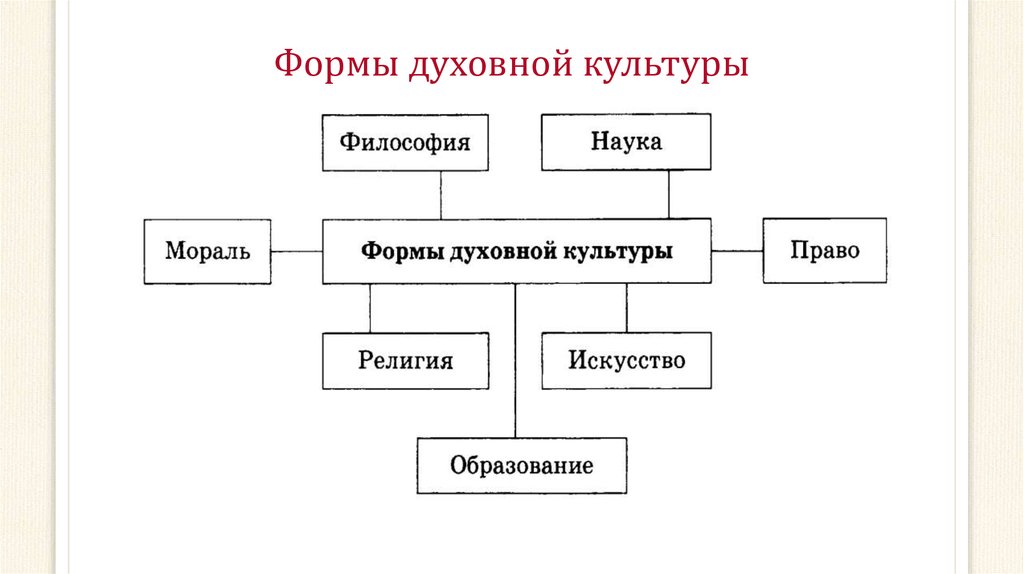 Нет дороги без этого метра асфальта, но он пройден, дорога идет дальше, отсюда так мал срок жизни научного произведения, что-то около 30-50 лет. Такова судьба книг и работ гениальных физиков Ньютона, Максвелла, и даже совсем близкого к нам Эйнштейна. И знакомится с работами гениев ученые советуют по изложениям современников, так как время обтесывает гениальное открытие, придает ему новую форму, даже меняет черты. В этом надо искать источник психологических различий научного и художественного творчества.
Нет дороги без этого метра асфальта, но он пройден, дорога идет дальше, отсюда так мал срок жизни научного произведения, что-то около 30-50 лет. Такова судьба книг и работ гениальных физиков Ньютона, Максвелла, и даже совсем близкого к нам Эйнштейна. И знакомится с работами гениев ученые советуют по изложениям современников, так как время обтесывает гениальное открытие, придает ему новую форму, даже меняет черты. В этом надо искать источник психологических различий научного и художественного творчества.
Но ученый видит и одну область, где наука и искусство перекрещиваются. Это то, чего не было в прошлом, что появилось в последние десятилетия. Область эта — правила поведения человека. В прошлом веке носителем моральных ценностей являлость только искусство. В нашем веке наука разделяет с искусством, это время. Современные взгляды на устройство Вселенной, и природу самого человека ставят жесткие выводы об ответственности людей за все живое на земле. Искусство тоже приводит к таким же заключениям, но в нем речь идет не столько о доказательстве, сколько об эмоциональном показе.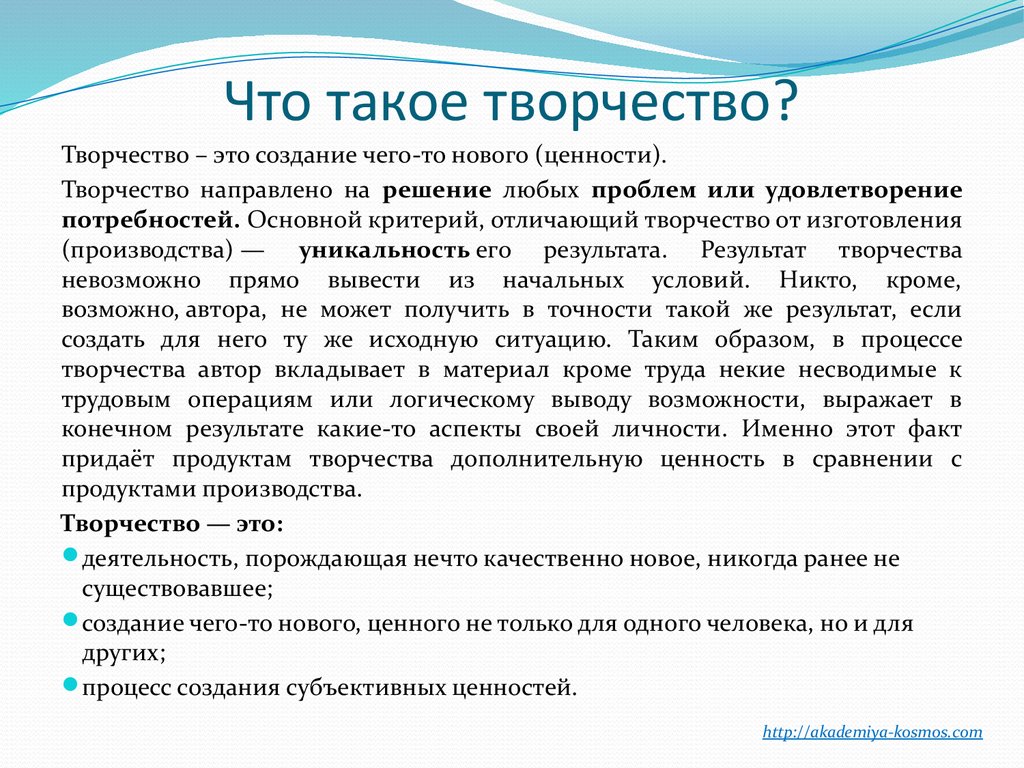 И в том, что искусство может заставить нас прожить тысячи чужих жизней, ученый видит самую замечательную и уникальную особенность искусства. Это не значит, что искусство — область только человеческих эмоций, автор не может согласится с мнением что рационализм объединяет и сушит человека. Физик не видит соперничества между искусством и наукой, цель у них одна и та же — сделать людей счастливыми.
И в том, что искусство может заставить нас прожить тысячи чужих жизней, ученый видит самую замечательную и уникальную особенность искусства. Это не значит, что искусство — область только человеческих эмоций, автор не может согласится с мнением что рационализм объединяет и сушит человека. Физик не видит соперничества между искусством и наукой, цель у них одна и та же — сделать людей счастливыми.
Чем же объясняется падение престижа искусства и опасность превращения его в украшателя жизни? Послушаем. У искусства много веков имевшего только одного соперника в борьбе за человека — религию, теперь появился новый соперник, незаметно выросший и представший, как по меньшей мере равный, перед изумленным взором художников, привыкших взирать на науку высокомерно и с пренебрежением. Теперь литература и искусство могут выполнить свое высокое назначение только тогда; когда они предвзято осмыслят, поймут необозримый духовный мир науки, если будут ориентироваться на то же высокий уровень, который молодежь ищет и так часто находит в науке. Главный пафос статьи и направлен к радикальному изменению отношения со стороны искусства к огромному, полному исканий и подвигов миру людей науки, к их творчеству, к их мыслям, страстям, страданиям и радостям.
Главный пафос статьи и направлен к радикальному изменению отношения со стороны искусства к огромному, полному исканий и подвигов миру людей науки, к их творчеству, к их мыслям, страстям, страданиям и радостям.
Нужна помощь в написании эссе?
Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Наша система гарантирует сдачу работы к сроку без плагиата. Правки вносим бесплатно.
Подробнее
В прошлом столетии, когда наука, а вселед за ней и техника занимались более или менее общедоступными вещами, писатели, художники вполне могли подбрасывать ученым плодотворные идеи. Теперь же фронт исследований, во всяком случае в наиболее развитых науках, углубился в такие дебри, что делать это трудновато. Правда, что непосредственное подбрасывание идей, наиболее простая форма влияния на науку. Если мы хотим понять действительные возможности искусства в этом плане мы должны более глубоко изучить этот вопрос.
Воздействие научно-технической революции на все сферы нашей жизни никто не может отрицать — настолько это очевидно. Но как не парадоксально, а воздействие современной и не только современной науки и техники на художественное творчество многие годы дискутируется в специальной массовой печати. В ходе обсуждения высказываются и плодотворные и противоречивые, а часто и прямо противоположные точки зрения. Они весьма поучительны. Научно-техническая революция является вторжением будущего в настоящее, ставящее практической необходимостью сегодняшнюю организацию завтрашнего дня, причем в масштабах всего мира. Речь здесь идет о небывалом развитии науки и техники, средств коммуникаций, информации, росте населения земли. Количество и уровни всех факторов достигло таких величин, не может существовать в прежнем качестве, в прежних условиях. И суть здесь не в эволюции а в спонтанном развитии, дело не только в отношениях между людьми разных социальных классов и разных стран, но и в отношениях между всеми людьми со всем миром, одушевленным и неодушевленным, существующим от природы и созданным людьми за время их существования.
Но как не парадоксально, а воздействие современной и не только современной науки и техники на художественное творчество многие годы дискутируется в специальной массовой печати. В ходе обсуждения высказываются и плодотворные и противоречивые, а часто и прямо противоположные точки зрения. Они весьма поучительны. Научно-техническая революция является вторжением будущего в настоящее, ставящее практической необходимостью сегодняшнюю организацию завтрашнего дня, причем в масштабах всего мира. Речь здесь идет о небывалом развитии науки и техники, средств коммуникаций, информации, росте населения земли. Количество и уровни всех факторов достигло таких величин, не может существовать в прежнем качестве, в прежних условиях. И суть здесь не в эволюции а в спонтанном развитии, дело не только в отношениях между людьми разных социальных классов и разных стран, но и в отношениях между всеми людьми со всем миром, одушевленным и неодушевленным, существующим от природы и созданным людьми за время их существования.
В прошлом литература не очень-то отставала от явлений технического прогресса. А как обстоит дело сегодня? Наше время наука и техника по воздействию на человека, его психологию и мироощущение превосходит его традиционные виды художественного творчества.
Как мы видим, признается глобальное воздействие научно-технической революции на все человечество, кроме художественной литературы — человековедения, хотя, разумеется, верно говорится, что цель ее в образной форме как можно полнее осмысливать и отображать проблемы своего времени.
Научно-техническая революция вторгаясь во все области человеческой жизни, несет нам и множество благ, и ставит перед нами новые непредвиденные сложные проблемы, которые предстоит решать и в национальных масштабах, и во всемирных. Но приписывать всем нам всеобщую растерянность, пугать нас засилием научного рационализма ведущего к опасности, бездушного логизирования, а может быть и эмоционального оскуднения и т.п. можно только из любви к искусству громких слов. Все это понадобилось для того, что бы со всей страстью показать важную роль искусства признанного компенсировать в нашей мыслительной жизни резко возросшее значение абстракции, сохранить человеку научному целостность своего существа, драгоценное соответствие разума и чувства. Конечно же, эта идея компенсации не возвышает, а принижает искусство, его значение в общественной жизни.
Все это понадобилось для того, что бы со всей страстью показать важную роль искусства признанного компенсировать в нашей мыслительной жизни резко возросшее значение абстракции, сохранить человеку научному целостность своего существа, драгоценное соответствие разума и чувства. Конечно же, эта идея компенсации не возвышает, а принижает искусство, его значение в общественной жизни.
В искусстве, как и в науке, самая животворящая традиция — вечные поиски, эксперименты, тяга к анализу и синтезу. Наука учит по новому, гораздо тоньше смотреть не только на строение вещества но и на само искусство. И, наконец, самое главное: средства, назначения науки и искусства различны, но связь между ними есть. Как две параллели они координируются друг с другом и устремляются к будущему, как бы дополняя друг друга, помогая совершенствовать метод художественный и научный. По меткому выражению атомная физика, новая математика, кибернетика, космогония, информатика и интернет нуждается в большей смелости фантазии и мечте. Искусству же нужны знания, глубокая мысль.
Искусству же нужны знания, глубокая мысль.
Станислав Лем в отдаленной грядущей высокой цивилизации тоже предвидит неизбежность возрастания “деиндивидуализирующей роли” технологий и преобладания максимально реалистического типа человека и культуры.
Какое же место отводится в этой технологической цивилизации литературе и искусству? Ответ дается явно неутешительный. В умственном эксперименте допускается появление на свет великого множества художественных талантов равных Шекспиру. Но этот переизбыток гениев искусства обернется для них трагедией. В будущем технологическом обществе даже великие художники станут явлением почти анахроническим, которое можно поощерять и даже уважать, но не без некоторой усмешки.
Нужна помощь в написании эссе?
Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Наша система гарантирует сдачу работы к сроку без плагиата. Правки вносим бесплатно.
Подробнее
Вывод явно парадоксальный. И дело здесь оказывается, прежде всего в количестве денег.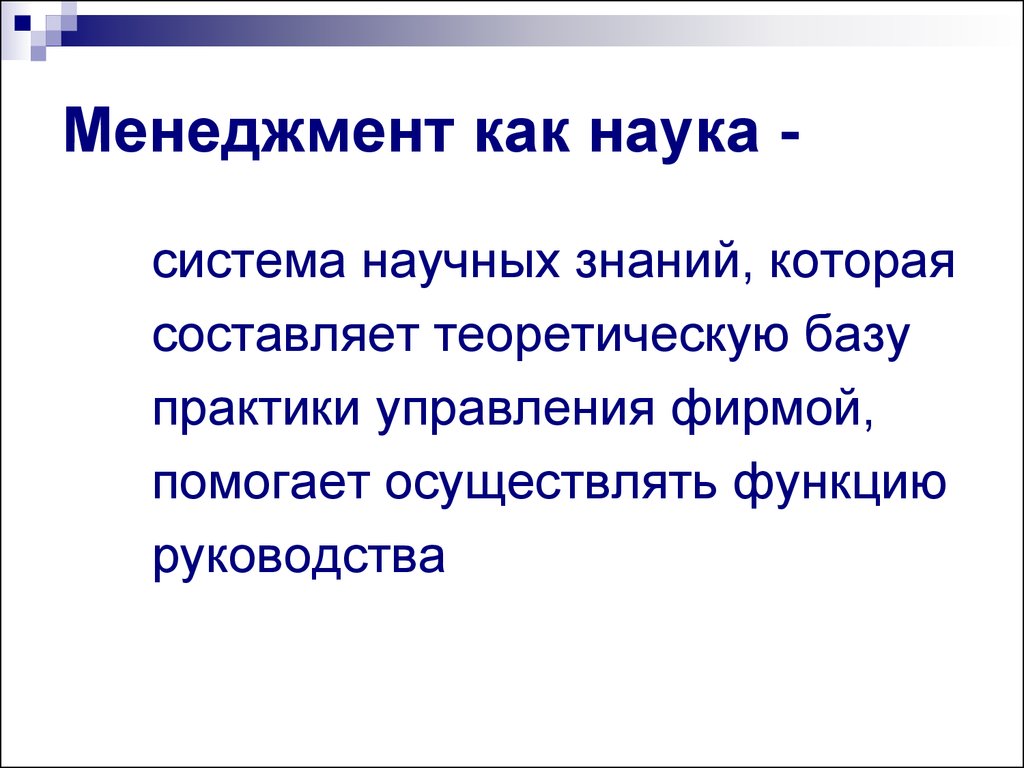 “Один Шекспир”, — пишет Лем, — “явление великолепное, 10 Шекспиров — к тому же еще и не обычное, но там, где живет двадцать тысяч художников с Шекспировским талантом, нет больше не единого Шекспира; ибо одно дело — в пределах маленькой группы творцов соревноваться за передачу воспреемникам своего индивидуального способа видения мира, и совсем другое — давится у входа в систему информационных каналов, что выгляди столь же смешно, сколько жалко”.
“Один Шекспир”, — пишет Лем, — “явление великолепное, 10 Шекспиров — к тому же еще и не обычное, но там, где живет двадцать тысяч художников с Шекспировским талантом, нет больше не единого Шекспира; ибо одно дело — в пределах маленькой группы творцов соревноваться за передачу воспреемникам своего индивидуального способа видения мира, и совсем другое — давится у входа в систему информационных каналов, что выгляди столь же смешно, сколько жалко”.
Такой переизбыток произведений Шекспировского масштаба, такая их лавина приведет к тому, что все будущие средства информации не смогут их освоить и донести до массового потребителя.
Появление двадцати тысяч Шекспиров приведет к обесцениванию художественного творчества.
Главное же заключается в том, что наука в будущем технологическом обществе несомненно раскроет тайны человека, а потому тайны искусства потерпит поражение в своем соперничестве с наукой и в постижении человеческой психологии.
Что же остается тогда искусству? Может быть, оно все-таки сохранит какое-то свое значение в эстетическом освоении мира? Ведь поля деятельности науки и искусства не совпадают, но ведь существование устарелого и поэтому лишь не полного знания одновременно со знанием, постигающим реальное положение вещей невозможно. Очень непривлекательная “рационалистическая”, “деиндивидуализированная”, лишенная всех бесконечных богатств чувственной, эмоциональной человеческой жизни, холодная технологическая цивилизация, которую обещают нашим далеким потомкам.
Очень непривлекательная “рационалистическая”, “деиндивидуализированная”, лишенная всех бесконечных богатств чувственной, эмоциональной человеческой жизни, холодная технологическая цивилизация, которую обещают нашим далеким потомкам.
Что же дала нам многолетняя дискуссия исследователей данной проблемы? Плодотворность ее несомненна. Дискуссия не только со всей остротой поставила одну из самых кардинальных и назревших проблем взаимосвязи и взаимовлияния искусства и науки — двух могущественийших форм человеческого сознания и преобразования действительности, но вычленила сложнейшие проблемы, которые стали затем исследоваться в более обстоятельной форме. Прислушаемся к мудрым словам Гете: “Говорят, что между двумя противоположными мнениями находится Истина. Ни в коем случае! Между ними лежит проблема”.
Таким образом приблизится к Истине — значит исследовать проблему в ее реальном, историческом развитии.
гости Елены Фанайловой о степени взаимных влияний современного искусства и современной науки
Елена Фанайлова: Свобода в клубе «Квартира 44». У нас сегодня необычная тема – «Science-art», или «Наука и искусство». На 11-ой ярмарке интеллектуальной литературы «Non/fictfon» прошла презентация книги «Эволюция и наука в эпоху постбиологии». И о том, что такое «постбиология», о том, как выглядит сегодня наука и искусство, и где точки их соприкосновения, мы будем говорить с художником, куратором и редактором этой книги Дмитрием Булатовым. Он представляет здесь Калининградский филиал Государственного центра современного искусства. За нашим столом — Алексей Семихатов, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Физического института имени Лебедева Российской Академии наук, заведующий отделом критики журнала «Новый мир», математик и литератор Владимир Губайловский, Константин Бохоров, искусствовед, критик, кандидат культурологии, куратор Московской медиа-арт-лаборатории, и его специализация – это такого рода искусство, которое связано с наукой, и заместитель главного редактора «Независимой газеты», ответственный редактор приложения «НГ-Наука» Андрей Ваганов.
У нас сегодня необычная тема – «Science-art», или «Наука и искусство». На 11-ой ярмарке интеллектуальной литературы «Non/fictfon» прошла презентация книги «Эволюция и наука в эпоху постбиологии». И о том, что такое «постбиология», о том, как выглядит сегодня наука и искусство, и где точки их соприкосновения, мы будем говорить с художником, куратором и редактором этой книги Дмитрием Булатовым. Он представляет здесь Калининградский филиал Государственного центра современного искусства. За нашим столом — Алексей Семихатов, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Физического института имени Лебедева Российской Академии наук, заведующий отделом критики журнала «Новый мир», математик и литератор Владимир Губайловский, Константин Бохоров, искусствовед, критик, кандидат культурологии, куратор Московской медиа-арт-лаборатории, и его специализация – это такого рода искусство, которое связано с наукой, и заместитель главного редактора «Независимой газеты», ответственный редактор приложения «НГ-Наука» Андрей Ваганов.
Я бы хотела, чтобы каждый из нас рассказал о каком-то примере вот этого «science-art», а это целое направление, которое уже десятилетие существует в западном искусстве, и на российской почве, я бы сказала, только какие-то несколько лет. Еще не очень, может быть, известно это все широкой публике. И я думаю, что если мы расскажем о том, как это выглядит конкретно, то, может быть, у наших слушателей сложится свое об этом представление. Хотя я понимаю, что довольно сложно говорить о том, как выглядит визуальный объект, но, мне кажется, хотя бы смысл его мы попробуем описать.
Дмитрий Булатов: Для меня понятие «science-art» — это термин с очень высокой, большой нагрузкой. Недаром его очень сложно перевести на русский язык, ибо это не «научное искусство», перевести его как «научное искусство» было бы неправильно. Я его для себя перевожу как «искусство исследования». И когда произносится термин «science-art», я сразу вспоминаю очень мощный проект австралийского художника Стеларка, который мы представляли весной на выставке «Наука как предчувствие» на «Винзаводе». Это художник, который вырастил у себя третье ухо на предплечье…
Это художник, который вырастил у себя третье ухо на предплечье…
Елена Фанайлова: Дима, он не сам все-таки его вырастил, а при помощи хирургов он это сделал.
Дмитрий Булатов: …с помощью хирургов, с помощью ученых. Но для меня этот проект не был бы «science-art» проектом, если бы это все ограничилось обыкновенной трансплантацией или пластикой. Дело в том, что это ухо не может слышать, это ухо работает в режиме передатчика. Он выводит динамики на челюсть, и если кто-то говорит на расстоянии 100 метров с ним, он слышит посредством этого уха голос говорящего у себя в голове. Но шутка начинается тогда, когда Стеларк открывает свой рот, — тогда кто-то может слышать изо рта Стеларка то, что ему говорит человек, находящийся на расстоянии 100 метров. Таким образом, Стеларк осуществляет перефункционализацию, то есть он изменяет функции органов. И вот здесь я вижу тему, на которую также можно говорить, когда художник изменяет функции органов, и делает это без видимой рациональной причины. Таким образом, он осуществляет поиск возможных альтернатив. И вот этот поиск возможных альтернатив уже можно характеризовать как художественный поиск, как исследование.
Таким образом, он осуществляет поиск возможных альтернатив. И вот этот поиск возможных альтернатив уже можно характеризовать как художественный поиск, как исследование.
Елена Фанайлова: Меня тоже этот проект поразил. И я хочу сказать, что это не просто вызов человеческому существованию в биологии, но он еще и какая-то, может быть, дополнительная возможность думать о том, как помогать инвалидизированным людям. Потому что, например, человек, который потерял слух полностью, он страдает тугоухостью в силу какой-то травмы, есть такие безнадежные случаи, возможно, такого рода проект – это какой-то поиск, я не говорю, что это панацея, безусловно, нет, это какой-то поиск направления, в котором продолжение утраченной функции может происходить.
Алексей Семихатов: Мне как раз кажется, что не нужно это воспринимать в практическом плане. В том, что Дима сказал, самое главное, и вы с этим согласились, что это делается без всякой нужды. И в этом искусство, собственно, близко к науке.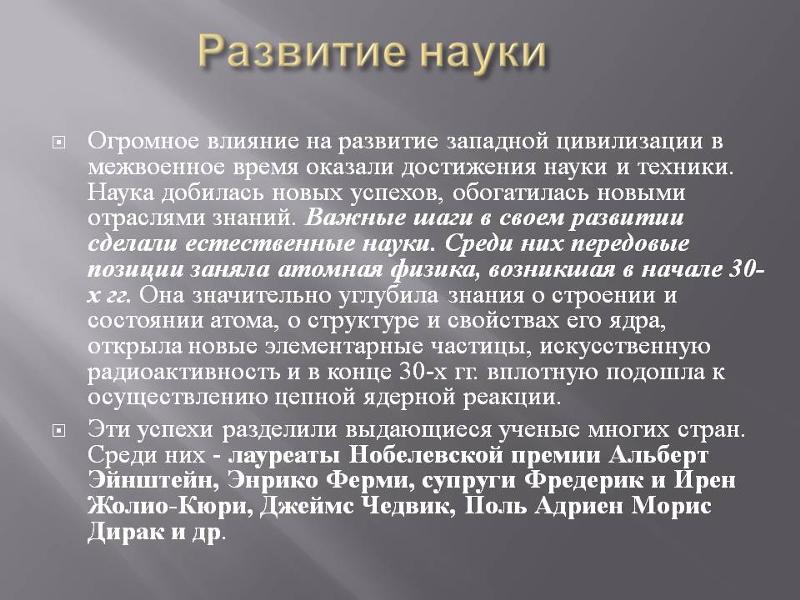 Чистая наука развивается сама по себе, по своим собственным законам, и искусство развивается так же. Плюс в слове «science-art» нет корня, типа «fan» («веселье»), но там, несомненно, есть некая забава и некоторое веселье. Проект выставки весной на «Винзаводе» мне показался веселым – это роботы-«папарацци». Это явление, когда в толпу людей запускают такие штучки, которые ездят между людьми, не сталкиваются друг с другом и стараются, чтобы на них не наступили. У них есть камеры, у них есть какой-то компьютер, и они видят ваши лица, и компьютер умеет понимать, когда вы улыбаетесь. Автор проекта Кен Ринальдо тащится от того, что роботы манипулируют людьми. Почему? Потому что как только вы улыбаетесь, эта штука вас фотографирует и выкладывает ваши фотографии куда-то на сайт. В результате апеллирует к мощному человеческому чувству, как тщеславие. И люди в присутствии этих машинок делаются другими – они начинают улыбаться. Ну, что это? Науки здесь, конечно, не так много. Я не способен судить насчет того, много ли здесь искусства, но то, что вещь обращает на себя внимание и заставляет о себе говорить, и вообще интересна, с моей точки зрения, несомненно.
Чистая наука развивается сама по себе, по своим собственным законам, и искусство развивается так же. Плюс в слове «science-art» нет корня, типа «fan» («веселье»), но там, несомненно, есть некая забава и некоторое веселье. Проект выставки весной на «Винзаводе» мне показался веселым – это роботы-«папарацци». Это явление, когда в толпу людей запускают такие штучки, которые ездят между людьми, не сталкиваются друг с другом и стараются, чтобы на них не наступили. У них есть камеры, у них есть какой-то компьютер, и они видят ваши лица, и компьютер умеет понимать, когда вы улыбаетесь. Автор проекта Кен Ринальдо тащится от того, что роботы манипулируют людьми. Почему? Потому что как только вы улыбаетесь, эта штука вас фотографирует и выкладывает ваши фотографии куда-то на сайт. В результате апеллирует к мощному человеческому чувству, как тщеславие. И люди в присутствии этих машинок делаются другими – они начинают улыбаться. Ну, что это? Науки здесь, конечно, не так много. Я не способен судить насчет того, много ли здесь искусства, но то, что вещь обращает на себя внимание и заставляет о себе говорить, и вообще интересна, с моей точки зрения, несомненно.
Константин Бохоров: Я начну с того, что в России, конечно, почти нет возможности увидеть эти работы, типичные для направления «science-art», это направление только еще вводится сюда. Первая выставка была «Наука как предчувствие», которую Дима организовал на «Винзаводе». И очень трудно описывать эти работы, поскольку мы сами знаем их по описанию. В то время как в научных центрах и на выставочных площадках в европейских странах, в Австралии, насколько я знаю, это очень развито. Я считаю эмблематичной для нашей темы работу Эдуарда Каца, которая называется «Бытие», или «Генезис». Поскольку основным элементом для нее послужила цитата из Библии, где говорится о том, что Господь дал человеку власть над рыбами, птицами и остальными животными. А что делает Эдуард Кац с этим лингвистическим посланием. Он кодирует его в 4-частном коде и на уровне ДНК вводит бактериям. Бактерии начинают размножаться, их размножение уже определяется этим кодом, и он вводит дальше это в живую материю, то есть как бы отсылает эту «фразу» обратно в природу.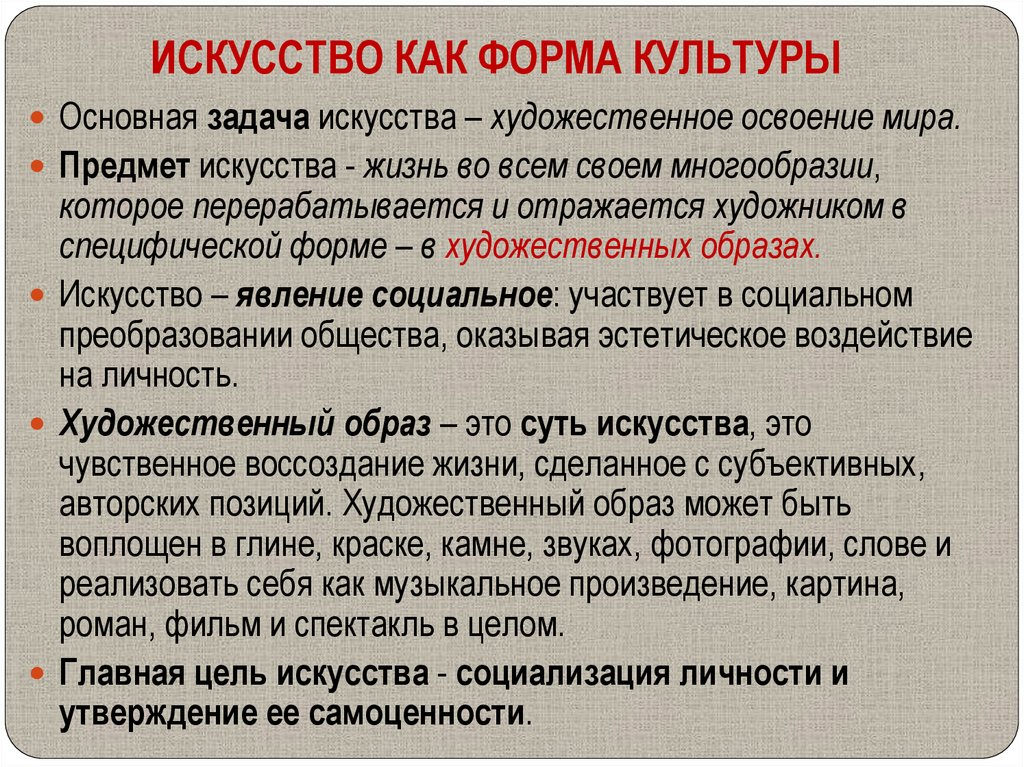 Это одна часть работы. Но к ней существует еще и репрезентационный образ. Когда он ее представляет, он представляет ее в виде, с одной стороны, инсталляции, где представлена культура бактерий с измененным генетическим кодом, с другой стороны, на стену он проецирует точное высказывание из Библии на нескольких языках, и с другой стороны, он делает видеопроекцию, где иллюстрирует этот биологический процесс. Причем видеопроекция уже сделана по законам видеодизайна, и она как бы организует все пространство инсталляционное, в которое попадает зритель. То есть зрителю удается пережить таинство научного искусства, «science-art», на нескольких уровнях и представить его себе и в символическом, и в чисто экспериментальном, лабораторном плане, и в чисто визуальном плане возможностей, которые дают видеопроекции. Я считаю, что это очень эмблематичная работа для «science-art».
Это одна часть работы. Но к ней существует еще и репрезентационный образ. Когда он ее представляет, он представляет ее в виде, с одной стороны, инсталляции, где представлена культура бактерий с измененным генетическим кодом, с другой стороны, на стену он проецирует точное высказывание из Библии на нескольких языках, и с другой стороны, он делает видеопроекцию, где иллюстрирует этот биологический процесс. Причем видеопроекция уже сделана по законам видеодизайна, и она как бы организует все пространство инсталляционное, в которое попадает зритель. То есть зрителю удается пережить таинство научного искусства, «science-art», на нескольких уровнях и представить его себе и в символическом, и в чисто экспериментальном, лабораторном плане, и в чисто визуальном плане возможностей, которые дают видеопроекции. Я считаю, что это очень эмблематичная работа для «science-art».
Елена Фанайлова: А это какая-то красочная видеоинсталляция?
Константин Бохоров: Она очень красочная, да.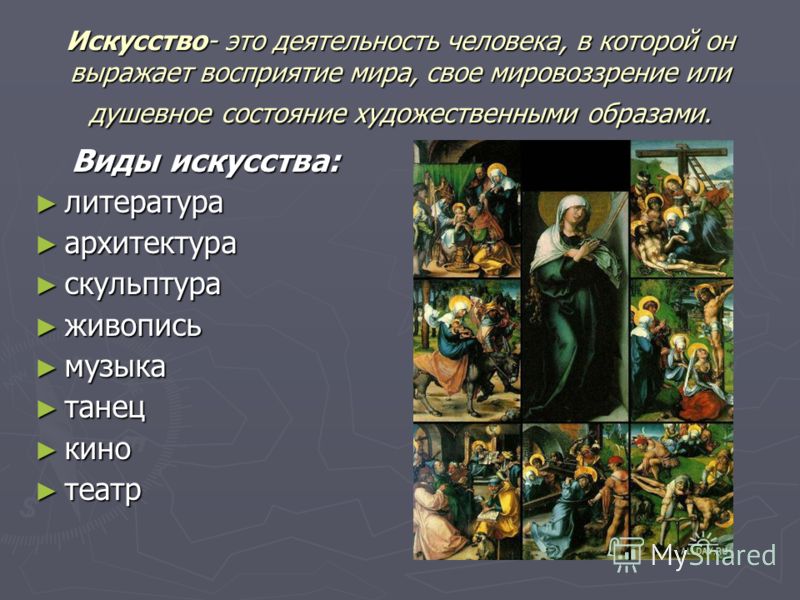 В окончательном исполнении она очень красочная как раз. Это пространство совершенного дизайна с элементами технологических элементов художественных в этом пространстве, и вместе с тем, с элементами научной лаборатории. Зритель переживает и таинство встречи с научной лабораторией, и с другой стороны, на него оказывается воздействие мультимедийными средствами современного искусства. Тут же звучит соответствующее звуковое сопровождение. То есть для зрителя создается некое храмовое пространство, где он может пережить научное таинство.
В окончательном исполнении она очень красочная как раз. Это пространство совершенного дизайна с элементами технологических элементов художественных в этом пространстве, и вместе с тем, с элементами научной лаборатории. Зритель переживает и таинство встречи с научной лабораторией, и с другой стороны, на него оказывается воздействие мультимедийными средствами современного искусства. Тут же звучит соответствующее звуковое сопровождение. То есть для зрителя создается некое храмовое пространство, где он может пережить научное таинство.
Дмитрий Булатов: Речь идет о том, что как раз в этой книге представлены 46 видео-документальных фильмов, рассказывающих о самых выдающихся работах, с моей точки зрения, как куратора проекта. Поэтому мы можем говорить, что зритель может увидеть эти работы и как это все выглядит на DVD-дисках. То есть это и было целью моей работы – принести выставку в каждый дом. Чтобы человек не шел куда-то на выставку, а спокойно сел и мог спокойно посмотреть эти работы дома, поразмыслить над ними.
Андрей Ваганов: Прежде всего, я должен сказать, что я вспоминаю выставку «Наука как предчувствие», и что называется, я подкинулся, что ли, на название само – «Наука как предчувствие». По-моему, с одной стороны, метафорическое, с другой стороны, очень точное по смыслу — определение этой сферы умственной активности человека, что такое наука. В то же время, много очень пластов за этим коротким названием стоит. Я не знаю, кто это придумал, может быть, Дима Булатов придумал, но кто придумал, тот молодец. Меня зацепило само название даже этой выставки. А на самой выставке, вспоминая ретроспективно, никуда не денешься, может быть, это мое извращенное сознание, но, прежде всего, вспоминается мне замечательный, круглый, невысокий загончик, в котором бегают две тележки, снабженные электромоторами и различными датчиками. Я даже не могу сказать, что это антропоморфное, это просто тележки с неким набором деталей. Но одна из этих тележек изображает мужчину, а другая изображает, соответственно, женщину.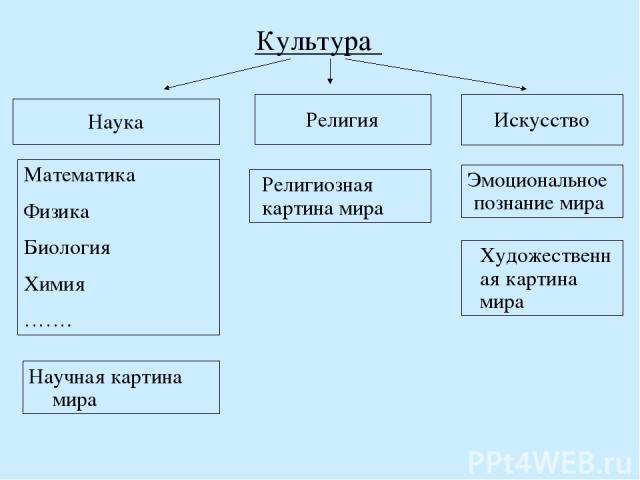 То есть одна фаллоподобная, а вторая вагиноподобная тележки. И с помощью датчиков они бегают-бегают по загончику, находят друг друга в итоге, и происходит по-настоящему… Собственно, весь народ, который стоит вокруг этого загончика и хохочет, воспринимает это как совокупление. Я думаю, все это проецируют на свой какой-то жизненный опыт. Это вызывает смех, улыбки, обсуждение. Люди протягивают руки с указательными пальцами. Это все выглядит забавно. И это запоминается, может быть, как раз своей простотой. Но у меня есть большие сомнения, что «science-art» можно отнести к сфере искусства. И я должен сказать, что уловлено в этой работе Поля Граньона, вот эти совокупляющиеся роботы, собственно, об этом еще, по-моему, Зигмунд Фрейд больше 100 лет назад сказал, что человечество всегда смеется над тремя вещами: сексом, отправлениями прямой кишки и над своим правительством. И для меня это представление о «science-art» современном некое.
То есть одна фаллоподобная, а вторая вагиноподобная тележки. И с помощью датчиков они бегают-бегают по загончику, находят друг друга в итоге, и происходит по-настоящему… Собственно, весь народ, который стоит вокруг этого загончика и хохочет, воспринимает это как совокупление. Я думаю, все это проецируют на свой какой-то жизненный опыт. Это вызывает смех, улыбки, обсуждение. Люди протягивают руки с указательными пальцами. Это все выглядит забавно. И это запоминается, может быть, как раз своей простотой. Но у меня есть большие сомнения, что «science-art» можно отнести к сфере искусства. И я должен сказать, что уловлено в этой работе Поля Граньона, вот эти совокупляющиеся роботы, собственно, об этом еще, по-моему, Зигмунд Фрейд больше 100 лет назад сказал, что человечество всегда смеется над тремя вещами: сексом, отправлениями прямой кишки и над своим правительством. И для меня это представление о «science-art» современном некое.
Елена Фанайлова: Я думаю, что это одно из направлений «science-art». Меня как раз, как и Андрея Ваганова, увлекает человеческая проекция. Потому что мне понравился робот Пако. Это проект Карлоса Корпы и Анны Гарсия. Автоматический уличный онлайн-поэт. Он наделен всеми худшими чертами богемного персонажа. Он клянчит деньги, он пристает к прохожим, в то же время он выдает тонны каких-то стихотворений. И в голове у него, насколько я понимаю, каша из испанских и английских слов, и это отчасти какие-то автоматические стихи.
Меня как раз, как и Андрея Ваганова, увлекает человеческая проекция. Потому что мне понравился робот Пако. Это проект Карлоса Корпы и Анны Гарсия. Автоматический уличный онлайн-поэт. Он наделен всеми худшими чертами богемного персонажа. Он клянчит деньги, он пристает к прохожим, в то же время он выдает тонны каких-то стихотворений. И в голове у него, насколько я понимаю, каша из испанских и английских слов, и это отчасти какие-то автоматические стихи.
Алексей Семихатов: Я хотел бы сказать, что в том, о чем говорил Андрей, есть еще замечательный и дополнительный фрейдистский элемент: над этой замечательной спаривающейся парой присутствует третий, совершенно фрустрированный робот, который не может принять участие в этой веселье, и он мечется внутри загородки, — и вызывает, я думаю, не меньшее количество внимания со стороны публики. И как Андрей сказал, если публика проецирует это на свой собственный жизненный опыт, значит, этот фрустрированный робот совершенно несчастный, он исключен из этого веселья.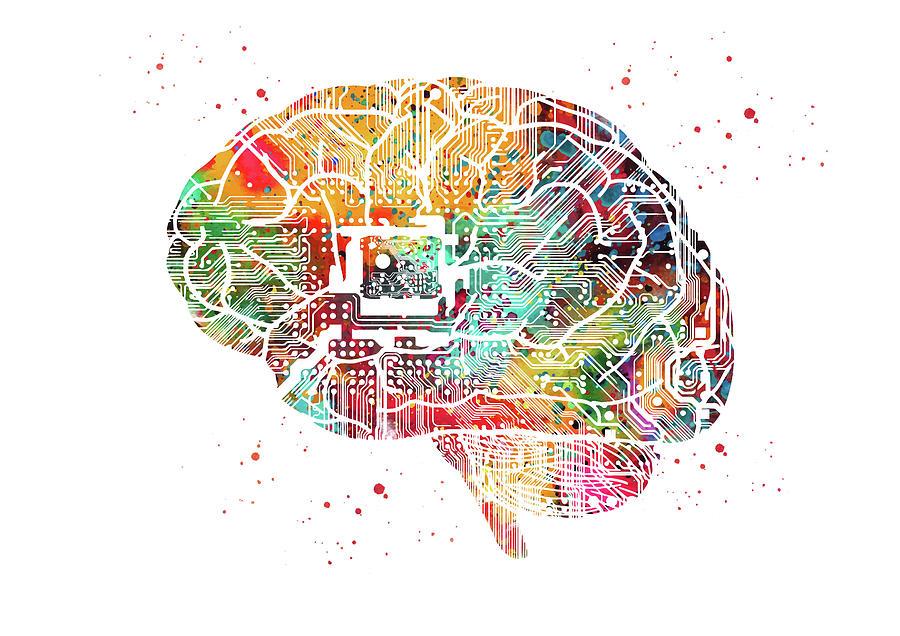
А еще я хотел бы продолжить мысль Андрея в том плане, что Андрей сказал, что это нельзя отнести к искусству, по его мнению, возможно, нельзя, ну, к науке, разумеется, это тоже нельзя отнести. Что, видимо, и делает «science-art» уникальной вещью, существующей сама по себе.
Владимир Губайловский: Я бы хотел вернуться немножко в прошлое. То есть первый, пожалуй, проект, который я бы назвал принадлежащим к «science-art», на самом деле, это фрактальная геометрия, придуманная в свое время Бенуа Мандельбротом.
Елена Фанайлова: Володя, давайте мы поясним для публики, что это такое, и почему вы считаете, что это объект «science-art».
Владимир Губайловский: Книга Мандельброта «Фрактальная геометрия природы» вышла во второй половине 80-ых годов. И появилась она довольно неожиданно. То есть Бенуа занимался тем, что он исследовал некое множество, будучи математиком и лингвистом, которое он увидел только тогда, когда начал его выводить на бумагу и показывать на дисплее.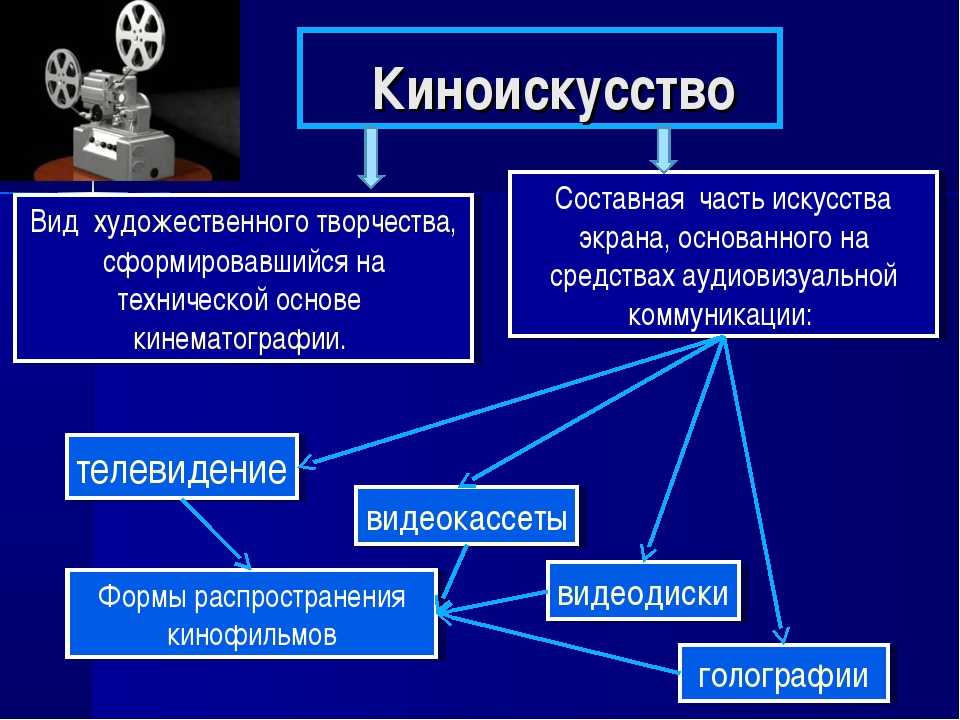 До этого он его не различал. А дальше началась очень интересная жизнь у фрактальной геометрии. Там появились программы, которые умеют рисовать совершенно удивительные объекты, потом их научились раскрашивать. И это объекты с так называемой дробной размерностью. То есть это не одномерные и не двумерные объекты. Когда их раскрасили, оказалось, что это необыкновенно красиво. И я бы сказал, если уж мы говорим о «science-art», то здесь искусство, то есть визуализация некоторого объекта, она привела к открытию целого научного направления. И мало того, оказалось, что науки там не так много, но она там есть. Удалось открыть знаменитое «множество Мандельброта». И мне вспоминается замечательная книжка «Красота фрактального мира» — это просто альбом художественный, где фракталы, очень странные объекты, и я боюсь, что описать их довольно трудно, — это бесконечно изломанные линии, бесконечно изломанные площади, но они необыкновенно красивы.
До этого он его не различал. А дальше началась очень интересная жизнь у фрактальной геометрии. Там появились программы, которые умеют рисовать совершенно удивительные объекты, потом их научились раскрашивать. И это объекты с так называемой дробной размерностью. То есть это не одномерные и не двумерные объекты. Когда их раскрасили, оказалось, что это необыкновенно красиво. И я бы сказал, если уж мы говорим о «science-art», то здесь искусство, то есть визуализация некоторого объекта, она привела к открытию целого научного направления. И мало того, оказалось, что науки там не так много, но она там есть. Удалось открыть знаменитое «множество Мандельброта». И мне вспоминается замечательная книжка «Красота фрактального мира» — это просто альбом художественный, где фракталы, очень странные объекты, и я боюсь, что описать их довольно трудно, — это бесконечно изломанные линии, бесконечно изломанные площади, но они необыкновенно красивы.
Елена Фанайлова: И я здесь, как доктор по первому образованию, не могу не добавить, что, конечно, мне приходят на ум и пространственные модели ДНК, и вся та красота невидимого мира, которая открылась человечеству, когда был изобретен микроскоп, и как красиво выглядят гистологические срезы (если кто понимает).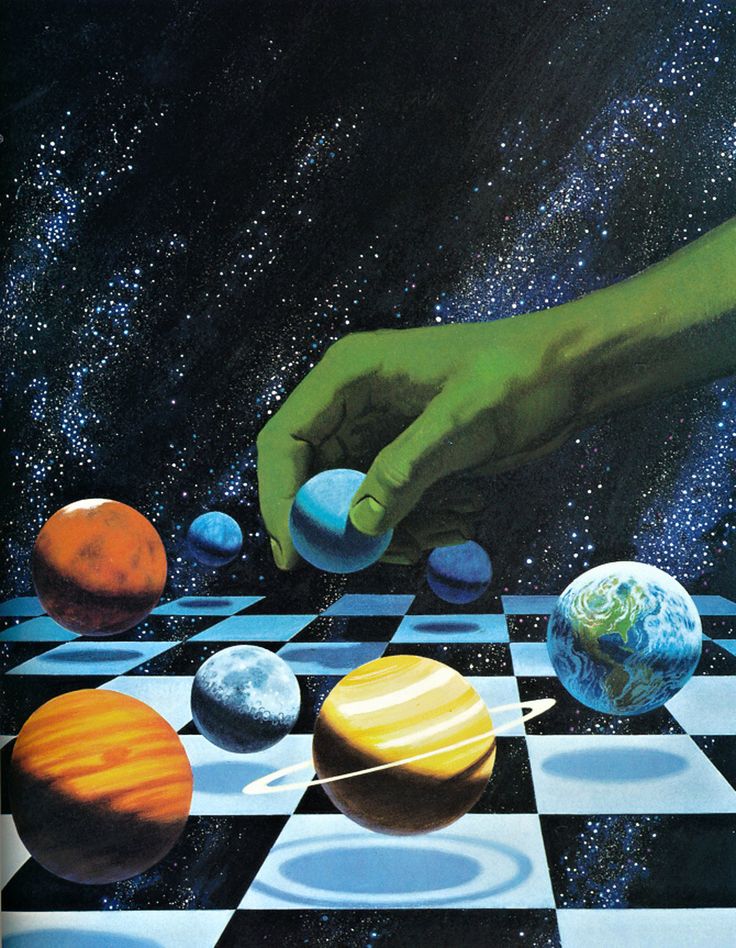 В общем, простор большой для разговора.
В общем, простор большой для разговора.
Дмитрий Булатов: Я бы сразу заметил, что представители, по меньшей мере, искусства, кто здесь сидит за столом, сразу потянули руки. По поводу фракталов я бы хотел заметить следующее. Все-таки «science-art» — это ответвление современного искусства, представители которого используют высокие технологии, концептуальные основания и научно-исследовательские методики при производстве своих произведений. И в этом отношении, безусловно, фракталы очень красивы. Но здесь сразу поднимается вопрос по поводу красоты в современном искусстве. И я бы говорил, что это имеют отношение к искусству фракталы, но к современному искусству это не имеет, с моей точки зрения, никакого отношения. Поскольку вопросы визуализации, поднимаемые современным искусством, — это обманка. Ведь ученые, в первую очередь, заинтересованы в художниках с просьбой: «Визуализируйте научные процессы». Но необходимо понимать, что современное искусство не должно идти на эту обманку. Это собственное и, в общем, независимое направление, в котором художники занимаются своими изысканиями, и они не обязаны работать в качестве дизайнеров для представителей науки.
Это собственное и, в общем, независимое направление, в котором художники занимаются своими изысканиями, и они не обязаны работать в качестве дизайнеров для представителей науки.
Владимир Губайловский: Я бы хотел сказать вот о какой вещи. Дело в том, что фрактальная геометрия, несмотря на всю свою простоту, она дала художникам повод для реализации их идей. То есть был такой сайт (я думаю, что он и сейчас существует) «Fraktal Explorer», где каждый человек может написать некий фрагмент текста (как правило, на Паскале), который встраивается в программу — и порождает тот фрактал, который человек запрограммировал. В принципе, там огромный простор для художественного поиска.
Елена Фанайлова: Как раз мы подошли к тому моменту, который меня дико интересует. Если очень грубо сказать, то меня интересует, кто кому служит — искусство науке или наука искусству – на пространстве «science-art».
Алексей Семихатов: Я хотел бы вернуться к словам Димы, только что сказанным, о том, что художник не должен быть чисто визуализатором и чисто дизайнером для науки. Действительно, если считать, что «science-art» — это какой-то шаг со стороны искусства в направлении науки, только в направлении, только маленький шаг, то разумно спросить: есть ли в науке шаги в направлении искусства? Есть глубокая проблема – это внутренняя, скрытая красота, которая присутствует в науке. Проблема состоит в том, что эту красоту математической формулой, например, трудно увидеть, не будучи специалистом. Тем не менее, красота была движущим мотивом часто, например, в написании таких вещей, как уравнение Дирака, фундаментального понятия, фундаментальной сущности в современной теоретической физике.
Действительно, если считать, что «science-art» — это какой-то шаг со стороны искусства в направлении науки, только в направлении, только маленький шаг, то разумно спросить: есть ли в науке шаги в направлении искусства? Есть глубокая проблема – это внутренняя, скрытая красота, которая присутствует в науке. Проблема состоит в том, что эту красоту математической формулой, например, трудно увидеть, не будучи специалистом. Тем не менее, красота была движущим мотивом часто, например, в написании таких вещей, как уравнение Дирака, фундаментального понятия, фундаментальной сущности в современной теоретической физике.
А какие шаги от науки к искусству… Ну, это, как Владимир сказал, визуализация. Но когда вы рассчитали на компьютере замечательно красивую картинку в соответствии со всеми современными уравнениями общей теории относительности и современными понятиями о том, что там происходит, рассчитали картинку падения материи на «черную дыру», и показываете эту картинку представителю искусства, он говорит: «Слушай, у тебя классно получается! Но почему у тебя, чем ближе туда, она делается все более белой и все более яркой? Сделай ее более красной – будет больше похоже на вагину, будет гораздо более сексуальный образ, и будет гораздо доходчивее с точки зрения искусства, с точки зрения восприятия». Я хочу сказать, что я вижу здесь… если не считать внутреннюю, скрытую красоту – это отдельная тема, я вижу очень большое расстояние, разрыв между тем, что делает ученый у себя в лаборатории, пусть даже он смотрит на гистологические срезы, и что по определению направлено на очень немногих, на специалистов, и тем, что делает искусство, которое, по-видимому, по определению должно быть доступно человеку с улицы. Создает ли «science-art» мост над этим разрывом? С моей точки рения, конечно, нет. Но, может быть, когда-нибудь «science-art» сможет несколько сблизить эти две области человеческой деятельности.
Я хочу сказать, что я вижу здесь… если не считать внутреннюю, скрытую красоту – это отдельная тема, я вижу очень большое расстояние, разрыв между тем, что делает ученый у себя в лаборатории, пусть даже он смотрит на гистологические срезы, и что по определению направлено на очень немногих, на специалистов, и тем, что делает искусство, которое, по-видимому, по определению должно быть доступно человеку с улицы. Создает ли «science-art» мост над этим разрывом? С моей точки рения, конечно, нет. Но, может быть, когда-нибудь «science-art» сможет несколько сблизить эти две области человеческой деятельности.
Елена Фанайлова: Я бы хотела, чтобы мы прослушали два противоположных мнения, два подхода к этой проблеме. Первый комментарий – это Марина Аствацатурян, она биолог-генетик и научный обозреватель «Эхо Москвы». Собственно, она была на выставке под названием «Наука как предчувствие», которую курировал Дмитрий Булатов. Выставка в Центре современного искусства «Винзавод» прошла весной, и была первой ласточкой «science-art» на территории России, крупный проект, международный. И вот впечатления Марины и от этой выставки, и вообще от этого направления.
И вот впечатления Марины и от этой выставки, и вообще от этого направления.
Марина Аствацатурян: Вот у меня как раз встречный вопрос. Они пытаются использовать эти средства или же, как заявляли, по-моему, организаторы, наоборот, они пытались облегчить понимание научных вещей? Это очень важный, ключевой вопрос. Готовясь посетить эту выставку, я представляла себе, что может быть, и в голове вертелась концепция – это известная вещь, еще в 60-ые годы у нас было опубликовано – Чарльза Перси Сноу, английского писателя и физика. Есть маленькая брошюрка, которая называется «Две культуры». Одна, условно говоря, гуманитарная, а другая – научная. И по его концепции, они никогда не пересекаются. Им очень трудно найти точки соприкосновения, практически невозможно. И я с этим абсолютно согласна, что эти два мира никогда не найдут общего языка, к сожалению, может быть. В связи с этим тогда встает вопрос: кто кого обслуживает? Наука своей генной инженерией, биотехнологией дает инструментарий художнику или, наоборот, искусство пытается помочь обывателю понять, что происходит в мире науки? Потому что просто сплестись в экстазе им не удастся.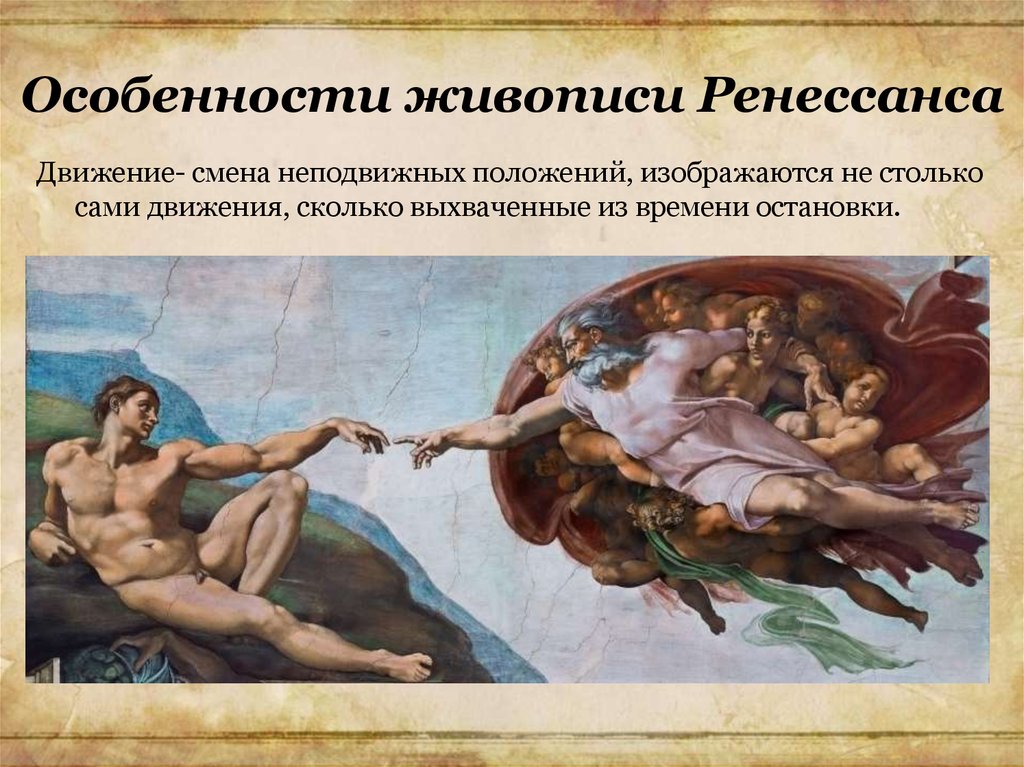 Если рассуждать во взаимном обслуживании, то если это искусство хочет показать, что такое наука, то это явно не получилось. Потому что мы знаем не понаслышке и генную инженерию, и биоинженерию. И то, что было показано на стендах, все выглядит не так на самом деле. Какие-то пришитые органы, какие-то переползающие куда-то клетки – это все не так. Значит, это уже неадекватно. Если это делается для привлечения внимания, ну, привлечь внимание неэстетичными способами, как мне кажется, невозможно. Таким образом, я не вижу смысла в попытках такого слияния. При чем здесь наука? Наука здесь вообще не при чем, и науке это не поможет. А молодежь, может быть, даже оттолкнет.
Если рассуждать во взаимном обслуживании, то если это искусство хочет показать, что такое наука, то это явно не получилось. Потому что мы знаем не понаслышке и генную инженерию, и биоинженерию. И то, что было показано на стендах, все выглядит не так на самом деле. Какие-то пришитые органы, какие-то переползающие куда-то клетки – это все не так. Значит, это уже неадекватно. Если это делается для привлечения внимания, ну, привлечь внимание неэстетичными способами, как мне кажется, невозможно. Таким образом, я не вижу смысла в попытках такого слияния. При чем здесь наука? Наука здесь вообще не при чем, и науке это не поможет. А молодежь, может быть, даже оттолкнет.
Елена Фанайлова: Но, может быть, это поможет искусству, Марина?
Марина Аствацатурян: А вот это надо посмотреть. Сейчас трудно судить. Потому что как обыватель, я не искусствовед, мне кажется, искусство, спустя, по крайней мере, несколько десятилетий, оценивается адекватно более-менее. Так что про искусство я не знаю. Может быть, спустя какое-то время это и будет искусством. Сегодня, на мой взгляд, это не искусство. Потому что искусство – это что-то такое завораживающее, что трогает какие-то струны. Ну, не трогает. Ходила я по этому «Винзаводу» и совершенно искренне пыталась что-то уловить, получить удовольствие. Не получается.
Так что про искусство я не знаю. Может быть, спустя какое-то время это и будет искусством. Сегодня, на мой взгляд, это не искусство. Потому что искусство – это что-то такое завораживающее, что трогает какие-то струны. Ну, не трогает. Ходила я по этому «Винзаводу» и совершенно искренне пыталась что-то уловить, получить удовольствие. Не получается.
Елена Фанайлова: Марина, почему вы так пессимистичны в основании методологии искусства и науки? Если я вас правильно поняла, они никогда не сольются именно потому, что у них разные методологии. Верно?
Марина Аствацатурян: Нет, не методология. Мировоззрение. Человек искусства видит мир, как мне кажется, не так, как его видит человек науки. Я понимаю, что есть примеры, когда человек из науки становится художником или поэтом, происходит какая-то трансформация. А почему она происходит? Об этом ученые могут сказать, я не думаю, что искусствоведы. В моем представлении, это разные мировоззрения, разные миры даже.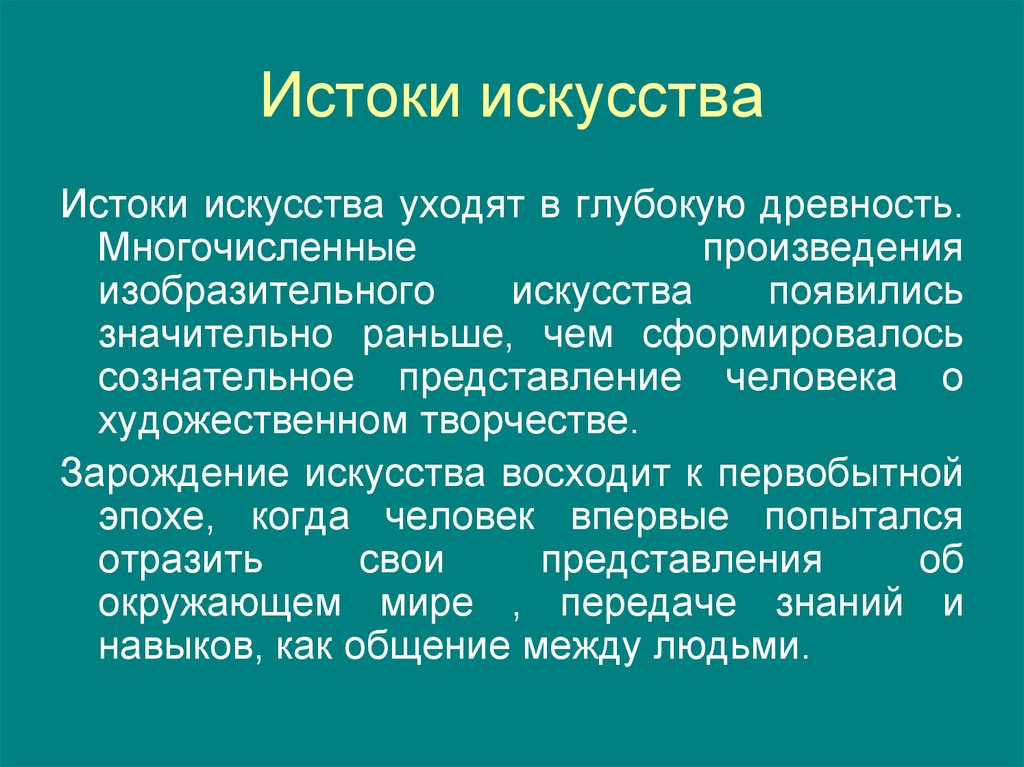 Мне кажется, у них даже мозг по-разному работает. Специальных исследований проводилось очень мало, ну, какие-то отдельные есть – музыканты, математики. Давно были такие работы. Все равно это люди с разным мировоззрением: люди искусства и ученые. Хотя и там, и там присутствует творчество. И там, и там должно быть вдохновение, без него невозможно. Но это разное. Все-таки нет иррационального в науке. Даже когда говорят о предчувствии, интуиции, значит, научная интуиция – это хороший базис знаний, опыта. Интуиция в науке – это, прежде всего, знания. Может быть, это не осознано, но накопленный опыт и накопленные знания приводят к предчувствию какого-то открытия – и оно происходит. Но на голом месте этого не бывает.
Мне кажется, у них даже мозг по-разному работает. Специальных исследований проводилось очень мало, ну, какие-то отдельные есть – музыканты, математики. Давно были такие работы. Все равно это люди с разным мировоззрением: люди искусства и ученые. Хотя и там, и там присутствует творчество. И там, и там должно быть вдохновение, без него невозможно. Но это разное. Все-таки нет иррационального в науке. Даже когда говорят о предчувствии, интуиции, значит, научная интуиция – это хороший базис знаний, опыта. Интуиция в науке – это, прежде всего, знания. Может быть, это не осознано, но накопленный опыт и накопленные знания приводят к предчувствию какого-то открытия – и оно происходит. Но на голом месте этого не бывает.
Елена Фанайлова: Марина достаточно критично относится вообще к самой идее «science-art».
И мы послушаем доктора технических наук Бориса Ивановича Кудрина. Он «отец-основатель» так называемой техноэволюции, то есть направления, которое говорит о том, что человека, эволюционирующего биологически, уже не существует, а существует человек, эволюционирующий вместе с технологиями.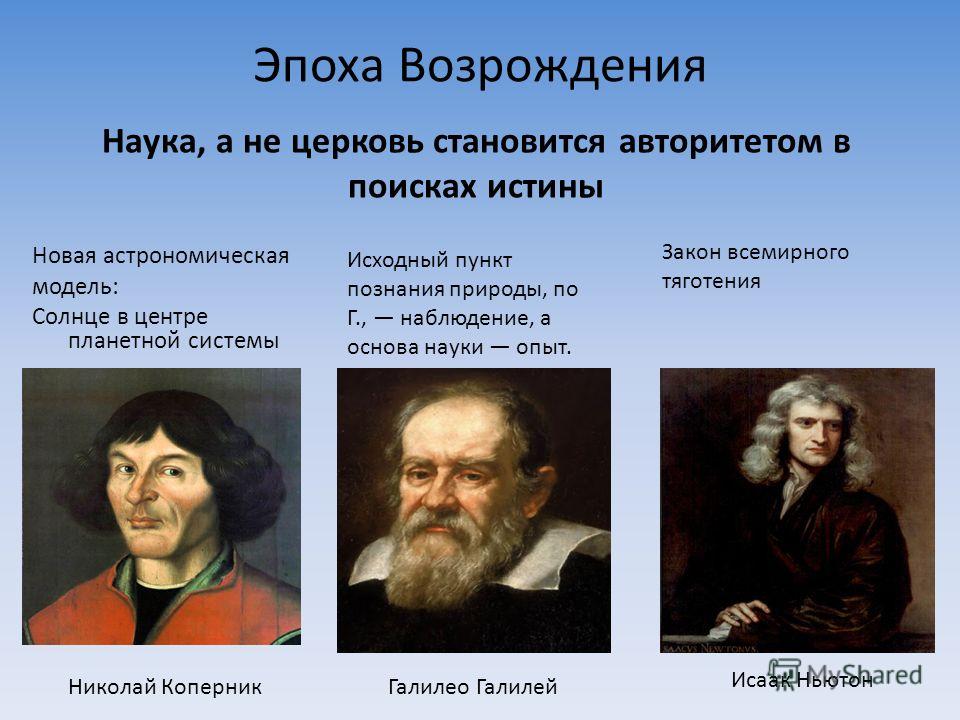
Борис Кудрин: Главное, что существует техноэволюция. Техноэволюция объективна, то есть она от человека не зависит.
Елена Фанайлова: Техноэволюция – это эволюция технического вместе с человеческим?
Борис Кудрин: Да. Но дело в том, что техническое определяет человека сейчас. Вы уже сами ничего не делаете, а все, что вокруг вас, сделано кем-то другим. Человек сам, как личность, уже давно ничего не делает, а живет трудом предыдущих поколений и еще чего-то. Техноэволюция объективна, там есть какой-то вектор. Вектор применительно к человеку конкретно заключается в том, чтобы как можно быстрее и хорошо органику заменить на всякие железяки, чтобы человека можно было чинить в любой момент. Одна сложность – что делать с мозгом, с интеллектом? Вроде бы, очень трудно заменить его. А всякие руки-ноги – это уже сейчас достигнутый этап. Есть одна штука крайне важная. Когда-то Ньютон и Максвелл нарисовали первую картину мира и думали, что все можно сделать строго. В начале прошлого века сказали, что мир вероятностный, и сделать точно нельзя. Даже близнецы друг от друга отличаются. В технике еще больше. Одинаковыми изделия не сделаешь, там всегда есть допуск. Но природа техническая дальше пошла, она стала собирать большие сообщества чего угодно. Вот в вашей квартире куча всяких вещей, и вы думаете, что вы очередную занавеску или стол, или телевизор покупаете? Ничего подобного! Вещи, которые вас окружают, говорят: «Нет, ты купи под цвет обоев. Ты купила такой-то пылесос, хотя по деньгам надо холодильник такой-то». А мы думаем, что мы чего-то собой представляем.
В начале прошлого века сказали, что мир вероятностный, и сделать точно нельзя. Даже близнецы друг от друга отличаются. В технике еще больше. Одинаковыми изделия не сделаешь, там всегда есть допуск. Но природа техническая дальше пошла, она стала собирать большие сообщества чего угодно. Вот в вашей квартире куча всяких вещей, и вы думаете, что вы очередную занавеску или стол, или телевизор покупаете? Ничего подобного! Вещи, которые вас окружают, говорят: «Нет, ты купи под цвет обоев. Ты купила такой-то пылесос, хотя по деньгам надо холодильник такой-то». А мы думаем, что мы чего-то собой представляем.
Елена Фанайлова: Искусство и наука на современном этапе могут помочь друг другу в понимании мира?
Борис Кудрин: Безусловно. Дело в том, что писать одни формулы невозможно. Не зря Эйнштейн на скрипке играл. Искусство, оно же не формализуемое. И как не формализуемая штука оно обогащает того, кто собирается что-то открыть или еще что-то.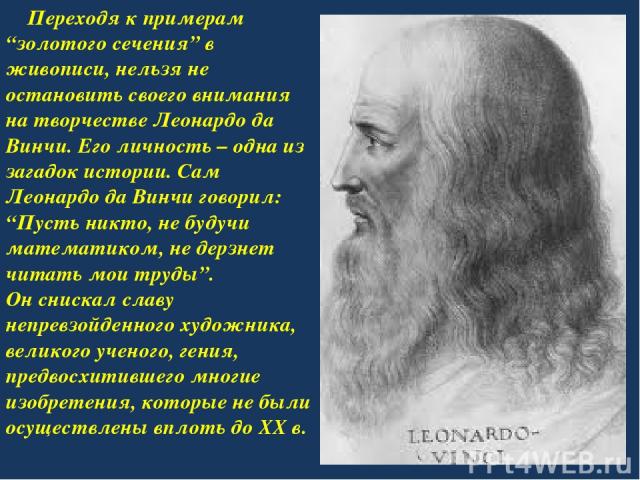 То есть без искусства наука и техника не могут развиваться. Во всех приличных открытиях обязательно каким-то образом присутствовало искусство. Не мешало бы каждому инженеру ходить на хорошие спектакли, потому что это стимулирует его интеллектуальное творчество. Интеллект, вот эта необычность, которая есть в искусстве, заставляет же думать. С нуля вдруг – раз, и появилось новое искусство.
То есть без искусства наука и техника не могут развиваться. Во всех приличных открытиях обязательно каким-то образом присутствовало искусство. Не мешало бы каждому инженеру ходить на хорошие спектакли, потому что это стимулирует его интеллектуальное творчество. Интеллект, вот эта необычность, которая есть в искусстве, заставляет же думать. С нуля вдруг – раз, и появилось новое искусство.
Елена Фанайлова: Борис Иванович, а как вы относитесь к тому, что современное искусство берет какие-то технологии из науки, какие-то элементы из генной инженерии, из биотехнологий, из робототехники и делает эти технологии, эти инструменты предметом искусства? Есть ли, на ваш взгляд, в этом что-то, может быть, не очень корректное? Или вы думаете, что это может быть?
Борис Кудрин: Главное направление развития всего… мы волей-неволей должны эту реальность, которая вокруг нас, менять на техническую. Где вы видели сейчас цветы? В каждой гостинице куча цветов, но редко – живые. То есть мы реальность настоящую начинаем заменять технической реальностью. Это, конечно, печально для людей, которые помнят, что такое природа, но я знаю многих людей, которые и из автомобиля-то с неохотой вылезают.
То есть мы реальность настоящую начинаем заменять технической реальностью. Это, конечно, печально для людей, которые помнят, что такое природа, но я знаю многих людей, которые и из автомобиля-то с неохотой вылезают.
Елена Фанайлова: Вот доктор технических наук Борис Иванович Кудрин, с его представлениями о том, как развивается современное человечество и какое место в этом развитии должно быть отведено союзу науки и искусства.
Мы можем комментировать эти выступления или развивать то, о чем мы говорили. В частности, проблема соотношения искусства и науки на территории «science-art» мне представляется очень важной. Мы уже заговорили о том, кто кому служит. Или, как сказала обозреватель «Эхо Москвы», кто кого обслуживает.
Константин Бохоров: Мне хочется навести некоторый порядок в нашу систематизацию предмета. Борис Иванович, как вы сказали, разрабатывает идею техноэволюции. Но я вспоминаю, что еще в 30-ые годы Вальтер Беньямин к своей статье «Произведение искусства в эпоху его технического воспроизведения» предпосылает эпиграф из Элюара, где Элюар выдвигает те же идеи. Он говорит: «Сейчас появляется техника, и в нашем мире уже не осталось ничего, развитие чего этой техникой не обусловлено». То есть идея эта не нова. И проблема, с которой столкнулось человечество в ХХ веке, восходит еще к эпохе промышленной революции в XIX веке. В принципе, тогда уже выходит проблема взаимоотношений культуры и науки, она становится в центре исследований многих ученых. Ницше об этом пишет. Это тема очень фундированная, на самом деле.
Он говорит: «Сейчас появляется техника, и в нашем мире уже не осталось ничего, развитие чего этой техникой не обусловлено». То есть идея эта не нова. И проблема, с которой столкнулось человечество в ХХ веке, восходит еще к эпохе промышленной революции в XIX веке. В принципе, тогда уже выходит проблема взаимоотношений культуры и науки, она становится в центре исследований многих ученых. Ницше об этом пишет. Это тема очень фундированная, на самом деле.
Но мне хочется точнее определить, о чем мы говорим. Мы говорим о «science-art». Это явление именно современного искусства, что называется «contemporary art» по-английски. Разумеется, уже в «modern art» эта тема была одной из ключевых для развития «modern art» даже.
Елена Фанайлова: Давайте мы поясним, что «modern art» — условно говоря, это искусство начала ХХ века…
Константин Бохоров: Это авангард, это футуризм. И как вы помните, футуризм, идеи Маринетти связаны именно с техногенным обществом, с влиянием техники на культуру с тем, что техника начинает обуславливать культуру. Маринетти все эти идеи претворяет, конечно, в более традиционных медиа – в живописи, в музыке. Но даже в музыке начинает Руссоло использовать различные технические устройства для извлечения шумов. Футуристы ставят балет про робота, например, они занимаются аэроживописью, что, в общем-то, является предтечами «science-art». Там еще нет проникновения, еще нет отказа от традиционных средств выражения. Это все-таки в тех жанрах, которые были распространены в традиционной культуре тогда – театр, живопись, балет.
Маринетти все эти идеи претворяет, конечно, в более традиционных медиа – в живописи, в музыке. Но даже в музыке начинает Руссоло использовать различные технические устройства для извлечения шумов. Футуристы ставят балет про робота, например, они занимаются аэроживописью, что, в общем-то, является предтечами «science-art». Там еще нет проникновения, еще нет отказа от традиционных средств выражения. Это все-таки в тех жанрах, которые были распространены в традиционной культуре тогда – театр, живопись, балет.
Елена Фанайлова: И я бы сказала, что дизайн тоже, который критиковал Дмитрий Булатов.
Константин Бохоров: Дизайн, конечно. Литература, вы помните, там появляется образ сверх-Икара в писаниях Маринетти, появляется футурист Мафарка, человек с измененной биологической природой, и так далее. Причем вы понимаете, что это все опирается тоже на огромную традицию фантастического романа, который возник в XIX веке, и который потом пышным цветом расцвел в формах популярного искусства в ХХ веке.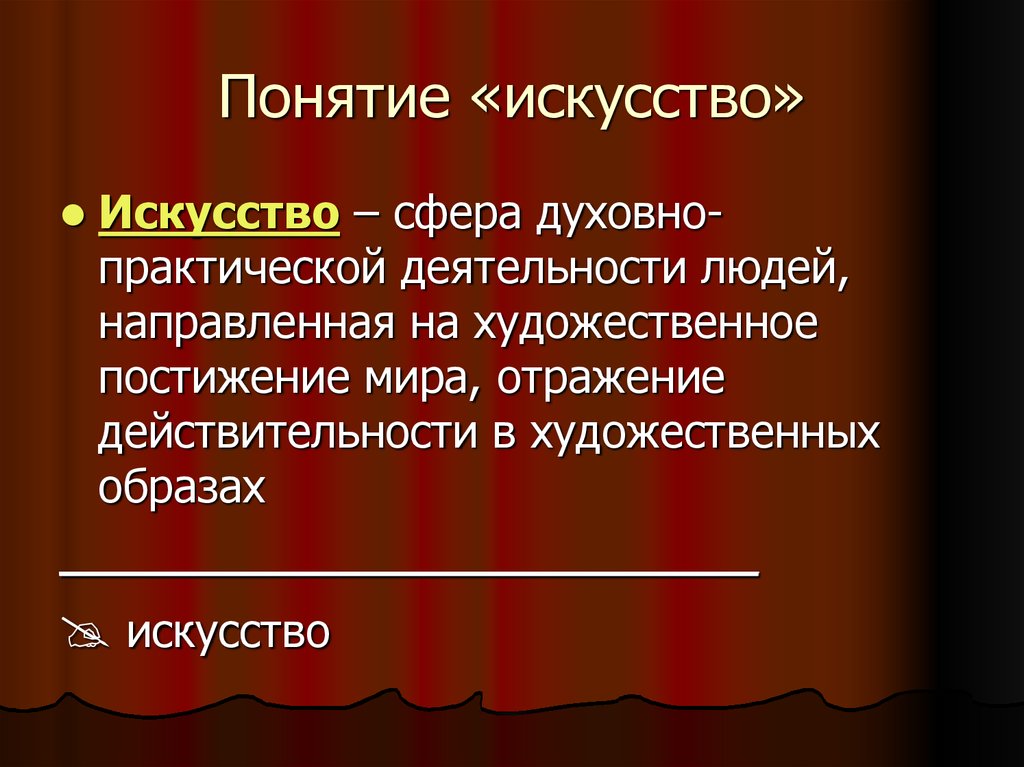 И это тоже еще одна из областей, которая развивается параллельно «science-art». И «science-art» выделяется из всей этой проблематики, как нечто другое, поскольку «science-art» начинает экспериментировать напрямую с артефактами науки. Художник берет себе в смысле творческого инструментария именно инструментарий науки.
И это тоже еще одна из областей, которая развивается параллельно «science-art». И «science-art» выделяется из всей этой проблематики, как нечто другое, поскольку «science-art» начинает экспериментировать напрямую с артефактами науки. Художник берет себе в смысле творческого инструментария именно инструментарий науки.
Елена Фанайлова: Мне во время вашего рассказа на память пришло чудовище Франкенштейн Мэри Шелли.
Константин Бохоров: Это тот образ, с которого и начинается «science-art».
Елена Фанайлова: Не является ли все это (я выступлю в роли критика ужасного), весь «science-art» вот таким Франкенштейном? То есть проекцией желания человека при помощи технических средств обрести какое-то могущество, какие-то новые качества тела. И если очень грубо ставить вопрос, не является ли все это профанацией?
Константин Бохоров: Это фундировано очень глубокими мировоззренческими и философскими концепциями именно ХХ века. И кроме Франкенштейна. В книге Дмитрия Булатова рассматривается такая тема, как химеры, химеризация. Это тоже уже существует в фантазии. Она дальше развивается, превращается в Франкенштейна и так далее. Это очень глубокая, лежащая в подсознании тема, которую вытаскивает «science-art».
И кроме Франкенштейна. В книге Дмитрия Булатова рассматривается такая тема, как химеры, химеризация. Это тоже уже существует в фантазии. Она дальше развивается, превращается в Франкенштейна и так далее. Это очень глубокая, лежащая в подсознании тема, которую вытаскивает «science-art».
Дмитрий Булатов: Я бы хотел чуть-чуть сфокусировать вот то отличие «science-art» от футуризма и направлений начала ХХ века в том, что «science-art» используют в качестве средства для своего выражения новейшие научно-технологические методики, как робототехника, био- и генная инженерия, инженерия тканей, стволовых клеток и так далее. И в этом отношении от науки «science-art» также отличается, поскольку «science-art» не столько поддерживает технологические версии современности, сколько очерчивает границы их применимости. И таким образом, он не обслуживает науку впрямую, он дает дополнительный диапазон тех версий реальности, которые отличаются от возможного будущего. И здесь «science-art» не принадлежит полностью ни искусству, ни науке.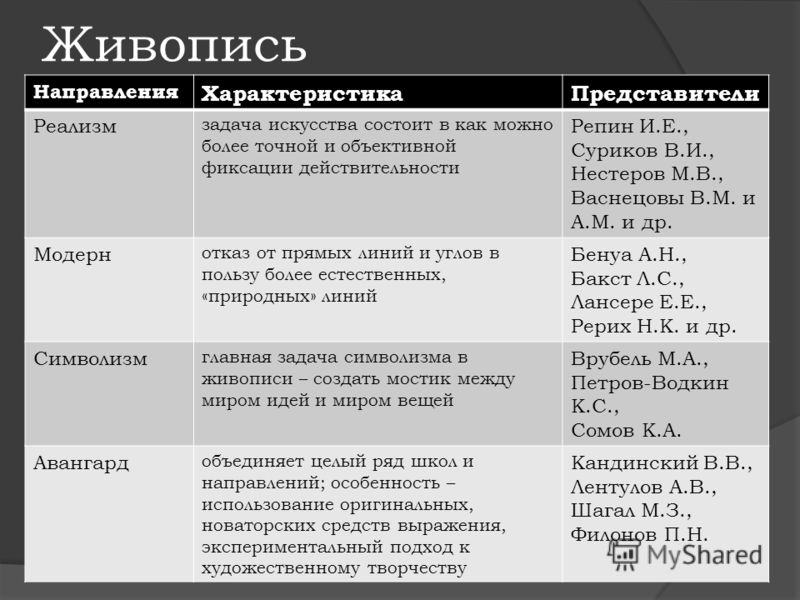 Это третье образование, как раз та невозможная вещь, о которой говорила в столь пессимистичных тонах Марина, это попытка все-таки найти те области пересечения… Ведь известно, что самые интересные новинки, новации и области проблематизации возникают на пересечении в междисциплинарных областях. И в этом отношении, кстати, очень много примеров, когда ученые не просто пошли живописью заниматься, а которые представляют свои собственные наработки в качестве художественных произведений, сами себя ограничивая в сферах применимости. Это очень важное отличие от науки и от искусства, это третье образование.
Это третье образование, как раз та невозможная вещь, о которой говорила в столь пессимистичных тонах Марина, это попытка все-таки найти те области пересечения… Ведь известно, что самые интересные новинки, новации и области проблематизации возникают на пересечении в междисциплинарных областях. И в этом отношении, кстати, очень много примеров, когда ученые не просто пошли живописью заниматься, а которые представляют свои собственные наработки в качестве художественных произведений, сами себя ограничивая в сферах применимости. Это очень важное отличие от науки и от искусства, это третье образование.
Елена Фанайлова: А я вспомнила бы еще и о такой проблеме «science-art», как постановка моральной проблематики о применимости новых технологий, в частности, в том, что касается генной инженерии и биотехнологий.
Алексей Семихатов: Кстати, возвращаясь к двум мнениям, которые мы сейчас услышали. Мнение Кудрина мне комментировать трудно, и там особенно нечего комментировать в том смысле, что, видимо, он несколько отстал от жизни, поскольку не технологическая эволюция сейчас определяет будущее человека, а генно-инженерные эволюции, если хотите. Мы можем жить дольше, мы можем себе органы выращивать, и все можно отдельно обсуждать. Но дело не в том, что плоскогубцы или экскаватор, или домкрат являются усилителем руки, а в том, что мы вмешиваемся на молекулярном уровне, а также в том, что на информационном уровне мы можем обсуждать квантовый компьютер, будущее искусственного интеллекта и так далее. Это мы больше, наверное, не будем обсуждать. То, что сказал Кудрин, мне кажется, особенно комментировать нечего.
Мы можем жить дольше, мы можем себе органы выращивать, и все можно отдельно обсуждать. Но дело не в том, что плоскогубцы или экскаватор, или домкрат являются усилителем руки, а в том, что мы вмешиваемся на молекулярном уровне, а также в том, что на информационном уровне мы можем обсуждать квантовый компьютер, будущее искусственного интеллекта и так далее. Это мы больше, наверное, не будем обсуждать. То, что сказал Кудрин, мне кажется, особенно комментировать нечего.
В том, что сказала Марина Аствацатурян, я услышал много параллельного в словах Константина и Дмитрия, хотя они говорят оптимистично, а Марина говорит пессимистично. Мне кажется, что они говорят одно и то же. Константин выразил это словами «не является ли «science-art» профанацией». «Science-art» является профанацией, если воспринимать его как ответвление науки. Он не является ответвлением науки, это вещь в себе, прекрасно имеющая право на собственное существование. А если хотите, это спекуляция на науке, которая… я слово «спекуляция» употребляю в хорошем смысле, потому что она привлекает внимание общества к тому, что есть два способа постижения реальности – это научный способ и способ через искусство.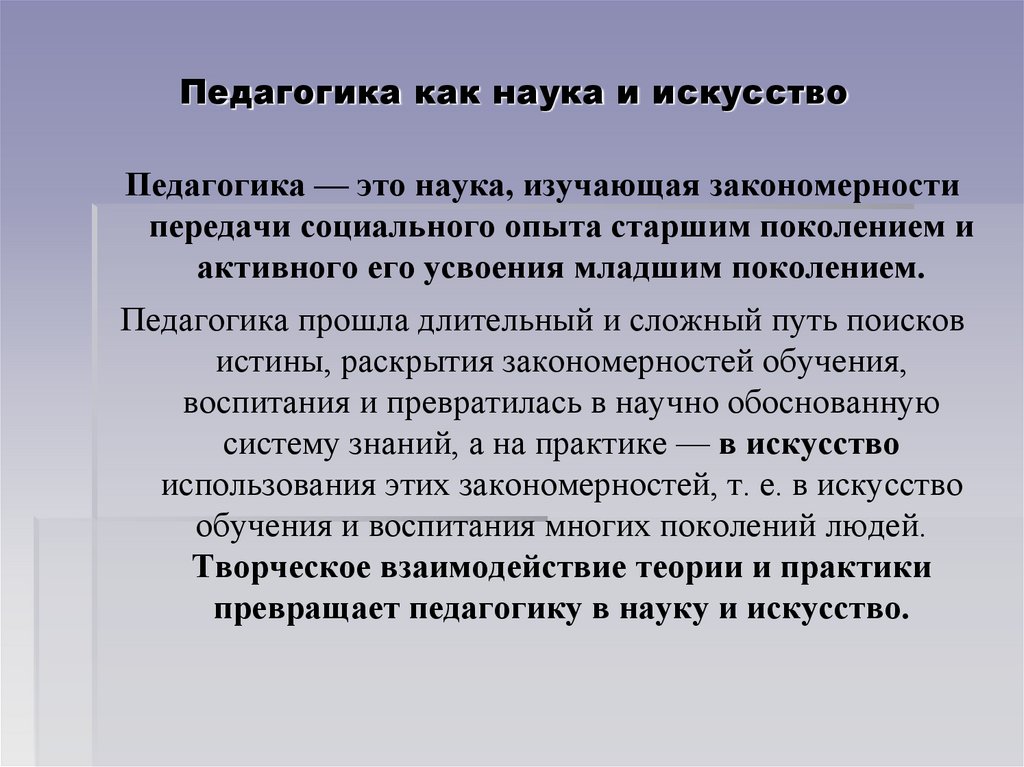 «Science-art» не находится на пересечении того и другого, потому что эти множества пересекаются как-то очень не прямым образом. «Science-art» — это отдельная вещь, если хотите, надстройка над тем и другим, не сводящаяся уж точно к науке. А каково его взаимоотношение с традиционным искусством, здесь уже говорилось.
«Science-art» не находится на пересечении того и другого, потому что эти множества пересекаются как-то очень не прямым образом. «Science-art» — это отдельная вещь, если хотите, надстройка над тем и другим, не сводящаяся уж точно к науке. А каково его взаимоотношение с традиционным искусством, здесь уже говорилось.
Константин Бохоров: По поводу полезности. Мы ведь располагаем в нашем арсенале общения с обществом массой других средств полезности. Есть журналистика, например, есть традиционное искусство. Возьмите голливудские фильмы, которые прекрасно обращают внимание общества на проблемы, которые наука генерирует. Но «science-art» — это особый подход к воздействию на сигнальную систему общества. Дело в том, что он воздействует на сигнальную систему общества методами самой науки. Он как бы является вирусом, который вводится в тело общества, в тело науки, который начинает сигнализировать о проблемах, которые в этом теле существуют. И это очень важный механизм культурной рефлексии нашего общества, который в одних культурах приживается, а в других культурах не приживается. Это очень показательно в связи с деятельностью Дмитрия Булатова. Потому что мы видим, что западные демократические общества прекрасно усвоили «science-art», и там эти прививки от проблем развития прекрасно применяются. У нас же они не применяются. И здесь как бы возникает отторжение. И как раз то, что говорит Марина и Борис Кудрин, мне кажется, это как раз какие-то реакции на возможную вакцинацию от проблем в развитии науки, вообще от проблем в социальном развитии. Это моя первая идея.
Это очень показательно в связи с деятельностью Дмитрия Булатова. Потому что мы видим, что западные демократические общества прекрасно усвоили «science-art», и там эти прививки от проблем развития прекрасно применяются. У нас же они не применяются. И здесь как бы возникает отторжение. И как раз то, что говорит Марина и Борис Кудрин, мне кажется, это как раз какие-то реакции на возможную вакцинацию от проблем в развитии науки, вообще от проблем в социальном развитии. Это моя первая идея.
Во-вторых, мне бы, конечно, хотелось сказать, каким образом это происходит. Почему я привел работу Эдуарда Каца как парадигматическую для «science-art». Поскольку вообще «science-art» оперирует на уровне языка. Когда-то в 60-ые годы у Хайдеггера спросили, что он может сказать про технику в нашем обществе. И он сказал, что про технику он ничего не может сказать, что в общении с техникой нужно занять другую позицию — технику надо вопрошать. И в общем-то, вот эту позицию занимает художник, занимающийся «science-art», по отношению к технике: он вопрошает технику, как новый язык, как некоторую лингвистическую данность, которая связывает нас с реальностью в современном обществе.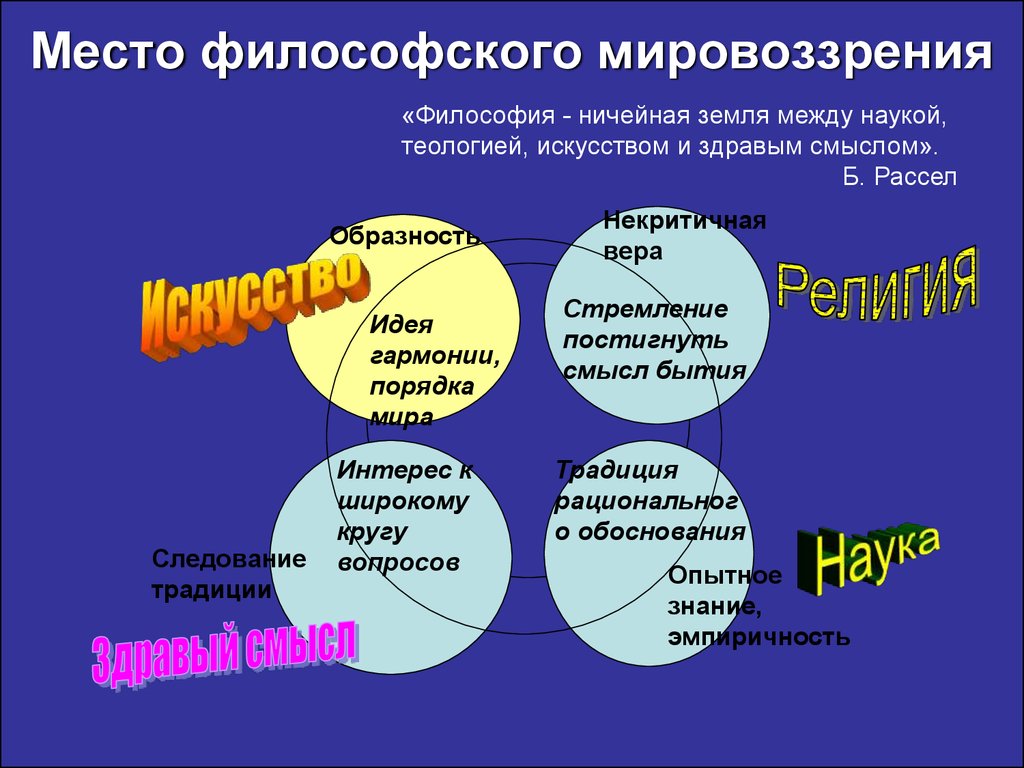 Поэтому он обращается именно к реальным знакам техники, он их мифогенезирует, превращает в чверхчувственные объекты, перед лицом которых ставит зрителя, и таким образом, создает некоторый экзистенциальный конфликт вокруг технических проблем. Это действительно уникальный, абсолютно рефлексивный механизм в современном обществе, однако, доступный только достаточно развитым культурам.
Поэтому он обращается именно к реальным знакам техники, он их мифогенезирует, превращает в чверхчувственные объекты, перед лицом которых ставит зрителя, и таким образом, создает некоторый экзистенциальный конфликт вокруг технических проблем. Это действительно уникальный, абсолютно рефлексивный механизм в современном обществе, однако, доступный только достаточно развитым культурам.
Владимир Губайловский: Согласился бы с Мариной, и вот почему. На мой взгляд, все-таки наука и искусство различаются категорически. И различаются они своим целеполаганием. Вспомните, скажем, работу Канта «Критика способности суждения», где он пытается докопаться до того, что такое искусство. И он считает, что искусство – это то, что обладает внутренним целеполаганием, то есть не имеет внешней цели. Наука обязательно имеет внешнюю цель. Может быть, это цель отложенная, как это бывает в фундаментальных исследованиях, может быть, в прикладных исследованиях это непосредственное воздействие на мир, то есть в технике. Искусство не ставит перед собой внешней цели. Цель искусства – это само искусство, это реализация того проекта, который вот сейчас делает художник. На мой взгляд, это разница принципиальная, и здесь не очень важно, какими именно техниками, то есть каким именно языком пользуется художник. И уж тем более не важно, какими инструментами он пользуется. Совершенно несущественно, пишет он гусиным пером свой текст или он его набирает на компьютере, это уж совсем не имеет никакого отношения. Но, тем не менее, то, что сейчас было сказано о «science-art», как о некой третьей возможности, которая, с одной стороны, провоцирует науку, с другой стороны, ее ограничивает, может быть, это действительно интересно. Мне вспоминаются материалы одной конференции, которая проходила где-то лет 5 назад в Массачусетском технологическом институте. На открытии конференции вышел очень известный генетик и сказал: «Мы уже можем говорить на уровне генома, на уровне генотипа. Теперь вопрос в том, что мы хотим сказать. И может быть, «science-art» — это в определенном смысле поиск ответа: что мы хотим сказать?
Искусство не ставит перед собой внешней цели. Цель искусства – это само искусство, это реализация того проекта, который вот сейчас делает художник. На мой взгляд, это разница принципиальная, и здесь не очень важно, какими именно техниками, то есть каким именно языком пользуется художник. И уж тем более не важно, какими инструментами он пользуется. Совершенно несущественно, пишет он гусиным пером свой текст или он его набирает на компьютере, это уж совсем не имеет никакого отношения. Но, тем не менее, то, что сейчас было сказано о «science-art», как о некой третьей возможности, которая, с одной стороны, провоцирует науку, с другой стороны, ее ограничивает, может быть, это действительно интересно. Мне вспоминаются материалы одной конференции, которая проходила где-то лет 5 назад в Массачусетском технологическом институте. На открытии конференции вышел очень известный генетик и сказал: «Мы уже можем говорить на уровне генома, на уровне генотипа. Теперь вопрос в том, что мы хотим сказать. И может быть, «science-art» — это в определенном смысле поиск ответа: что мы хотим сказать?
Елена Фанайлова: Я бы позволила себе одну реплику. Все-таки определение искусства времен Канта и определение современного искусства, «contemporary art», уже, наверное, немного различаются. Потому что, как мне кажется, современное искусство берет на себя функции медиа, прежде всего, функции посредника, и оно как раз очень интеллектуально. В этом смысле у него есть некоторые научные черты или черты логического, и там всегда есть серьезный интеллектуальный посыл и сообщение, которое художник, работающий в мире «contemporary art», хочет донести до зрителей. При этом цель эстетического у этого искусства все-таки остается, но оно уже немножечко как бы и не совсем искусство.
Все-таки определение искусства времен Канта и определение современного искусства, «contemporary art», уже, наверное, немного различаются. Потому что, как мне кажется, современное искусство берет на себя функции медиа, прежде всего, функции посредника, и оно как раз очень интеллектуально. В этом смысле у него есть некоторые научные черты или черты логического, и там всегда есть серьезный интеллектуальный посыл и сообщение, которое художник, работающий в мире «contemporary art», хочет донести до зрителей. При этом цель эстетического у этого искусства все-таки остается, но оно уже немножечко как бы и не совсем искусство.
Алексей Семихатов: У меня тоже реплика. Лена, мы сейчас от человека с математическим образованием слышали утверждение о том, что в науке обязательно целеполагание. Ну, мне трудно себе представить такое в отношении значительной части современной математики. Как известно, современная математика, по выражению Фейнмана, — это такое явление, которое шьет одежды просто потому, что умеет шить такие одежды.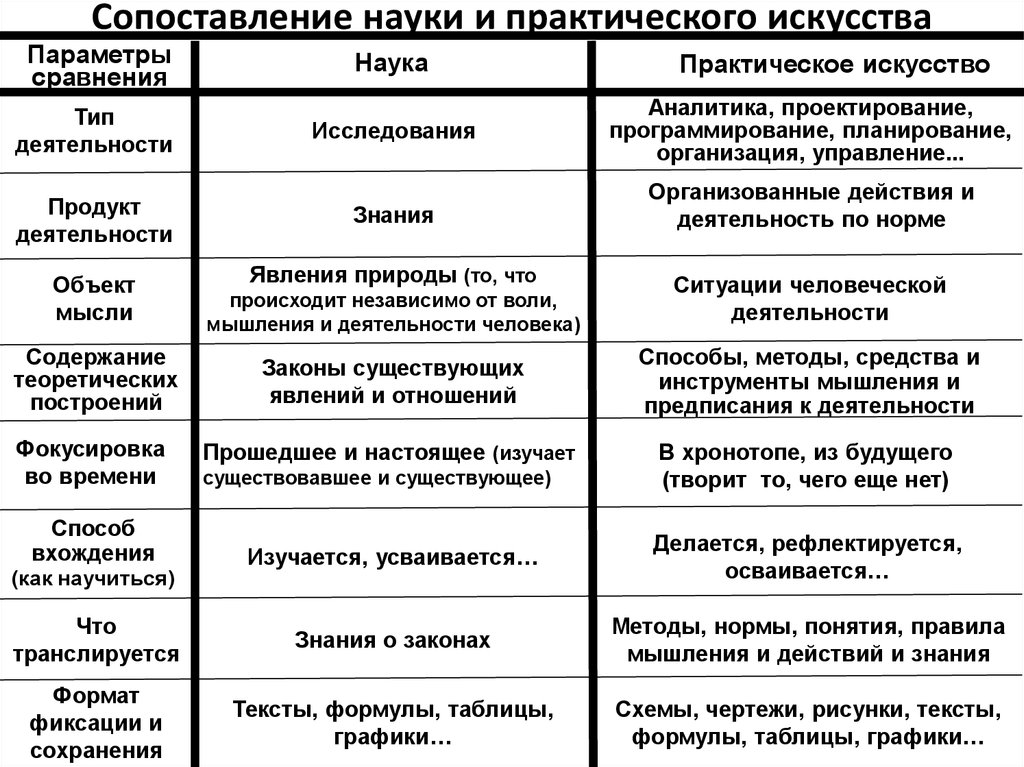 И имеется большущий шкаф, и туда сложены самые разные костюмы, неизвестно кого. И складывают туда, и складывают, а потом берут, чтобы сшить на их основе новые. Какое здесь целеполагание? Понадобятся они или не понадобятся кому-нибудь, совершенно неизвестно. Она развивается в соответствии со своей внутренней логикой.
И имеется большущий шкаф, и туда сложены самые разные костюмы, неизвестно кого. И складывают туда, и складывают, а потом берут, чтобы сшить на их основе новые. Какое здесь целеполагание? Понадобятся они или не понадобятся кому-нибудь, совершенно неизвестно. Она развивается в соответствии со своей внутренней логикой.
Елена Фанайлова: Ну, так мы дойдем до высших целей существования человечества.
Андрей Ваганов: Мой комментарий к выступлению Марина Аствацатурян и Бориса Ивановича Кудрина будет таким. На мой взгляд, эти комментарии абсолютно непротиворечивы между собой, просто внешне немножко отличаются. Борис Иванович говорит: без искусства наука и техника не могут развиваться. На мой взгляд, это чисто эмоциональный нюанс. Вот он так видит. А например, наш выдающийся академик (покойный ныне, к сожалению) Валерий Шумаков, который занимался пересадкой органов и так далее, у него любимым видом потребления искусства было чтение дешевых детективчиков в мягких обложках. Вот он так воспринимал. Вот вся польза, весь тот эмоциональный импульс, который ему давало искусство. И ему этого хватало, что называется, выше крыши. Можно привести пример с авангардом 20-30-ых годов в СССР. Татлин сделал свой знаменитый махолет, известный проект леонардодавинчевский. Красивая вещь! И когда его спросили «а он будет летать?», он в гневе воскликнул: «Да какое мне дело, будет он летать или нет?! Это инженеры пусть думают». То есть не в этом проблема.
Вот он так воспринимал. Вот вся польза, весь тот эмоциональный импульс, который ему давало искусство. И ему этого хватало, что называется, выше крыши. Можно привести пример с авангардом 20-30-ых годов в СССР. Татлин сделал свой знаменитый махолет, известный проект леонардодавинчевский. Красивая вещь! И когда его спросили «а он будет летать?», он в гневе воскликнул: «Да какое мне дело, будет он летать или нет?! Это инженеры пусть думают». То есть не в этом проблема.
И мне кажется, что важно отметить вот что. Борис Иванович, к сожалению, не развернул свою тему, но то, чем он занимается – техноэволюция, да, действительно, это вещь фундированная, как говорили все мои коллеги раньше, это все фундировано и до него. Кстати, должен заметить, что Франкенштейн – это не чудовище. Франкенштейн, наоборот, наверное, самый положительный герой в этом романе Мэри Шелли. Кстати, роман Мэри Шелли — совершенно потрясающая вещь в нашем разговоре, мне кажется, в нашем контексте. Ведь если начать его раскручивать, можно попытаться его разложить по полочкам, то окажется, что отнюдь не эта замечательная Мэри Шелли дала толчок чьему-то развитию, а она сама явилась, так сказать, точкой актуализации того, что целое столетие до нее развивалась наука об электричестве. Просто в ней все это сконцентрировалось удачно, и она это выплеснула дальше, а отнюдь не наоборот. То есть я тут полностью согласен с Мариной Аствацатурян, что это две плоскости не пересекающиеся, и искусство ученым может помочь только в психоэмоциональном иногда смысле.
Просто в ней все это сконцентрировалось удачно, и она это выплеснула дальше, а отнюдь не наоборот. То есть я тут полностью согласен с Мариной Аствацатурян, что это две плоскости не пересекающиеся, и искусство ученым может помочь только в психоэмоциональном иногда смысле.
Что касается теории Бориса Ивановича Кудрина по поводу техноэволюции, это очень глубокая теория. Да, все это было известно дальше. А в чем его заслуга? В том, что он эти выплески, что ли, эмоциональные облек в математическую форму. Один короткий пример. Электродвигатели, установленные на Магнитогорском металлургическом заводе, если их распределить по мощности, количество от мощности, они укладываются в идеальную так называемую гиперболу, гиперболическую кривую, H-распределение. Эти двигатели устанавливали на протяжении десятилетий совершенно разные люди, совершенно не договариваясь между собой. Но они все равно выстраиваются в красивую, гладкую кривую, ниспадающую веточку. По такому же распределению устроен, например, частотный словарь «Евгения Онегина», если выстроить все слова «Евгения Онегина».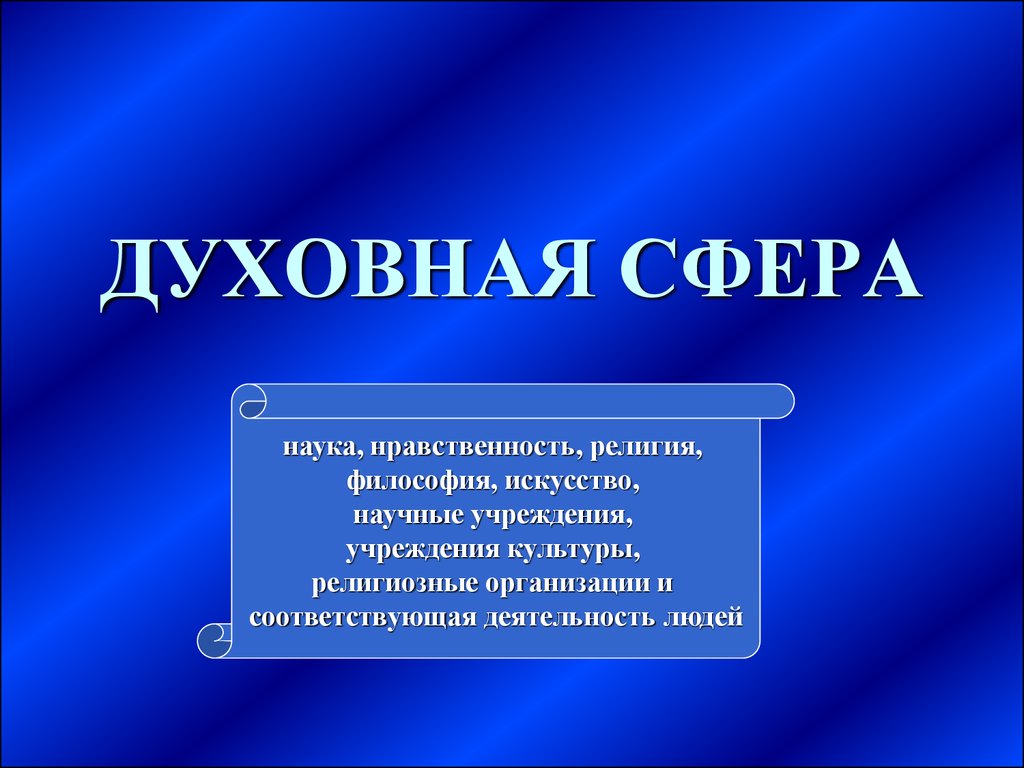 И как раз заслуга Кудрина в том, что он нашел эту закономерность. Мало того, тут Алексей возражал ему, и отчасти, я считаю, правильно он возразил, но неслучайно Борис Иванович Кудрин в свою теорию вводит парадигматику биологических наук. У него термины там встречаются: ценоз, ценологическое исследование, ноева каста, саранчовые касты. И в этом смысле биология и генная инженерия – это тоже разновидность техники всего лишь. И в своей гипотезе, в своей теории техноэволюции Кудрин как раз рассматривает как одну из первых технологий, изобретенных человеком, как раз биотехнологии – процесс превращения молока в сыр, в сметану и так далее. И мне кажется, вся заслуга Кудрина в том, что это у него очень компактно, очень органично соединено некой связующей идеей.
И как раз заслуга Кудрина в том, что он нашел эту закономерность. Мало того, тут Алексей возражал ему, и отчасти, я считаю, правильно он возразил, но неслучайно Борис Иванович Кудрин в свою теорию вводит парадигматику биологических наук. У него термины там встречаются: ценоз, ценологическое исследование, ноева каста, саранчовые касты. И в этом смысле биология и генная инженерия – это тоже разновидность техники всего лишь. И в своей гипотезе, в своей теории техноэволюции Кудрин как раз рассматривает как одну из первых технологий, изобретенных человеком, как раз биотехнологии – процесс превращения молока в сыр, в сметану и так далее. И мне кажется, вся заслуга Кудрина в том, что это у него очень компактно, очень органично соединено некой связующей идеей.
Дмитрий Булатов: Я бы хотел выразить надежду, что в России направление «science-art» будет развиваться, поскольку это является отголоском и показателем неизбежной модернизации. И здесь под модернизацией я понимаю не логику каких-то рыночных реформ, а скорее, то явление, которое ближе, в моем восприятии, к развитию биологического организма.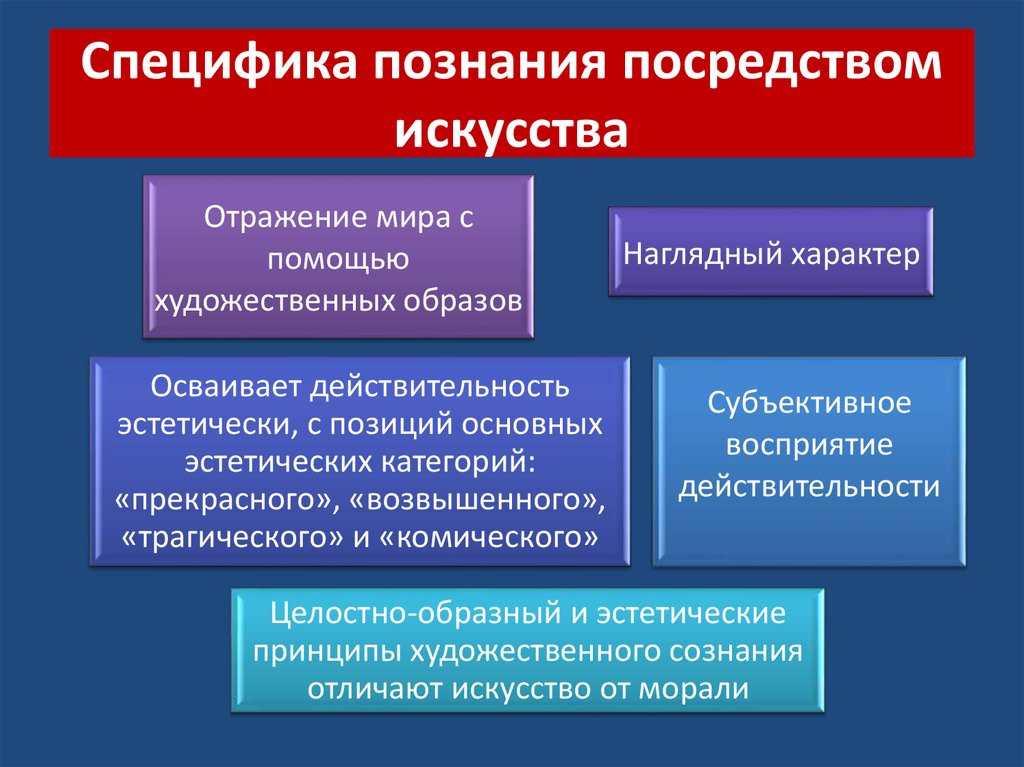 И мы в этом отношении не имеем обратного пути. Модернизировать сознание свое, приближать доступными нам гуманитарными технологиями к технологиям физическим мы просто обречены, иначе мы будем отброшены в страны Третьего мира, будем отброшены во времени. И «science-art» в этом отношении мною воспринимается как достаточно развитая гуманитарная технология для модернизации нашего собственного сознания. И я надеюсь, что вот эта антология, книжка, которая была издана Калининградским филиалом Государственного центра современного искусства, «Эволюция от-кутюр: Искусство и наука в эпоху постбиологии» поможет заинтересованному зрителю познакомиться с работами, на мой взгляд, выдающихся художников сегодняшнего дня и поможет российским художникам также выбрать направление своего творчества.
И мы в этом отношении не имеем обратного пути. Модернизировать сознание свое, приближать доступными нам гуманитарными технологиями к технологиям физическим мы просто обречены, иначе мы будем отброшены в страны Третьего мира, будем отброшены во времени. И «science-art» в этом отношении мною воспринимается как достаточно развитая гуманитарная технология для модернизации нашего собственного сознания. И я надеюсь, что вот эта антология, книжка, которая была издана Калининградским филиалом Государственного центра современного искусства, «Эволюция от-кутюр: Искусство и наука в эпоху постбиологии» поможет заинтересованному зрителю познакомиться с работами, на мой взгляд, выдающихся художников сегодняшнего дня и поможет российским художникам также выбрать направление своего творчества.
Алексей Семихатов: В результате замечательной беседы с интересными людьми я гораздо лучше понял за сегодняшний день, что же такое «science-art». Чего я по-прежнему не понимаю, и где мне, несомненно, нужно модернизировать собственное сознание, — это понимание, что, черт возьми, означает слово «постбиология».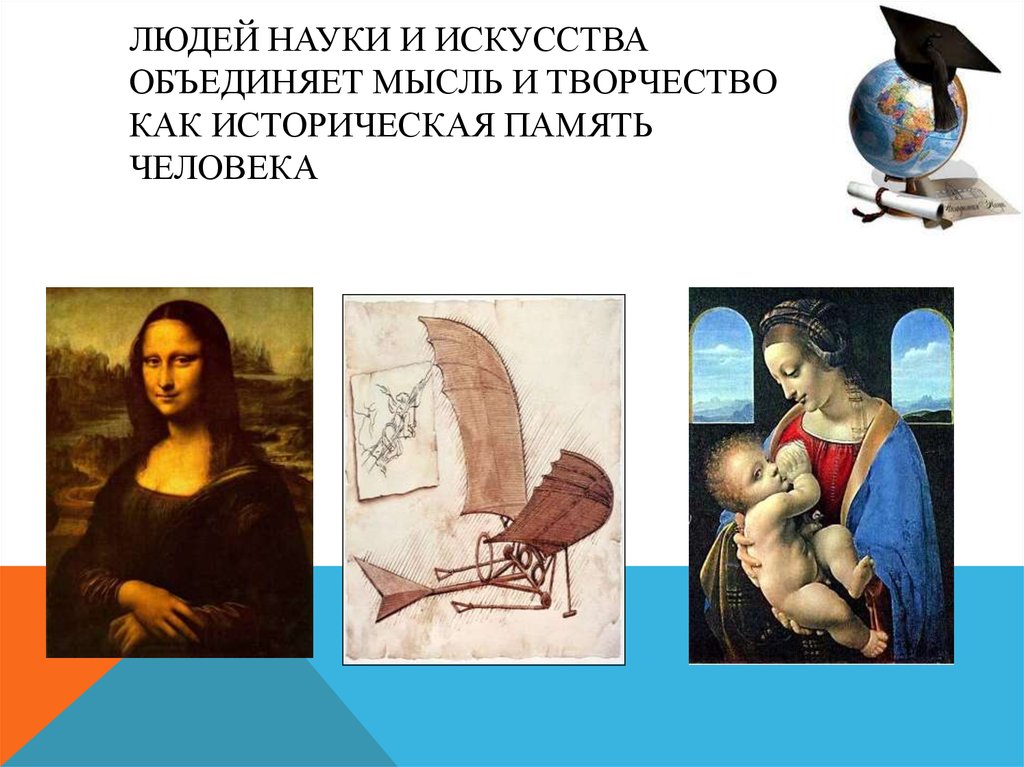 Красивое слово, несомненно, маркер такой, но мне никак не удается наполнить его каким бы то ни было содержанием.
Красивое слово, несомненно, маркер такой, но мне никак не удается наполнить его каким бы то ни было содержанием.
Елена Фанайлова: Вероятно, это тема следующих дискуссий.
Константин Бохоров: Я присоединюсь к Дмитрию, что приход в Россию «science-art» — это очень важный фактор культурного развития. И что меня радует в этих первых встречах русского зрителя, русской публики с «science-art», что в основном его зрителем является невероятно молодая аудитория. Вот эти люди, которые родились в конце 80-ых — 90-ых годах, они приходят и нормально воспринимают все эти странные штуки, в которых выражает себя «science-art». Это их язык, они его понимают. И я надеюсь, что, усвоив его, они продвинут здесь очень многое.
Андрей Ваганов: Я бы хотел поддержать Дмитрия Булатова. В его выступлении проскочило определение, что «science-art» — это третья территория некая: наука, искусство и «science-art». И на мой взгляд, чем скорее «science-art» откажется от претензий своих потенциальных или актуальных претензий на то, чтобы претендовать на некую область, отрасль современного искусства, чем быстрее «science-art» от этого откажется, тем будет лучше и для «science-art», и для искусства. Отдельно можно будет говорить о каких-то видовых признаках, которые позволяют выделить «science-art» в отдельную область творческой деятельности, если можно так сказать, но мое мнение такое, что я за чистоту жанра.
Отдельно можно будет говорить о каких-то видовых признаках, которые позволяют выделить «science-art» в отдельную область творческой деятельности, если можно так сказать, но мое мнение такое, что я за чистоту жанра.
Владимир Губайловский: Мне более всего было бы интересно, как профессиональному литератору, увидеть «science-art», который уже не является только визуальным искусством, а когда он затронет вербальное искусство. Вот тут, я боюсь, онлайновый робот – это все-таки пока еще слабое слишком утверждение. Будем ждать.
Связь науки и искусства примеры
Шпаргалка: Исследование на тему связь науки и искусства
Международная Академия Бизнеса и Банковского Дела
Факультет Управления и Финансов
ИССЛЕДОВАНИЕ
ПО КУРСУ ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ
НА ТЕМУ СВЯЗЬ НАУКИ И ИСКУССТВА
Сурова В.А
студента III курса (специальности 071900 «Информационные технологии в банковской деятельности».)
Тольятти-1997
Связь науки и искусства.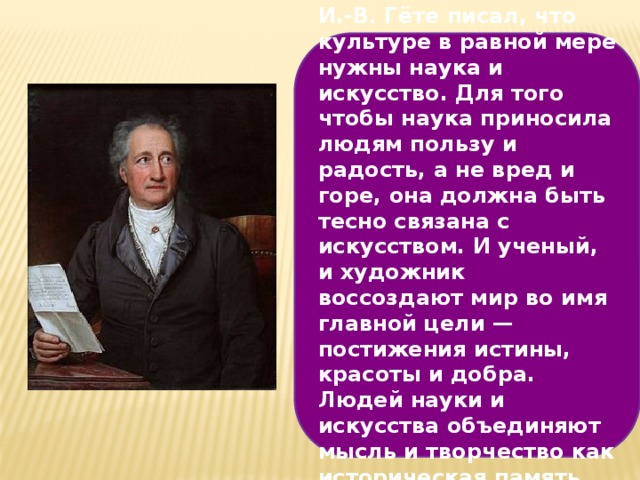
Описание схемы.
Сами по себе наука и искусство самодостаточны, поэтому проследить их взаимосвязь друг с другом напрямую на схеме, без введения какого-нибудь третьего объекта, не представляется возможным. Этим третьим объектом является человеческое общество, ориентированное на развитие — техническое, которое может обеспечить класс естественных наук, и социально-гуманитарное, которое может обеспечить класс гуманитарных наук. Общество в свою очередь задает направление научным исследованиям, получается некий цикл, который изображен на рисунке 1.
Рисунок 1
Однако такая схема имеет при одном преимуществе — простоте — ряд недостатков: как уже было сказано ранее, наука самодостаточна, поэтому ее связь с обществом напрямую сильно затруднена и возможна только с небольшим количеством людей, в тоже время существует необходимость обеспечить знакомство широких масс общественности с последними достижениями научной мысли и наоборот, посвятить научную элиту, которая вращается в своих кругах, насчет настроений и мыслей общественности.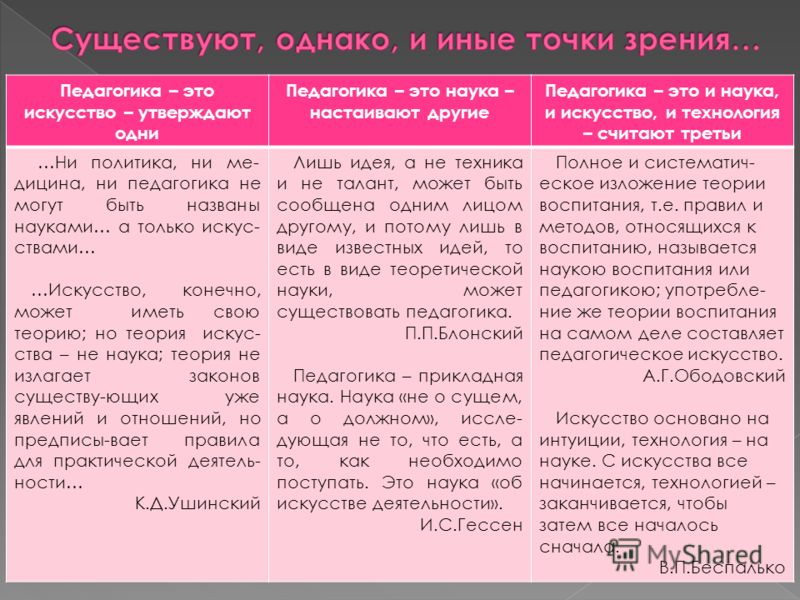 Эту задачу как раз и выполняет искусство, в частности литература, если брать еще уже, то научная фантастика. Отсюда мы получаем схему, которая изображена на рисунке 2.
Эту задачу как раз и выполняет искусство, в частности литература, если брать еще уже, то научная фантастика. Отсюда мы получаем схему, которая изображена на рисунке 2.
Рисунок 2
Рисунок 2 представляет собой очень общую схему, работать с которой практически невозможно, поэтому необходимо несколько расширить его.
Наука, в общем случае, подразделяется на естественную и гуманитарную, которые в свою очередь делятся на прикладную и теоретическую. Каждое из этих направлений развивается само по себе, с одной стороны, и задает направление к развитию для другой стороны. Также имеет место попытка проникновения естественных наук в сферу гуманитарных и наоборот. Такие процессы происходят внутри объекта «наука».
Процессы, происходящие в обществе можно условно разделить на два основных, которые нам и нужны, — это процесс производства и процесс жизнедеятельности людей. Здесь, точно так же как и в предыдущем случае, каждый из подобъектов, развиваясь сам по себе, задает направление для другой стороны.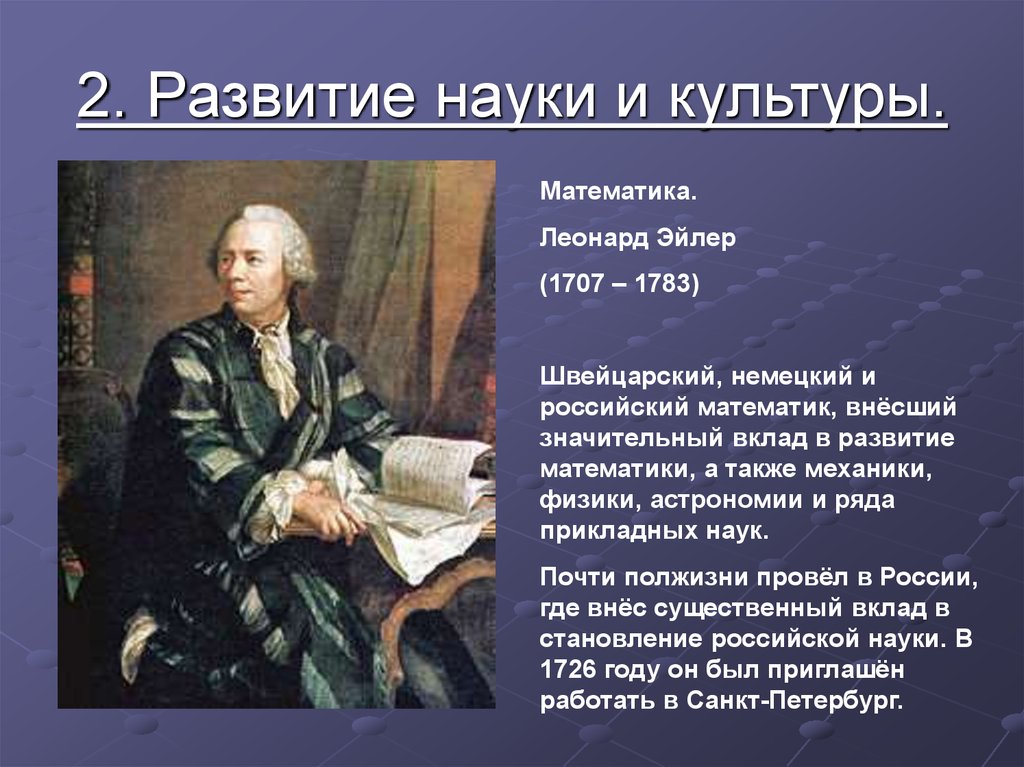
У искусства так же имеется две основные составляющие, которые необходимы для рассмотрения нашей задачи: это популяризация и экстраполяция, посредством которых происходит связь науки и общества. Причем в основном связь происходит по следующим парам:
à естественные науки -> производство,
à производство -> Естественные науки,
à гуманитарные науки -> жизнедеятельность,
à жизнедеятельность -> Гуманитарные науки,
это в случае если из связки выбросить искусство, вместе с ним мы получим следующие связки:
à естественные науки ->популяризация -> производство,
à производство -> экстраполяция -> Естественные науки,
à гуманитарные науки -> популяризация -> жизнедеятельность,
à жизнедеятельность -> экстраполяция -> Гуманитарные науки.
(Конечно же, надо учитывать, что в чистом виде такие связки встретить можно редко, гораздо чаще в литературных произведениях функции популяризации и экстраполяции идут рядом.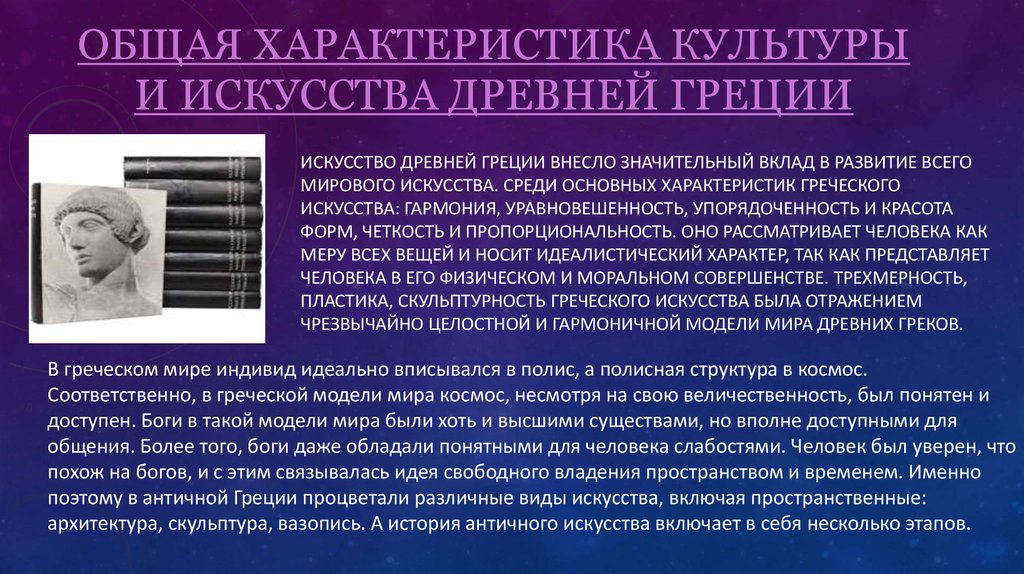 )
)
Если связать все воедино, то получается схема, представленная на рисунке 3.
Рисунок 3
После этого введения можно продемонстрировать работу предложенной схемы на нескольких примерах.
Экстраполяция.
Рассказ Роберта Шекли «Страж птица» — это классический случай ситуации, которая лучше всего описывается фразой «благими намерениями вымощена дорога в АД». Основные проблемы затронутые в рассказе — это ценность человеческой жизни и не подконтрольность искусственного интеллекта, обладающего механизмом самообучения.
Одной из самых больших ценностей, если и не самой большой, человек считает свою собственную жизнь. И как следствие охрана этой жизни одна из важнейших задач, которые когда-либо поднимало человечество, причем именно охрана, в смысле не допущения насильственной смерти, а не соответствующее возмездие. Здесь происходит постановка задачи для ученых. И был предложено решение этой задачи, на котором и строиться весь рассказ — ученые выяснили, что при попытке совершения убийства, мозг убийцы испускает определенное излучение, которое можно зафиксировать.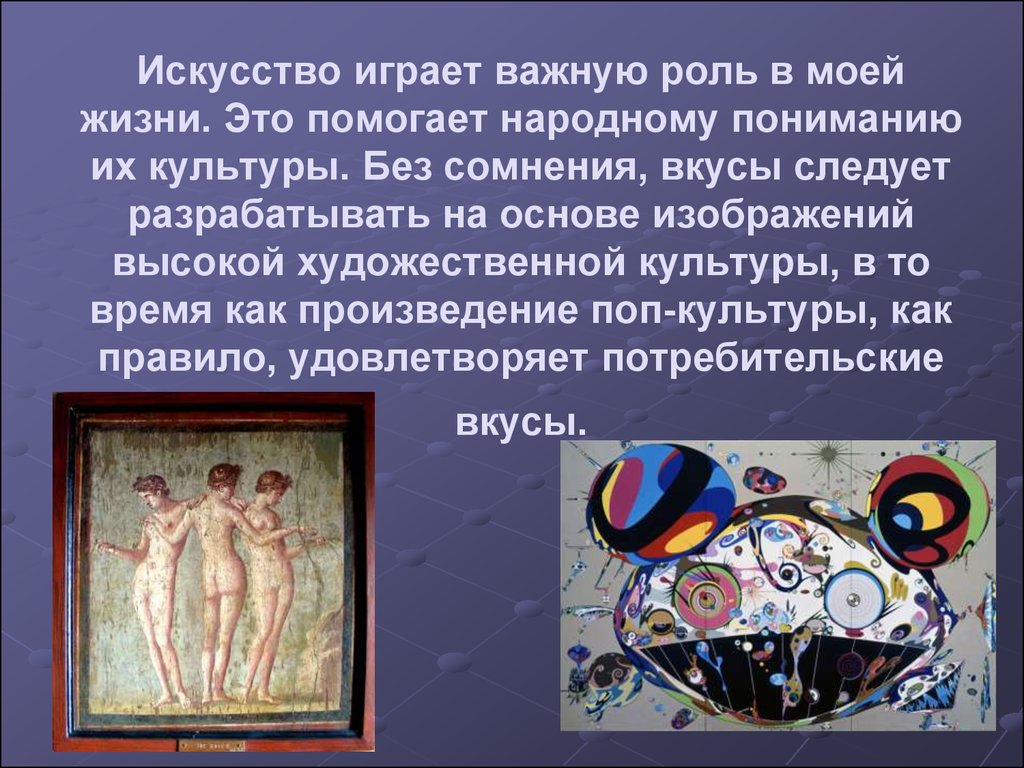 Для предотвращения убийств были созданы свободно перемещающиеся механизмы, названные страж — птицами. Однако излучение испускает только 80% убийц, то есть если оснастить птиц только механизмом распознавания излучения, то сохраниться 20% смертей, если же оснастить птиц механизмом самообучения, то возможно предотвращения большего количества преступлений, но в тоже время механизмы становятся не подконтрольными. Здесь возникает вторая проблема затронутая в рассказе.
Для предотвращения убийств были созданы свободно перемещающиеся механизмы, названные страж — птицами. Однако излучение испускает только 80% убийц, то есть если оснастить птиц только механизмом распознавания излучения, то сохраниться 20% смертей, если же оснастить птиц механизмом самообучения, то возможно предотвращения большего количества преступлений, но в тоже время механизмы становятся не подконтрольными. Здесь возникает вторая проблема затронутая в рассказе.
Цикл постановки и решения проблем:
1. Обеспечить охрану человеческой жизни [общественность ] ->
-> 2. Нахождение излучения испускаемого мозгом убийцы [наука ] ->
-> 3. Не подконтрольность механизмов с искусственным интеллектом, оснащенных возможностью к самообучению [общественность ] ->
-> 4. ??? [наука ] ->
Как видно в схеме результатов необходимость в ведении искусства не наблюдается, оно необходимо только в моменты перехода. Требуется поставить задачу перед учеными для ученых — переход из 1 в 2, надо подготовить общественное мнение для введения в действие нового механизма 2 — 3 и постановка новой задачи — переход из 3 в 4.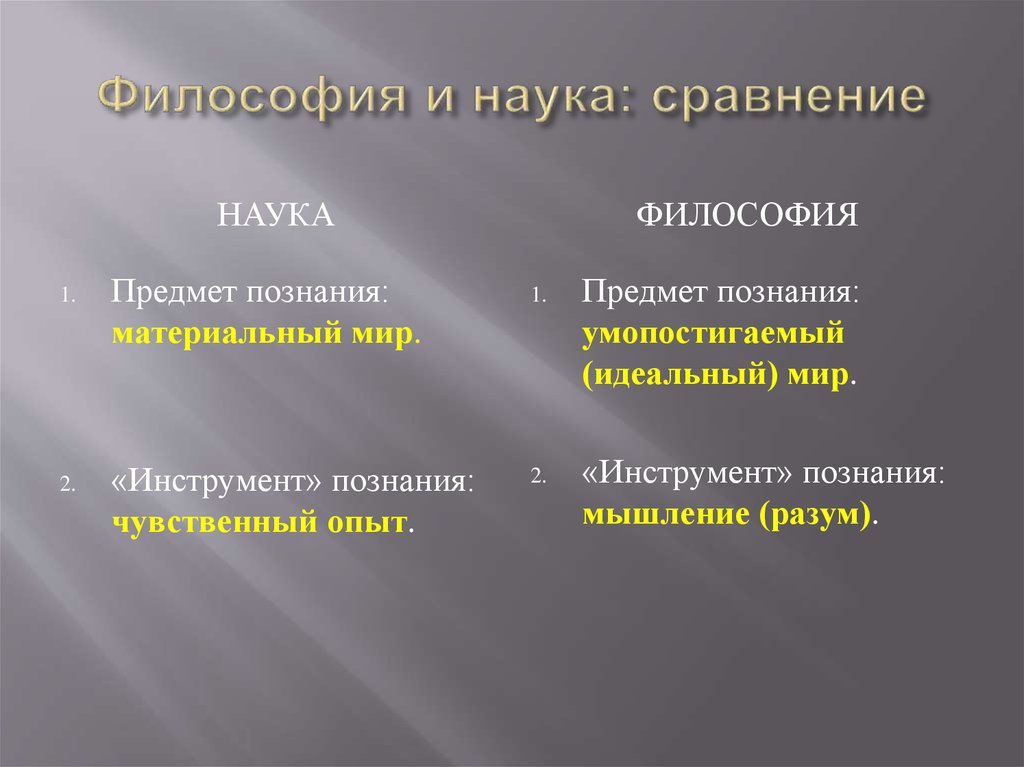
Рассказ Клиффорда Саймака «На Юпитере». Здесь поднимается следующая проблема — биоинженерия.
Человечество всегда стремилось расширить свои территории, сначала это происходило за счет освоения доступных земель на своей планете, потом наступает момент, когда не освоенных территорий на планете просто не остается и необходимо начинать осваивать другие проблемы, которые совсем не обязательно такие же как Земля, скорее может получиться такая ситуация, что человек на осваевомой планете вообще жить не может, так как условия на планете подразумевают жизнь в других формах. Здесь происходит постановка задачи, которая успешно решается (в рассказе).
Цикл постановки и решения проблем:
1. Обеспечить существование человека на Юпитере [общественность ] ->
->2. Преобразование человека в элемент местной жизни [наука ] ->
->3. Моральная проблема существования человека в другом теле [общественность ]->
-> 4. ??? [наука ] ->
Жуль Верн «Полет на Луну». Не вдаваясь в подробности можно сказать, что от человечества в лице Жуль Верна поступил заказ на обеспечение полета на Луну. Как это решается конкретно в повести «Полет на Луну», является не нужными подробностями, основным здесь является то, что уже в момент написания повести, сложилась ситуация которая говорила о том, что полет на Луну это не миф, это становится реальностью, которая претвориться в жизнь если и не при жизни этого поколения, так при жизни следующего точно. Так и произошло.
Не вдаваясь в подробности можно сказать, что от человечества в лице Жуль Верна поступил заказ на обеспечение полета на Луну. Как это решается конкретно в повести «Полет на Луну», является не нужными подробностями, основным здесь является то, что уже в момент написания повести, сложилась ситуация которая говорила о том, что полет на Луну это не миф, это становится реальностью, которая претвориться в жизнь если и не при жизни этого поколения, так при жизни следующего точно. Так и произошло.
Цикл постановки и решения проблем:
1. Обеспечить полет человека на Луну [общественность ] ->
-> 2. Отправка человека в космос [наука ]
Популяризация.
Лучше всего науку популяризировал все тот же Жуль Верн. В занимательной форме фантастического путешествия он старался распространить современные, на тот момент, научные знания, которые представляют собой некие механические приспособления. Примером этого может служить «Наутилус». К моменту выхода романа в свет подводная лодка уже существовала. Конечно, в подводной лодке капитана Немо было многое из еще недоступных областей (электроприборы), но все равно за основу было взято то, что имелось в действительности. То же самое можно сказать и об электрическом геликоптере, уже в те времена проводились эксперименты с моделями летательных аппаратов тяжелее воздуха, и буквально через несколько годов, на самолет получил бензиновый двигатель и взлетел в воздух.
Конечно, в подводной лодке капитана Немо было многое из еще недоступных областей (электроприборы), но все равно за основу было взято то, что имелось в действительности. То же самое можно сказать и об электрическом геликоптере, уже в те времена проводились эксперименты с моделями летательных аппаратов тяжелее воздуха, и буквально через несколько годов, на самолет получил бензиновый двигатель и взлетел в воздух.
Здесь, в отличие от описанной функции экстраполяции, нельзя явно выделить циклы, так как фактически мы имеем некой техническое изобретение, которое описывается. В первом случае это подводная лодка, во втором — летательный аппарат.
Соотношение науки и искусства
Проблема соотношения отдельных элементов в системе культуры затрагивает и особенности творческого мышления.
Это проявляется, например, в характеристике взаимодействия науки и искусства.
В ХХ веке человек, оснащенный новейшими компьютерными технологиями и современной техникой, становится более рациональным.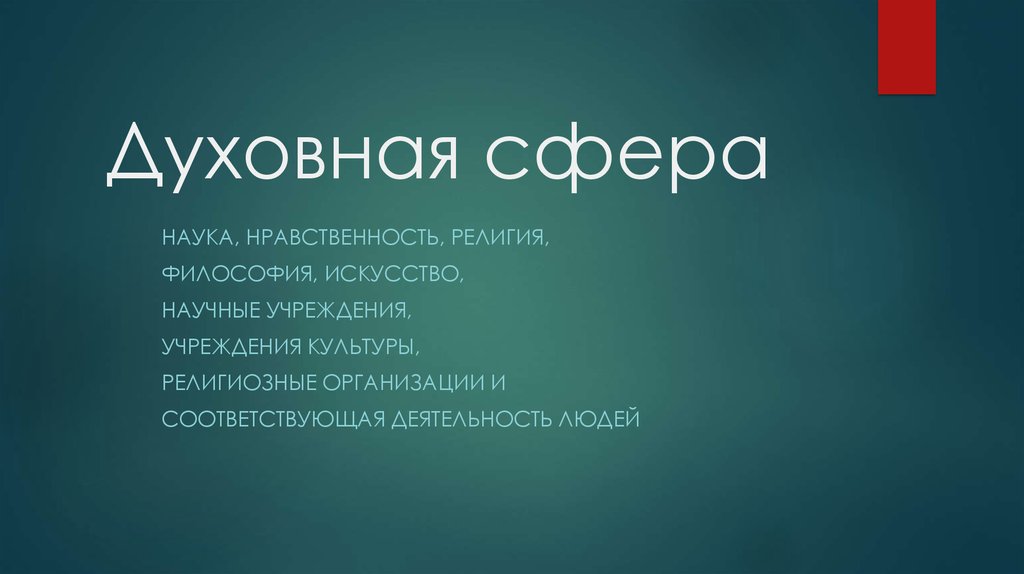 В античности, когда еще не существовало дифференцированного разделения на сферы культуры, греческий термин “techne” означал и “науку”, и “ремесло”, и “искусство”. Аристотель, противопоставляя науку, искусство с одной стороны и ремесло с другой, утверждал, что ремесло основано на привычках, на подражании одного мастера другому, а наука и искусство имеют свои определенные методы и принципы построения. Но наука опирается на логическую систему доказательств, тогда как искусство, включающее элементы удовольствия, в строгости мышления не нуждается.
В античности, когда еще не существовало дифференцированного разделения на сферы культуры, греческий термин “techne” означал и “науку”, и “ремесло”, и “искусство”. Аристотель, противопоставляя науку, искусство с одной стороны и ремесло с другой, утверждал, что ремесло основано на привычках, на подражании одного мастера другому, а наука и искусство имеют свои определенные методы и принципы построения. Но наука опирается на логическую систему доказательств, тогда как искусство, включающее элементы удовольствия, в строгости мышления не нуждается.
Цель науки можно обозначить как стремление к познанию мира рациональными методами, а для искусства познание, отражение действительности — это только одна из его граней наряду с другими — эстетическими, оценочными, игровыми, гедонистическими и др. Для науки характерны: непротиворечивое, строгое мышление, наднациональный характер; для искусства: мышление нестрогое, метафорическое, опирающееся на чувственные образы, включающее индивидуальность художника и национальные особенности его культуры.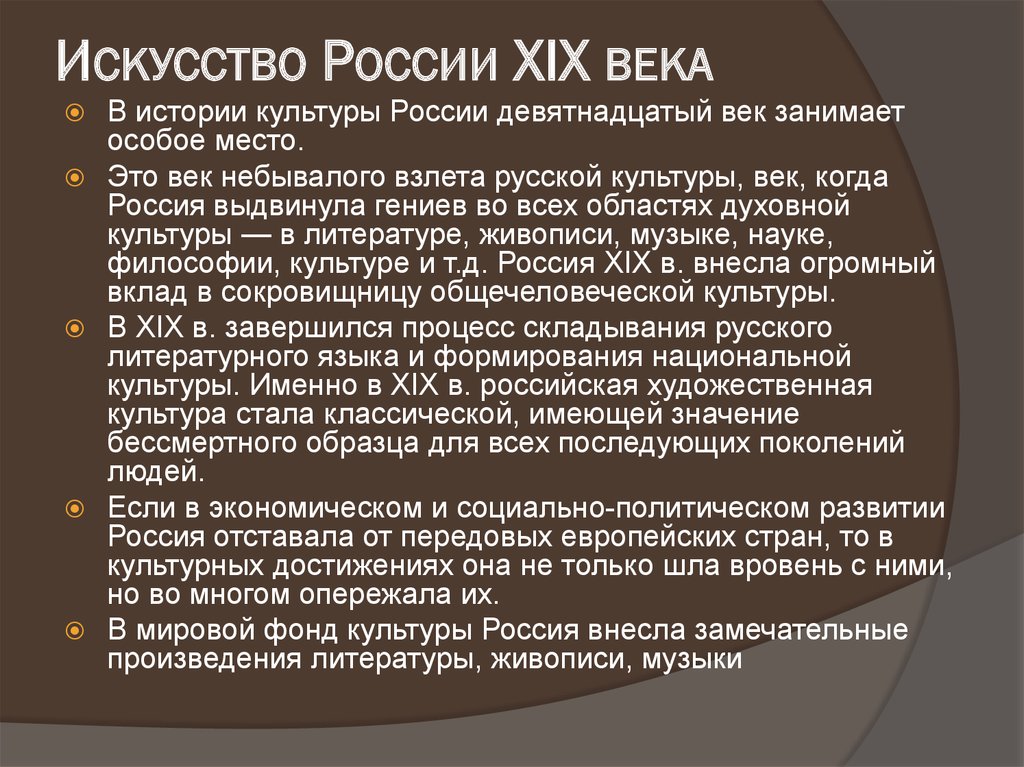 Объектом естественных наук можно назвать всю природу и человека, как часть этой природы, объектом искусства — человека, его духовность и отношение к миру.
Объектом естественных наук можно назвать всю природу и человека, как часть этой природы, объектом искусства — человека, его духовность и отношение к миру.
Проводя аналогии между наукой и искусством, отечественный философ П.П. Гайденко писала: “Как живопись XV — XVI вв. обращается к перспективе, так наука этого периода — к геометрии… Подобно тому, как перспектива становится методом для изображения природы, геометрия становится методом познания природы.” В эпоху Ренессанса художники, опираясь на открытие прямой перспективы, утверждали гуманистические идеалы на холсте, а ученые, в соответствии с духом времени, стремились дать упорядоченную картину мира (Галилей).
Противопоставление этих двух способов познания — научного и художественного, абсолютизация рациональности приводят к крайностям. Это как бы два полюса в культуре и две части единого целого: человечество должно осознать существующее противоречие, гуманизуя саму науку.
3. Наука и другие области культуры.
Научное познание мира существенно отличается от эстетической формы познания. Хотя наука и искусство есть отражение действительности, но в науке это отражение осуществляется в форме понятий и категорий, а в искусстве – в форме художественных образов. И научное понятие, и художественный образ представляют собой обобщенное воспроизведение действительности. Но в силу понятийного характера научного мышления диалектика общего, особенного и единичного в научном познании выступает иначе, чем в искусстве. В науке диалектическое единство общего, особенного и единичного выступает в форме общего, в форме понятий, категорий, а в искусстве то же самое диалектическое единство выступает в форме такого образа, который сохраняет непосредственную наглядность единичного жизненного явления[4] .
Хотя наука и искусство есть отражение действительности, но в науке это отражение осуществляется в форме понятий и категорий, а в искусстве – в форме художественных образов. И научное понятие, и художественный образ представляют собой обобщенное воспроизведение действительности. Но в силу понятийного характера научного мышления диалектика общего, особенного и единичного в научном познании выступает иначе, чем в искусстве. В науке диалектическое единство общего, особенного и единичного выступает в форме общего, в форме понятий, категорий, а в искусстве то же самое диалектическое единство выступает в форме такого образа, который сохраняет непосредственную наглядность единичного жизненного явления[4] .
Научное познание стремится к максимальной точности и исключает что-либо личностное, привнесенное ученым от себя: наука – это всеобщая общественная форма развития знания. Вся история науки свидетельствует о том, что любой субъективизм всегда беспощадно отбрасывался с дороги научного знания, сохранялось в науке лишь надличное, объективное.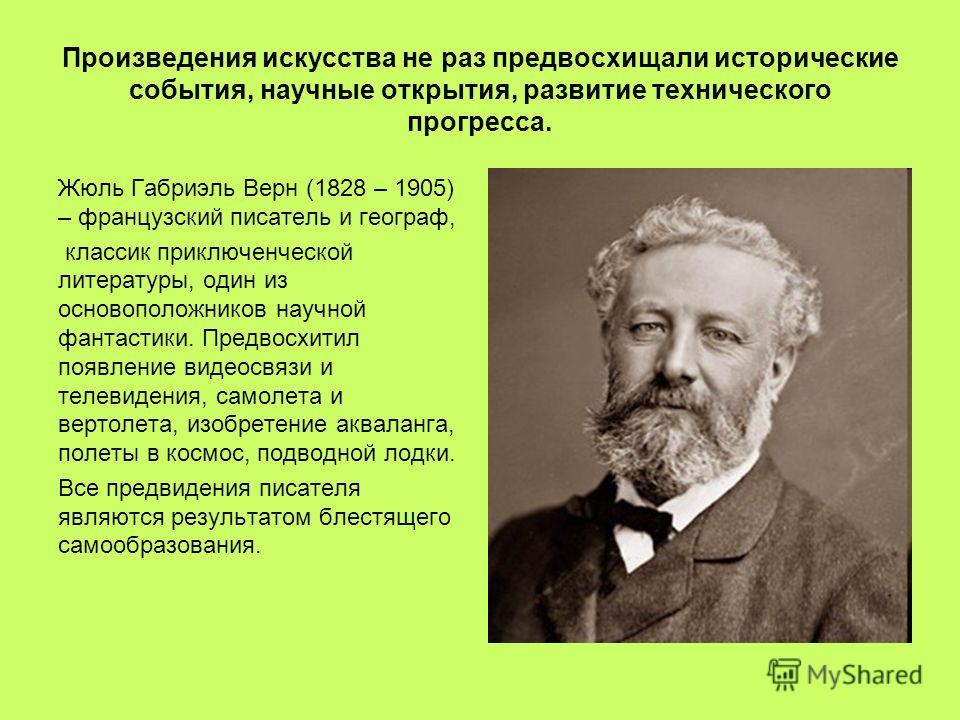
Художественные произведения неповторимы, а результаты научных исследований всеобщи. Наука есть продукт общего исторического развития в его абстрактном итоге. В искусстве же допускается художественный вымысел, привнесение от самого художника того, чего в таком именно виде нет, не было и, возможно, не будет в действительности. Но художественный вымысел допустим лишь в отношении единичной формы выражения общего, а не самого общего: художественная правда не допускает никакого произвола и субъективизма. Если художник выражает общее вне органического единства с особенным (типичным) и единичным, то получается не художественное произведение, а схематизм и голая социологизация. Если же художник в своем творчестве сводит все к единичному, слепо следует за наблюдаемыми явлениями, отрывает единичное от общего и особенного, то получается не художественное произведение, а натуралистическая копия.
В науке же главное – элиминировать, устранить все единичное, индивидуальное, неповторимое и удержать общее в форме понятий, категорий.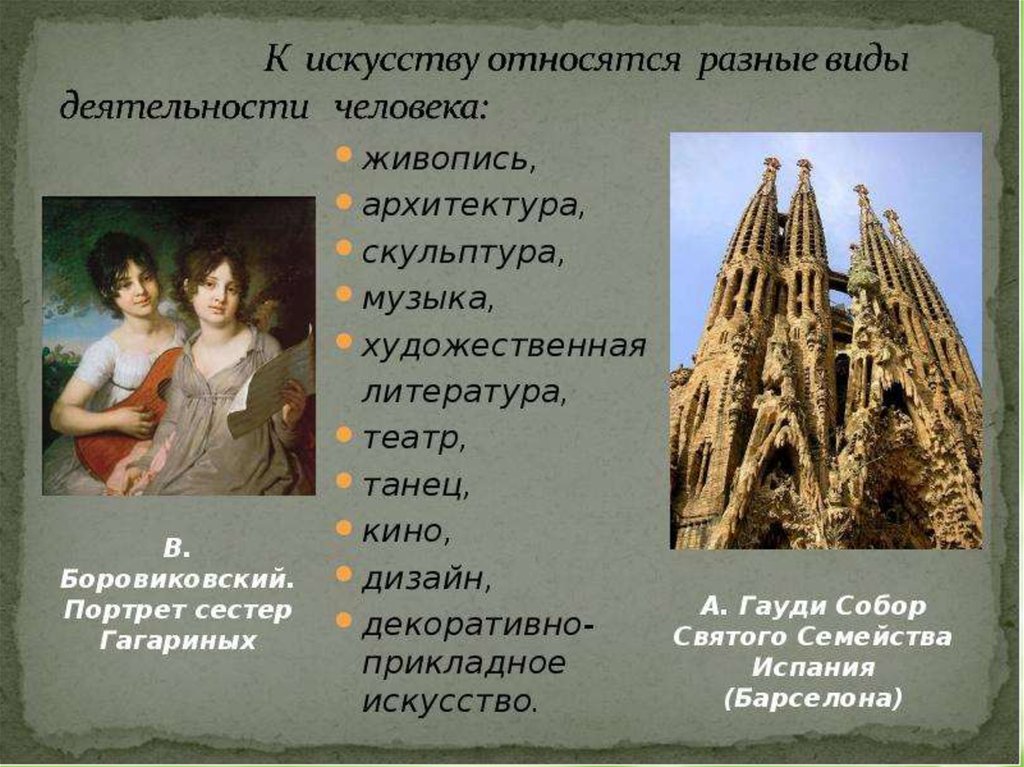 Форма всеобщности в мире – это закон. Поэтому научное познание – это познание законов мира.
Форма всеобщности в мире – это закон. Поэтому научное познание – это познание законов мира.
Вместе с тем, возникновение науки и ее развитие есть неотъемлемая часть истории человечества. На выбор предмета научного исследования, на характер использования ее результатов оказывают влияние многие общественные факторы, в том числе и духовная культура, просвещение.
Наука имеет свои корни в искусстве и искусство, в свою очередь, питает науку информацией. В сущности, все современные знания об окружающем мире, овладеть которыми задался целью будущий эрудит, так или иначе связаны с уходящими в глубокую древность образами и представлениями. Они помогают найти объяснение тех или иных «загадочных» явлений природы, проследить путь человека от незнания к знанию. Эволюция взглядов на окружающий мир, скажем, шумеров, вавилонян, ассирийцев, населявших в древности долины Тигра и Евфрата, прослеживается в изобразительном искусстве до середины шестого тысячелетия до н. э. В ту далекую историческую пору сознание людей весьма тесно было связано с мифическими образами , последние выступали как бы ключом к разгадке и толкованию многих явлений действительности[5] .
Первые шаги научного объяснения мира зарождались в рамках других форм общественного сознания, например, религии . Но научное знание коренным образом отличается от веры, то есть от слепого принятия за истину того, что в принципе не поддается никакой практической проверке и логическому доказательству. Вера (слепая) в бога, в чудеса, в сверхъестественное, вера как предрассудок, как суеверие, как вера в приметы и в сны ничем не доказывается. Она только внушается.
Если наука делает человека могущественным перед силами природы, то религия, вера, наоборот, дезориентирует человека, вселяет в него беспомощное чувство обреченности. В противоположность вере, научные знания есть верное, практически обоснованное, логически доказательное отражение действительности. Вот почему аргументированный результат научного познания выступает как нечто всеобщее и приобретает убедительную силу для людей, обладающих необходимой культурой мышления.
4. Критерии научности знания. Характерные черты и отличительные признаки науки.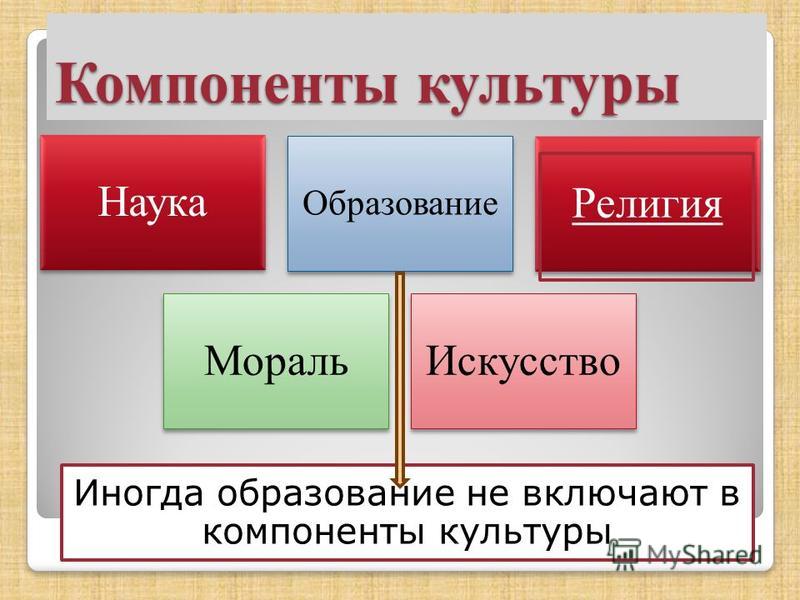
В чем же состоят принципиальные отличия науки от других областей человеческой деятельности ?
Для ответа на данный вопрос следует обратиться к такой категории, как критерии научности.
Вопрос о критериях научности традиционен для теории познания. Его постановка связана со стремлением выяснить гносеологическую природу научного знания, обладающего определенной спецификой по сравнению с многочисленными продуктами познания.
Исследования соотношения «знания» и «мнения», «знания» и «догадки», «знания и «субъективного предположения и т.д. с целью нахождения наиболее существенных особенностей, признаков научности восходят к античности, где они получают широкое распространение и различное воплощение. Суть вопроса, которым задавались античные мыслители, состоит в выявлении предпосылок познавательной обособленности научного знания в сравнении с прочими результатами познания и принципов, которыми должен руководствоваться субъект в своем стремлении к научному знанию, преодолевая догадки, мнения, личностные убеждения.
В качестве основы решения этого вопроса в античности формулировались теоретико-познавательные идеалы, которые, отражая сущностные черты научного знания, приобретали характер установочных ориентиров исследовательской деятельности субъекта познания. Так, уже в те времена было обосновано представление об известной регулятивной шкале гносеологической оценки знания – о критериях научности[6] .
Критерий научности– это правила, по которым оценивается соответствие (несоответствие) некоторых знаний обобщенным гносеологическим представлениям об установленных стандартах научного знания. Они обусловливают качественную определенность тех оснований, с позиций которых то или иное знание расценивается как научное и зачисляется в разряд научного знания.
К настоящему времени предложено немало трактовок эталонов научности. Естественно, зачастую они не совпадают. Но среди всех этих разнотолкований можно вычленить относительно единые типизированные свойства научности.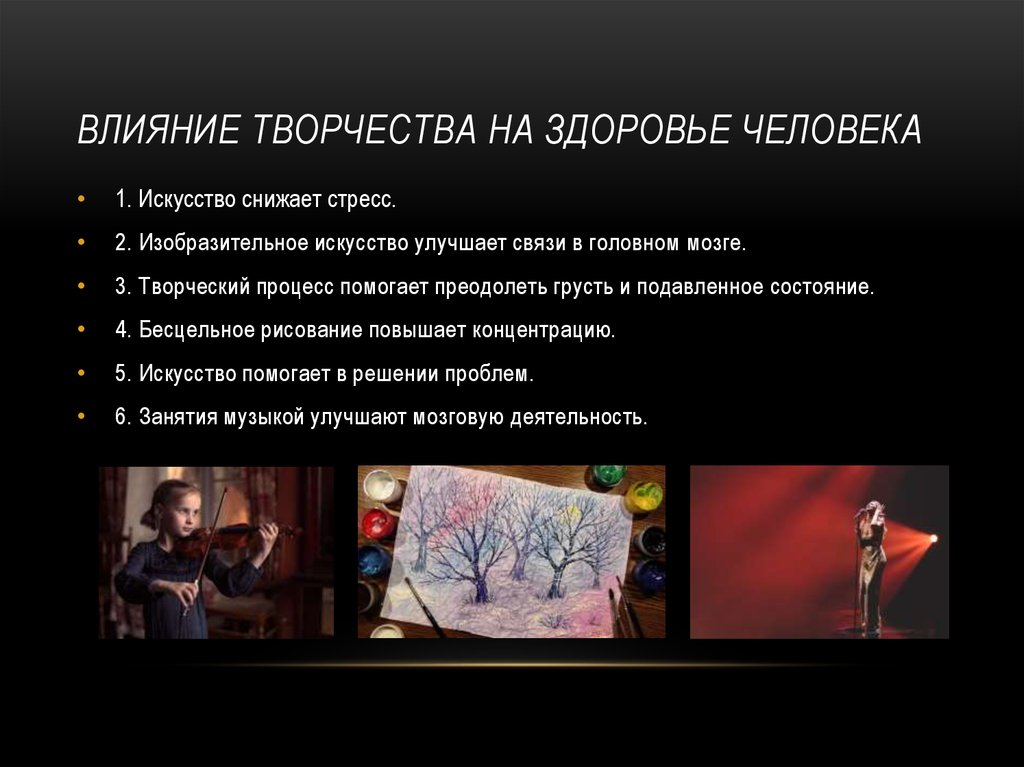
К числу типичных гносеологических признаков научности знания , согласно критериям научности, относят: истинность, рациональность, методичность, интерсубъективность, системность.
Истинность. Под истинностью знания традиционно понимается соответствие его познаваемому предмету. На основе признака истинности формулируется дополняющий его признак предметности знания, а именно: всякое знание должно быть знанием предметным, т. е. Характеризоваться отношением к существующему вне его познаваемому, ибо если нет познаваемого, то нет и знания. Однако истинность свойственна не только научному знанию. Ее могут включать донаучные практически-обыденные знания, мнения, догадки и т.п. В этой связи следует определиться с понятием истины.
Понятие истины выражает содержательную сторону некоей формы знания с точки зрения ее объективности и безотносительно к субъективной оценке и признанию. Понятие знания выражает форму признания истины, предполагающую наличие качественных оснований, в зависимости от достаточности которых имеются различные формы признания истины: мнение, вера, практически обыденное знание, научное знание.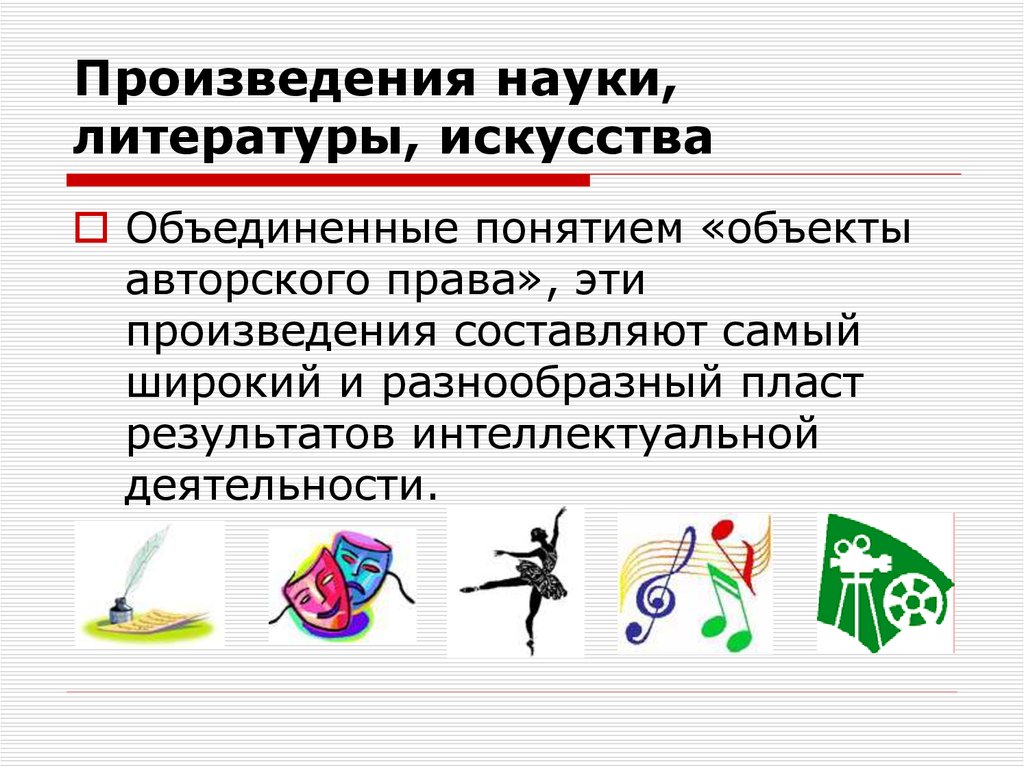
В условиях научного знания не просто сообщается об истинности того или иного содержания, но приводятся основания, по которым это содержание истинно. Поэтому, в качестве признака, характеризующего истинность научного знания, указывают на признак его достаточной обоснованности в отличие от недостаточной обоснованности других модификаций познания.
Принцип достаточного обоснования считают фундаментом всякой науки.
Интерсубъективность. Данный признак выражает свойство общезначимости, общеобязательности, всеобщности знания в отличие, например, от мнения, характеризующегося необщезначимостью, индивидуальностью. В этом смысле между истиной знания и истинами прочих модификаций познания намечается следующее разграничение. Истины практически-обыденного знания, веры и т. п. Остаются «персональными», так как относятся по недостаточным для того основаниям. Что касается истин научного знания, то они универсальны, «безличны» и принадлежат к формам знания, базирующимся на признании истины по объективно достаточным основаниям.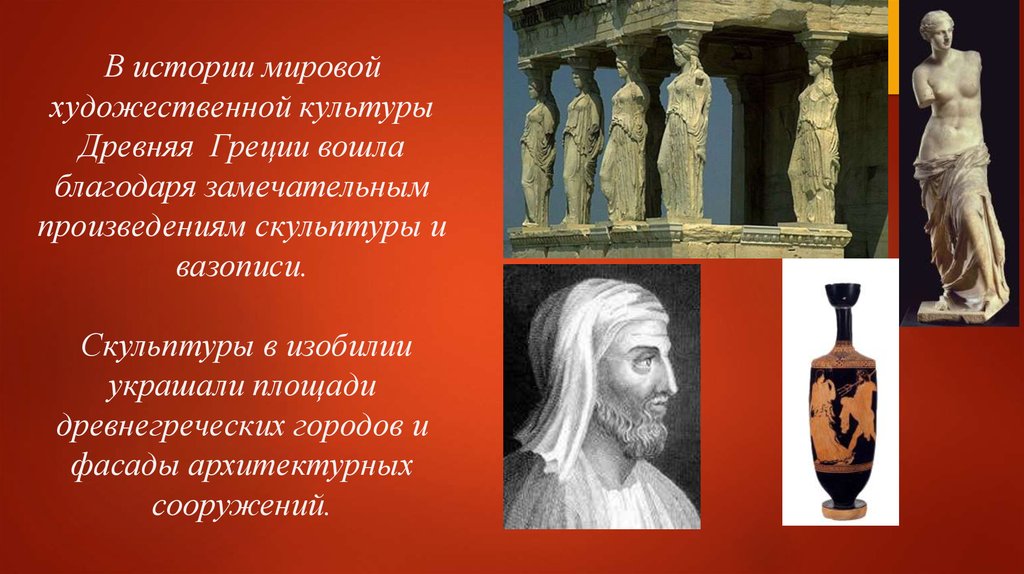
Признак интерсубъективности конкретизируется благодаря введению признака воспроизводимости. Последний указывает на свойство инвариантности знания, получаемого в ходе познания всяким субъектом. Напротив, если знание не является инвариантным для всякого обладающего нормальными способностями субъекта, оно не может претендовать на научность. Однако критерий воспроизводимости не подменяет критерия объективности знания. В этом случае, те, кто утверждает обратное, становятся на несостоятельные позиции. Объективность не может быть сведена к общезначимости потому, сто именно последняя выступает производной от первой. В самом деле, общезначимость знания есть результат его обоснованности. Знание же же считается обоснованным, если есть основание утверждать, что истинность (достоверность) его установлена. При этом установление истинности знания предполагает применение таких доказательных средств, которые порождают субъективную убежденность в объективности знания, уверенность в обладании истиной.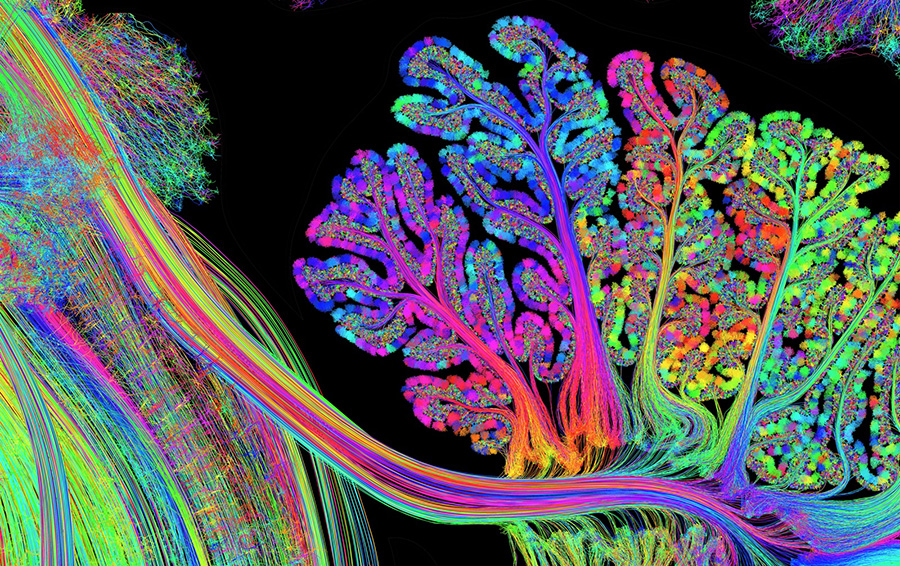 Отсюда, в силу объективности и логической обоснованности (доказательности), знание приобретает независимый от индивида характер, становится интерсубъективным, общезначимым.
Отсюда, в силу объективности и логической обоснованности (доказательности), знание приобретает независимый от индивида характер, становится интерсубъективным, общезначимым.
ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ [можно без регистрации]
перед публикацией все комментарии рассматриваются модератором сайта — спам опубликован не будет
Хотите опубликовать свою статью или создать цикл из статей и лекций?
Это очень просто – нужна только регистрация на сайте.
Есть ли связь между искусством и наукой?
Искусство и наука — то, без чего человек с давних времен не может представить свою жизнь. Однако связаны ли они между собой? Или все же это две параллельные, между которыми уютно восседает человечество?
Свободный автор: Георгий Сердюков
Не вызывает сомнений, что наука и искусство — два безусловных двигателя человечества. Это они являются субстратом творчества людей, их общей идентичности. В наши дни искусство и наука значительно отстоят друг от друга, и это достаточно любопытное культурное явление. Чарльз Сноу в середине прошлого века с тревогой размышлял над проблемой «двух культур», где искусство и гуманитарные науки вступают в противоречия и конфликты с естественными и точными науками. Сноу пишет: «Две культуры противоположны мудрости человека, они вызывают извращение и трагедию свободы и творчества». Писатель замечает, что если вовремя не окончить эту острую полемику, а это возможно только через сближение, примирение «двух культур», то человеческая культура может оказаться на краю пропасти.
Чарльз Сноу в середине прошлого века с тревогой размышлял над проблемой «двух культур», где искусство и гуманитарные науки вступают в противоречия и конфликты с естественными и точными науками. Сноу пишет: «Две культуры противоположны мудрости человека, они вызывают извращение и трагедию свободы и творчества». Писатель замечает, что если вовремя не окончить эту острую полемику, а это возможно только через сближение, примирение «двух культур», то человеческая культура может оказаться на краю пропасти.
Однако всегда ли искусство и наука были автономны? В прежние века, как, например, в эпоху Возрождения, их связи были значительно крепче. Философ Томас Кун отмечает, что в течение столетий — и во времена античности, и в ранней истории Европы — живопись наравне с наукой являлась областью, где был виден кумулятивный рост. Художники и критики с трепетом фиксировали плоды открытий в живописи — от сокращения в ракурсе до контрастов, тем самым стремясь к идеальному изображению природы. «Леонардо да Винчи был только одним из многих, кто свободно переходил от науки к искусству и наоборот, и только значительно позднее они стали категорически различаться».
Как тут не вспомнить и М. В. Ломоносова, ученого, проникшего в сущность природы, взявшего в орбиту своих интересов не только естественные науки, но и мусические. Его открытия в области физики, химии, географии, геологии, металлургии, астрономии действительно впечатляют.
Но нельзя обойти стороной и его литературные заслуги: учение о «трёх штилях» в своем рассуждении «О пользе книг церковных в российском языке», знаменитую реформу стихосложения и, конечно же, его выдающуюся поэтическую деятельность.
Позднее примером слияния естественно-научного мышления с художественным стало творчество И.В. Гете. Ему было близко неделимое на эти две категории изучение мира. Он также считал, что и ученый, и художник воплощают одну цель в своих творческий усилиях – постижение тайн мироздания. И именно через такую оптику сам Гете видел свою деятельность, не допуская относится к себе исключительно как к поэту. Такой исследовательский метод привел Гете к открытиям в остеологии, минералогии, метеорологии, ботанике, в учении о цвете и т.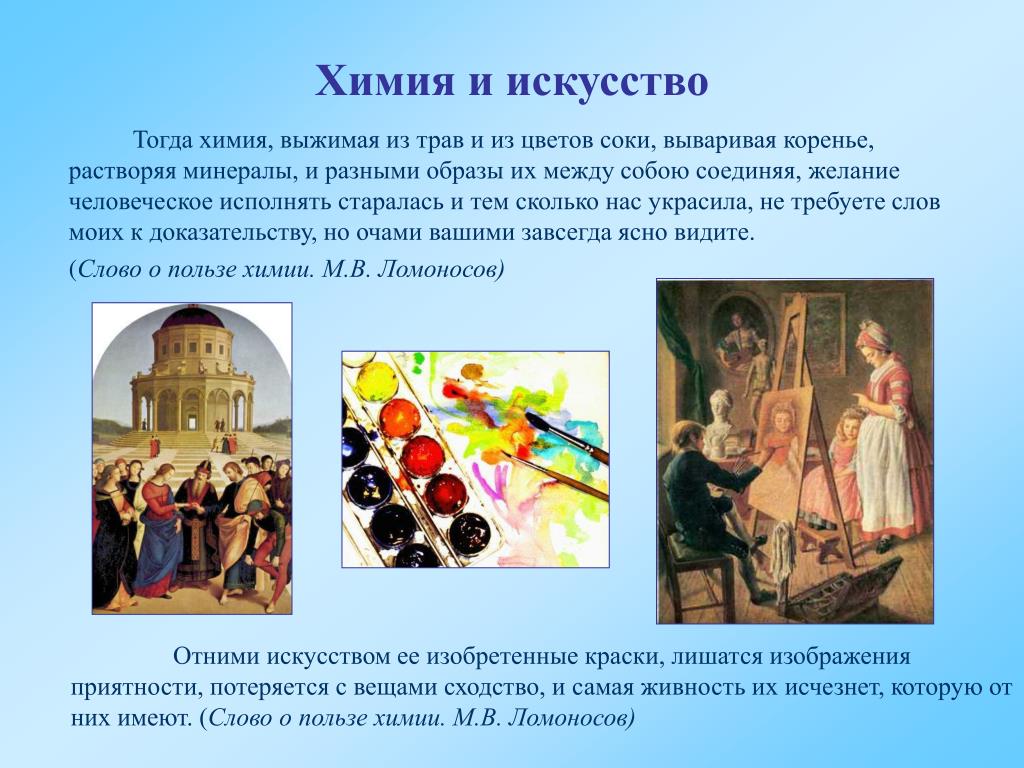 д.
д.
Промышленная революция создала эпоху специализации, когда наука обособляется, а ее открытия позволяют освещать те области, которые еще недавно были таинственными и малоизученными. Искусство же двигалось своим путем, все больше игнорируя науку. Разумеется, эта взаимная удаленность давала каждой из этих сфер возможность предельно сконцентрироваться на собственных достижениях. Со временем быть образованным человеком уже не зачало разбираться в обеих сферах.
И в наши дни наука и искусство все еще отстоят друг от друга, однако эти области сообщающиеся. Искусство традиционно использует научные знания: математические и оптические представления влияют на развитие архитектуры и живописи. Но бесспорен и тот факт, что искусство способно принести ученому плодотворные интуиции, одарить его тонкими смыслами, преумножить его чувствительность, способность анализировать, расширить горизонты умственного созерцания.
Kulick Magazine — журнал про культуру и искусство. Смотрите больше наших практических видео, читайте материалы и творите!
Наука и искусство.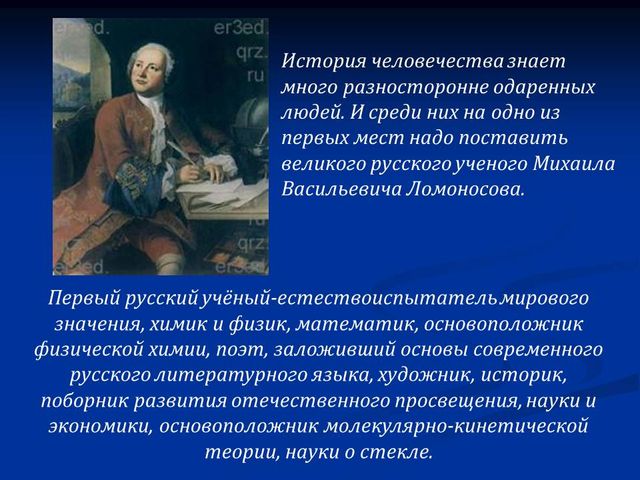 Если наука прославляет в человеке разум, то что открывает в нем искусство? Гегель писал: «Всеобщая потребность в искусстве проистекает из разумного стремления человека духовно осознать внутренний и внешний мир, представив его как предмет, в котором он узнает собственное «я».
Если наука прославляет в человеке разум, то что открывает в нем искусство? Гегель писал: «Всеобщая потребность в искусстве проистекает из разумного стремления человека духовно осознать внутренний и внешний мир, представив его как предмет, в котором он узнает собственное «я».
Следовательно, способность осознавать мир «духовно» (а также разумно) и есть то, что резко отличает человека от окружающих его живых существ. Более того, если признаки осмысленного поведения можно обнаружить и у животных (дельфинов, собак, лошадей и т.д.), то наличие у них способностей к творчеству, эстетических чувств доказать чрезвычайно сложно (если не невозможно).
Так же, как наука, искусство вполне может претендовать на особое, автономное, место в культуре, поскольку обладает целым рядом специфических черт.
Наука отражает мир в законах, теориях, понятиях, искусство – в художественном образе. Художественный образ – это всегда личное, субъективное отношение художника к изображаемым событиям. В науке же мы имеем дело с беспристрастным миром понятий, теорий, законов, в них отсутствует лицо ученого. Искусство призвано будить в человеке прежде всего его переживания, эмоции. Однако как и наука искусство призвано отображать реальный мир, и каждая из этих видов деятельности выделяет свой аспект деятельности и способы исследования. Они дополняют друг друга, расширяя горизонты мира и освобождая человека от плена страхов и зависимости от внешних, порой враждебных, ему сил.
В науке же мы имеем дело с беспристрастным миром понятий, теорий, законов, в них отсутствует лицо ученого. Искусство призвано будить в человеке прежде всего его переживания, эмоции. Однако как и наука искусство призвано отображать реальный мир, и каждая из этих видов деятельности выделяет свой аспект деятельности и способы исследования. Они дополняют друг друга, расширяя горизонты мира и освобождая человека от плена страхов и зависимости от внешних, порой враждебных, ему сил.
Искусство, в отличие от науки, «раскрывает истину в чувственной форме» (Гегель), способствует более глубокому пониманию людьми жизни, привитию к ней любви, благоговению перед ее красотой. Искусство в гораздо большей степени, чем наука, способствует объединению людей (от простолюдинов до аристократов, оно не знает национальных различий), оно мощный фактор общения. «Искусство … само по себе имеет свойство соединять людей. Всякое искусство делает так, что люди, воспринимающие чувство, переданное художником, соединяются душой, во-первых, с художником и, во-вторых, со всеми людьми, получившими то же впечатление».
Искусство отображает жизнь специфическими средствами: словом, красками, звуками, линиями, объемами и т.д., создавая запоминающиеся образы.
Несмотря на отличия, эти две формы духовной деятельности взаимодействуют, поскольку представляют собой особый вид человеческой деятельности, ориентированный на познание, освоение и оценку окружающего мира.
Взаимодействие науки и искусства осуществляется в рамках эстетики – науки о законах искусства. Саму эстетику определяют как теорию чувственного познания. В рамках эстетики сложилось такое направление, как искусствознание, включающее в себя историю искусства, теорию искусства и художественную критику. Искусствознание, в свою очередь, тесно связанно с философией, психологией, семиотикой, что породило целый спектр таких дисциплин, как философия искусства, психология искусства, социология искусства и т.д. В свою очередь, в рамках самого искусства появляются дисциплины, исследующие отдельные виды искусства – музыковедение, киноведение, театроведение и др.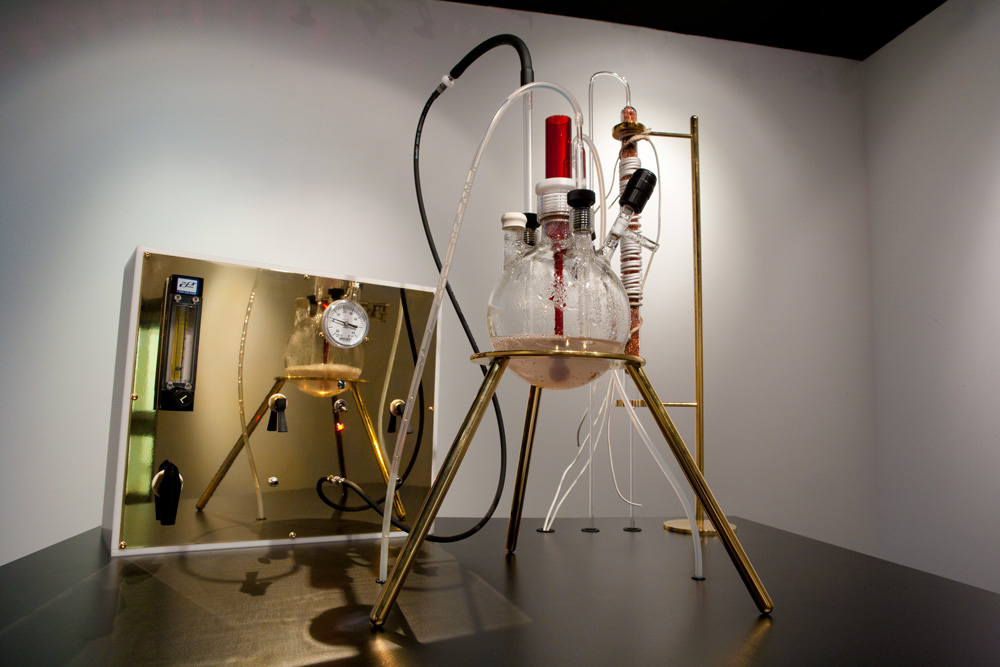
Научно-технический прогресс оказывает влияние на искусство в форме проникновения в него техники. История искусства запечатлела вхождение в искусство разных видов техники – множительной в виде примитивных клише до современных полиграфических машин, от фонографа до современных записывающих устройств, от первых литейных форм до автоматических штамповальных и разливочных установок.
Взаимодействие техники и искусства привело к появлению новых технических видов искусства, таких как художественная фотография, кино, телевидение. Научно-техническая революция вызвала к жизни такие виды творческой деятельности, как дизайн, способствовала появлению в архитектуре не только новых форм, но и использованию новых видов строительных материалов (стекла, пластика, алюминия взамен дерева, кирпича, мрамора).
В свою очередь, идеи психоанализа отразились в живописи в таком направлении, как сюрреализм; концепция кубизма в искусстве также сформировалась не без влияния науки (геометрии).
Влияние науки на искусство не является однозначно положительным. Достаточно одного примера: техника во многом способствовала превращению искусства в псевдоискусство, а культуры – в «массовую культуру» (живой голос и фонограмма – «вещи» разные; запись на диске литературного произведения и его чтение – опять-таки «вещи» разные и т.д.). Кроме того, некоторые виды искусства (произведения живописи, скульптуры, музыки, архитектуры) создаются «раз и навсегда», они не могут быть подвергнуты изменениям или усовершенствованию, и в этом смысле искусство (некоторые его виды) консервативно, оно основано на традициях. Наука же динамична, знания в ней быстро устаревают. За последние два тысячелетия в физике, математике, биологии, химии, медицине, не говоря о технике, шла непрерывная переоценка ценностей, происходили поистине революционные изменения. Значит ли это, что наука деформирует ценности? Ответить однозначно на этот вопрос сложно, однако совершенно очевидно, что культура на сегодняшний день находится в состоянии кризиса, характерной чертой которого является распад традиционных духовных ценностей.
Достаточно одного примера: техника во многом способствовала превращению искусства в псевдоискусство, а культуры – в «массовую культуру» (живой голос и фонограмма – «вещи» разные; запись на диске литературного произведения и его чтение – опять-таки «вещи» разные и т.д.). Кроме того, некоторые виды искусства (произведения живописи, скульптуры, музыки, архитектуры) создаются «раз и навсегда», они не могут быть подвергнуты изменениям или усовершенствованию, и в этом смысле искусство (некоторые его виды) консервативно, оно основано на традициях. Наука же динамична, знания в ней быстро устаревают. За последние два тысячелетия в физике, математике, биологии, химии, медицине, не говоря о технике, шла непрерывная переоценка ценностей, происходили поистине революционные изменения. Значит ли это, что наука деформирует ценности? Ответить однозначно на этот вопрос сложно, однако совершенно очевидно, что культура на сегодняшний день находится в состоянии кризиса, характерной чертой которого является распад традиционных духовных ценностей.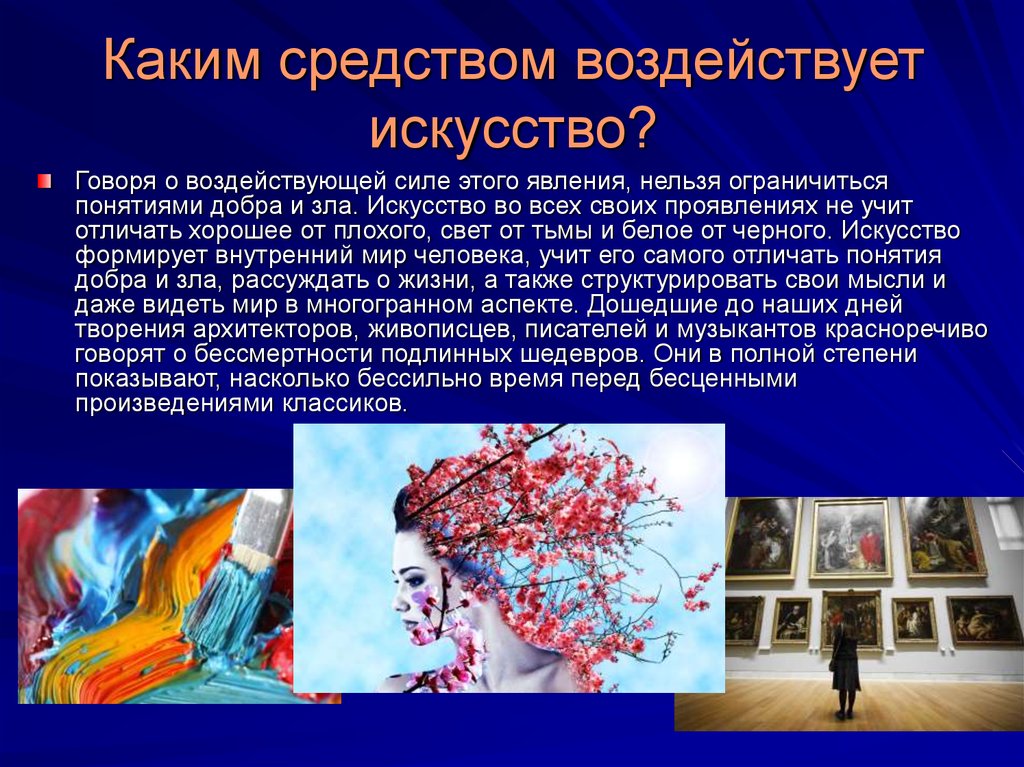 Однако вселяет надежду и поддерживает оптимизм в этом вопросе один немаловажный фактор: прогресс в искусстве не носит прямолинейного характера, как в науке, оно развивается своеобразными толчками, не зависящими от опытного знания, внутренними малоизученными импульсами. Чем объяснить, к примеру, взлет художественного творчества в эпоху, названную Серебряным веком в культуре России? Влияние социального фактора здесь мало улавливается, поскольку уровень развития производительных сил, социальный строй или информированность людей того периода уступают сегодняшним показателям.
Однако вселяет надежду и поддерживает оптимизм в этом вопросе один немаловажный фактор: прогресс в искусстве не носит прямолинейного характера, как в науке, оно развивается своеобразными толчками, не зависящими от опытного знания, внутренними малоизученными импульсами. Чем объяснить, к примеру, взлет художественного творчества в эпоху, названную Серебряным веком в культуре России? Влияние социального фактора здесь мало улавливается, поскольку уровень развития производительных сил, социальный строй или информированность людей того периода уступают сегодняшним показателям.
Так или иначе, остается признать факт: наука становится доминирующим фактором новой культуры (как когда-то религия), а другие формы духовной деятельности (искусство, мораль, религия), возможно, будут оказывать сдерживающее влияние на динамизм науки.
ИСКУССТВО,1) художественное творчество в целом — литература, архитектура, скульптура, живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, музыка, танец, театр, кино и другие разновидности человеческой деятельности, объединяемые в качестве художественно-образных форм освоения мира.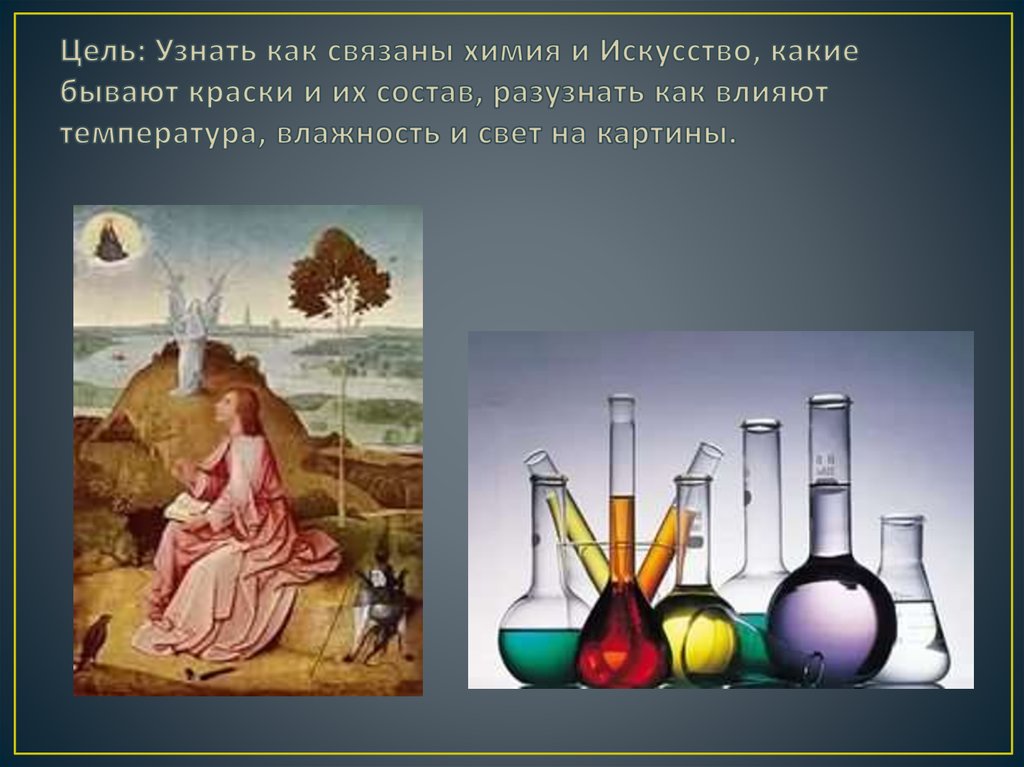 В истории эстетики сущность искусства истолковывалась как подражание (мимезис) , чувственное выражение сверхчувственного и т. п.2) В узком смысле — изобразительное искусство.3) Высокая степень умения, мастерства в любой сфере деятельности.НАУКА, сфера человеческой деятельности, функция которой — выработка и теоретическая систематизация объективных знаний о действительности; одна из форм общественного сознания; включает как деятельность по получению нового знания, так и ее результат — сумму знаний, лежащих в основе научной картины мира; обозначение отдельных отраслей научного знания. Непосредственные цели — описание, объяснение и предсказание процессов и явлений действительности, составляющих предмет ее изучения, на основе открываемых ею законов. Система наук условно делится на естественные, общественные, гуманитарные и технические науки. Зародившись в древнем мире в связи с потребностями общественной практики, начала складываться с 16-17 вв. и в ходе исторического развития превратилась в важнейший социальный институт, оказывающий значительное влияние на все сферы общества и культуру в целом.
В истории эстетики сущность искусства истолковывалась как подражание (мимезис) , чувственное выражение сверхчувственного и т. п.2) В узком смысле — изобразительное искусство.3) Высокая степень умения, мастерства в любой сфере деятельности.НАУКА, сфера человеческой деятельности, функция которой — выработка и теоретическая систематизация объективных знаний о действительности; одна из форм общественного сознания; включает как деятельность по получению нового знания, так и ее результат — сумму знаний, лежащих в основе научной картины мира; обозначение отдельных отраслей научного знания. Непосредственные цели — описание, объяснение и предсказание процессов и явлений действительности, составляющих предмет ее изучения, на основе открываемых ею законов. Система наук условно делится на естественные, общественные, гуманитарные и технические науки. Зародившись в древнем мире в связи с потребностями общественной практики, начала складываться с 16-17 вв. и в ходе исторического развития превратилась в важнейший социальный институт, оказывающий значительное влияние на все сферы общества и культуру в целом. Объем научной деятельности с 17 в. удваивается примерно каждые 10-15 лет (рост открытий, научной информации, числа научных работников) . В развитии науки чередуются экстенсивные и революционные периоды — научные революции, приводящие к изменению ее структуры, принципов познания, категорий и методов, а также форм ее организации; для науки характерно диалектическое сочетание процессов ее дифференциации и интеграции, развития фундаментальных и прикладных исследований.
Объем научной деятельности с 17 в. удваивается примерно каждые 10-15 лет (рост открытий, научной информации, числа научных работников) . В развитии науки чередуются экстенсивные и революционные периоды — научные революции, приводящие к изменению ее структуры, принципов познания, категорий и методов, а также форм ее организации; для науки характерно диалектическое сочетание процессов ее дифференциации и интеграции, развития фундаментальных и прикладных исследований.
наука-работа ума. искусство-полет души. наука развивает цивилизацию. Развитая цивилизация не дает развится искусству. раньше многое делалаось руками, а сейчас все автоматизировано. думать особо не приходится и развивать воображение творчество.
Искусство это творение человека, а науку создала природа, и обосновал человек…
Тайны природы успешнее выпытываются искусством, чем при наблюдении естественного ее течения…
. Впитав мудрость искусства наука может по-новому взглянуть на свои извечные проблемы, и это может стать началом нового витка научного прогресса! Поэтому алгебру проверяют гармонией. . . Может быть, будущее науки — это искусство? И нет между ними отличия?
. . Может быть, будущее науки — это искусство? И нет между ними отличия?
«Наука и Искусство» — выступление Леонида Романкова в Хорватии
Дамы и господа, коллеги, друзья!
Я уверен, что большинство из вас знает про биологический эксперимент с «домиком крысиного счастья».
На всякий случай, напомню: есть замкнутое пространство, в котором для крыс–самцов есть всё – питьевая вода, зерно, самки… Но есть ещё и тёмный узкий лаз, ведущий неизвестно куда. Так вот, оказалось, что 10% крыс, с учащённым сердцебиением, мочась от страха, всё-таки пытаются пролезть в этот лаз.
Их задача – узнать больше об окружающем мире, чтоб в случае чего хотя бы знать куда бежать.
Вот аналогом этих крыс в человеческом обществе
и являются люди искусства и люди науки, и, я надеюсь, все мы, собравшиеся в
этом зале.
Теперь я хотел бы дать очень приблизительные определения
терминов, которые будут встречаться в тексте моего сообщения:
- Искусство – это процесс и результат создания художественного произведения, акта искусства (писать стихи, рисовать картины, сочинять музыку…).

- Культура – это процесс и результат восприятия акта искусства, художественного произведения (читать стихи, смотреть картины, слушать музыку…)
- Наука – это процесс и результат получения нового знания, которое может быть воспроизведено другими исследователями при соблюдении тех же начальных условий.
Я полагаю, вслед за многими авторитетами, что наука и искусство — суть два пути к увеличению знания об окружающем мире.
- Лев Толстой: «Наука и искусство так же тесно связаны между собой, как легкие и сердце…»
- Юрий Лотман — искусство и наука: «…Два глаза человеческой культуры…»
- Академик Лихачёв: «искусство можно рассматривать как один из видов познания действительности…»
Правда, я бы уточнил высказывание Льва Толстого «Наука и искусство – как мозги и сердце…»
Наука использует
логический, постепенный, доказательный путь, искусство – интуитивный, метафорический,
образный.
Можно сказать, что
искусство пытается заглянуть, забежать вперёд, не утруждая себя
доказательствами, а только как бы чувствуя природу вещей. И на этом пути иногда
возникают любопытные открытия, которые потом подтверждаются наукой, или хотя бы
принимаются во внимание.
Искусство — науке
Некоторые примеры:
Так, на мой взгляд. Достоевский в своих романах, в особенности в «Братьях Карамазовых», восставал против причинно-следственного всеобъемлющего детерминизма, против 100% заданности результата социальных или иных действий. предвосхищая таким образом теорию вероятности.
- Довольно много написано о влиянии романов Достоевского на Эйнштейна, связанных не только с вероятностным подходом Достоевского, но с его парадоксальностью описываемых ситуаций. Ведь и теория относительности Эйнштейна парадоксальна…
- «Достоевский восстаёт против лапласовского детерминизма, постулирует стохастическое правдоподобностей соединение причины и следствия».

Отец Павел Флоренский, (1882-1937), поэт и
теолог, расстрелянный в ГУЛАГе.
- В его работах широко охвачены многие теоретические проблемы, намного определяющие время. Уже в начале нашего века он пришел к идеям, которые позднее стали основополагающими в кибернетике, теории искусства, семиотике. Так, исследование, посвященное природе и живописи, «Обратная перспектива» — предваряют теоремы и теории множеств, что в начале XX века, когда он это сочинял, было совершенно новой областью математики. Он описал Закон возрастания Хаоса, который впоследствии стал законом возрастания энтропии.
Писатель и поэт Андрей Белый, в 1921 году , использовавший термин «атомная бомба» в своём стихотворении.
Писатель Хулио Кортасар, который в рассказе «Преследователь», посвящённый Чарли Паркеру, развивал идеи нелинейности времени.
Может быть, об этом же думал Сальвадор Дали,
рисуя свои знаменитые картины, посвящённые текущему времени.
Или Рене Магритт, который как бы подсказывал
одно из правил для изобретателей – посмотри на решение задачи с прямо
противоположной стороны.
Будет уже трюизмом напоминать о писателях-фантастах — от Герберта Уэллса с его предсказанием искусственной радиоактивности, Жюль Верна с подводными лодками, Алексея Толстого с мощным лазером (гиперболоидом), Чапека с роботами, и т.д., и т.п.
Особенности работы мозга
Известно, что два полушария человеческого мозга имеют определённую специализацию.
- Левое полушарие отвечает за логику и анализ. Именно оно анализирует все факты. Числа и математические символы также распознаются левым полушарием. Информация обрабатывается левым полушарием последовательно по этапам.
- Основной сферой специализации правого полушария является интуиция.Правое полушарие специализируется на обработке информации, которая выражается не в словах, а в символах и образах.
Естественно
предположить, что занятия наукой – прерогатива людей с особенно развитым левым
полушарием, а искусством – тем у кого более сильно развито правое. Понятно, что
у всех людей в реальности активны оба полушария, вопрос только в соотношении.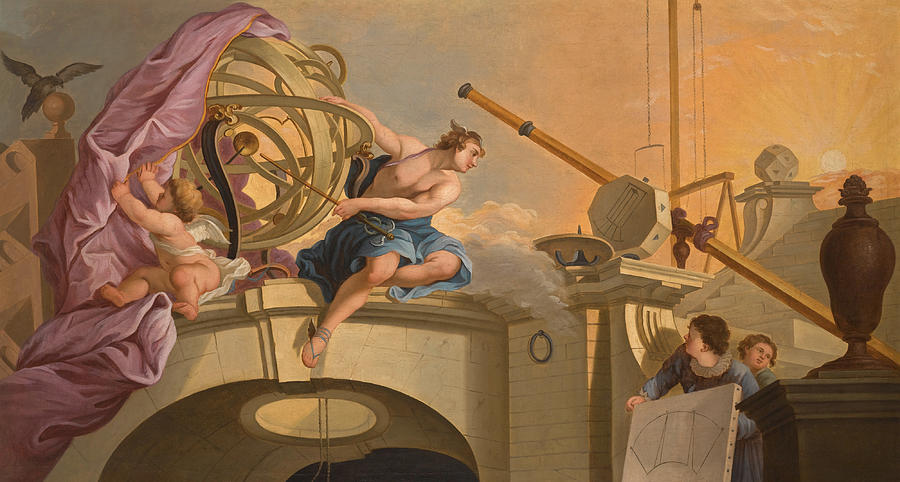
Иногда оно одинаковое, это амбидекстры (0,4%).
Примеры самых успешных учёных, показывают, что культурные знания помогают в создании наиболее смелых теорий.
Достаточно вспомнить: Омара Хайям (11 — 12 вв.) – поэта и математика, Александра Бородина (19 век) композитора и химика, Норберта Винера (20 век), литератора и кибернетика, Альберта Швейцера (20 век) врача и музыканта, не говоря уже о таких титанах, как Леонардо да Винчи.
Отсюда следует, что
для большого учёного необходимо быть сведущим в культуре и искусстве.
Что ещё может дать
искусство и культура науке? Существует мнение, что красота – понятие, присущее
искусству, может служить доказательством истинности математических формул
Б. Рассел писал “Математика владеет не только истиной, но и высшей красотой – красотой отточенной и строгой, возвышенно чистой и стремящейся к подлинному совершенству, которое свойственно лишь величайшим образцам искусства”.
В бытность мою инженером-схемотехником у нас существовало мнение, что быстро можно разработать только сложную схему, а простая требует значительно большего труда. Здесь тоже есть подспудный критерий «красоты».
Здесь тоже есть подспудный критерий «красоты».
Есть ещё интересные
примеры – я уже упоминал в тезисах, что мой дедушка, Николай Давиденков,
крупный специалист в физике металлов, будучи хорошим пианистом. изобрёл
струнный метод измерения деформаций строительных конструкций. Он обратил
внимание на тот факт, что частота колебаний струны зависит от её натяжения. И,
следовательно, изменение натяжения меняет частоту её колебаний.
Наука – искусству
С другой стороны, научные знания и подходы способствуют как освоению новых возможностей в искусстве (новые составы красок для живописи, электронное искусство, 3D технологии в кино и т.п.), так и разработке новых тем в литературе, поэзии, живописи и т.д. – начиная от космических путешествий и кончая строением Вселенной.
Итак, искусство и культура:
- служат задаче познания мира, давая интуитивные решения научных проблем, используя субъективный подход
- помогают учёным находить нетривиальные решения;
- создают критерии отбора правильных решений в науке.

Наука
- служит задаче познания мира, давая логические решения научных проблем, используя объективный подход;
- использует искусство и культуру для создания теорий и гипотез;
- снабжает искусство новыми знаниями и возможностями.
Анализ взаимодействия между наукой и искусством лёг в основу программы курса «Кентавристика», разработанного на кафедре истории науки РГГУ профессором , член-корр Д.С.Даниным в 1997 году (прекратился в связи со смертью Данина в 2000 году).
И в заключение:
Как-то я встретил на улице знакомого художника, который уверял меня, что все беды – войны, оружие, болезни идут от науки и технических изобретений, в то время, как искусство никому не может причинить зла. Он уехал от меня на метро, а я пошел в кино, и увидел фильм, полный насилия…
Благодарю за внимание.
Леонид Романков
Разделы сайта:
Предметы:
|
Развитие культуры сопровождается возникновением и становлением относительно
В современной культуре можно уже говорить об относительной их самостоятельности
МИФ
Миф есть не только исторически первая форма культуры, но и изменения душевной
Миф — наиболее древняя система ценностей. Считается, что в целом культура
В этих условиях выбор и ориентация личности раскрепощается и, следовательно,
РЕЛИГИЯ
Религия, как и миф, выражает потребность человека в ощущении своей
Религия стала доминировать в культуре вслед за мифом. Ценности светской культуры
Светские ценности более условны, они легче подвергаются преобразованиям и
ИСКУССТВО
Параллельно с мифом и религией в истории культуры существовало и действовало
Искусство продуцирует свои ценности за счет художественной деятельности,
Искусство рефлексирует мир, воспроизводит его. Сама рефлексия может иметь три
Роль искусства в развитии культуры противоречива. Оно конструктивно и
ФИЛОСОФИЯ
Рассуждая о духовных составляющих культуры, нельзя не упомянуть философию.
НАУКА
Наука имеет своей целью рациональную реконструкцию мира на основе постижения
Наука — один из новых институтов в структуре культуры. Однако значение ее быстро
Гуманистическая ценность, культурогенная роль науки неоднозначны. Если ценность
Познание, будучи жизненно важной потребностью человека, приобрело вид
Самый важный результат научного прогресса — возникновение цивилизации, как
Современная история человечества без науки не представима. Наука принадлежит
Наукоемкость культуры возрастает и это показатель прогресса человеческой
ИДЕОЛОГИЯ
До недавнего времени особое внимание уделялось еще одному компоненту духовной
Следовательно, идеология представляет собой самосознание социального субьекта:
Таким образом, нельзя расматривать идеологию только как отдельную составляющую
НРАВСТВЕННОСТЬ
Нравственность возникает после того, как уходит в прошлое миф, где человек
Возможно мною было уделено черезмерное внимание духовной составляющей культуры,
СОЦИАЛЬНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ КУЛЬТУРЫ
О культуре невозможно говорить и рассуждать как о чем-то абстрактном,
Пожалуй, наиболее значимым компонентом, где сталкиваются материальная и духовная
Предприятия, как известно, существуют для того, чтобы производить материальные
Содержание организационной культуры не является чем-то надуманным или случайным,
Каково же содержание организационной культуры? Ведущую роль в культуре
Помимо общих ценностей, определяющих функционирование производственных
Способность предприятия создать ключевые ценности, которые объединят усилия всех
Формирование ключевых ценностей или принципов деятельности предприятия имеет
Большое внимание , по мнению, крупнейшего американского специалиста по проблемам
|
3. Наука в системе культуры: наука и искусство; наука и религия; наука и философия. — История и философия науки
3. Наука в системе культуры: наука и искусство; наука и религия; наука и философия.
(Science in the culture: science and art, science and religion, science and philosophy).
Современная наука – это поистине рецепт жизни. Наука участвует в той или иной степени во всех видах творчества, обслуживает все виды материальной и духовной деятельности людей, плодами которой пользуются все члены общества.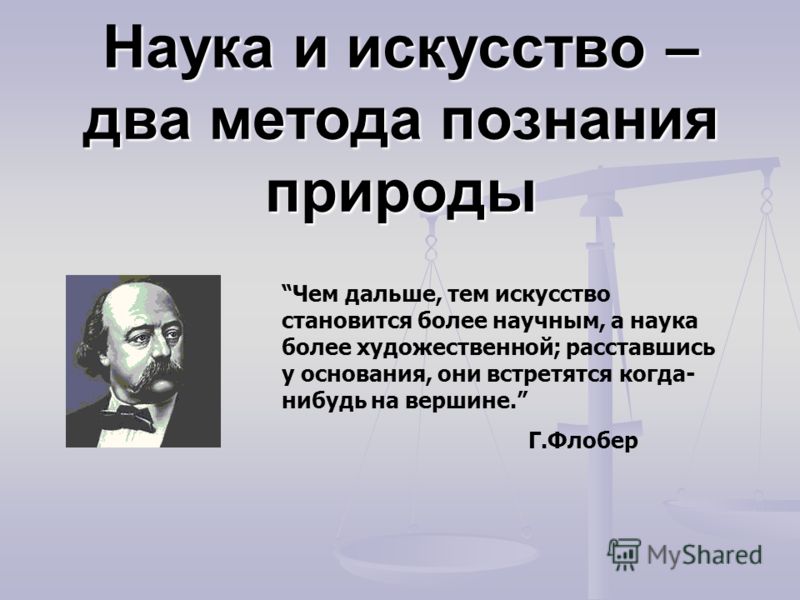
Однако развитие науки – это важная, но не единственная ветвь культурного прогресса. Другой, не менее важной, является развитие его гуманитарной ветви, эстетической культуры и его ядра – искусства, в первую очередь.
Искусство – самая многоплановая характеристика общества: здесь вся его биография, его анамнез и эпикриз, обвинительное заключение и аттестат его социальной зрелости. Но искусство – не только портрет, но и автопортрет данного общества. Искусство сегодня – барометр, чутко реагирующий на все изменения в политической, нравственной, духовной атмосфере общества.
Поскольку характер развития науки и искусства в каждую эпоху детерминируется в конечном итоге социальными факторами, отражающими особенности этой эпохи, сциентистский характер нынешнего столетия, несомненно, сказывается и на современном искусстве, как и на всей эстетической культуре в целом.
Действительно, наука воздействует и на факторы, обусловливающие состояние и развитие искусства и определяющие самые различные его параметры. Наука воздействует и на самое искусство, причем на самые различные его компоненты, стороны, аспекты – на сам процесс художественного творчества, на его субъекта – художника, на продукты этого творчества, влияя таким образом на его содержание и формы, направление, масштабы и даже темпы развития, определяя, в известной мере, его эффективность, его социальную значимость.
Наука воздействует и на самое искусство, причем на самые различные его компоненты, стороны, аспекты – на сам процесс художественного творчества, на его субъекта – художника, на продукты этого творчества, влияя таким образом на его содержание и формы, направление, масштабы и даже темпы развития, определяя, в известной мере, его эффективность, его социальную значимость.
Преобразуя окружающий мир,
оказывая многоплановое влияние на самого человека, наука воздействует и на
объект искусства. Наука, далее, вооружает художника новейшими и достовернейшими
знаниями о мире, обществе, о себе самом, воздействуя на его духовный мир,
определяя всю философию его жизни и творчества. Наука воздействует не только на
характер и содержание творчества, не только на его формы, но и направление его
развития, на количественные и качественные характеристики, формы и средства
тиражирования, распространения и восприятия, на эффективность воздействия
художественных произведений, на способах их хранения и репродукции.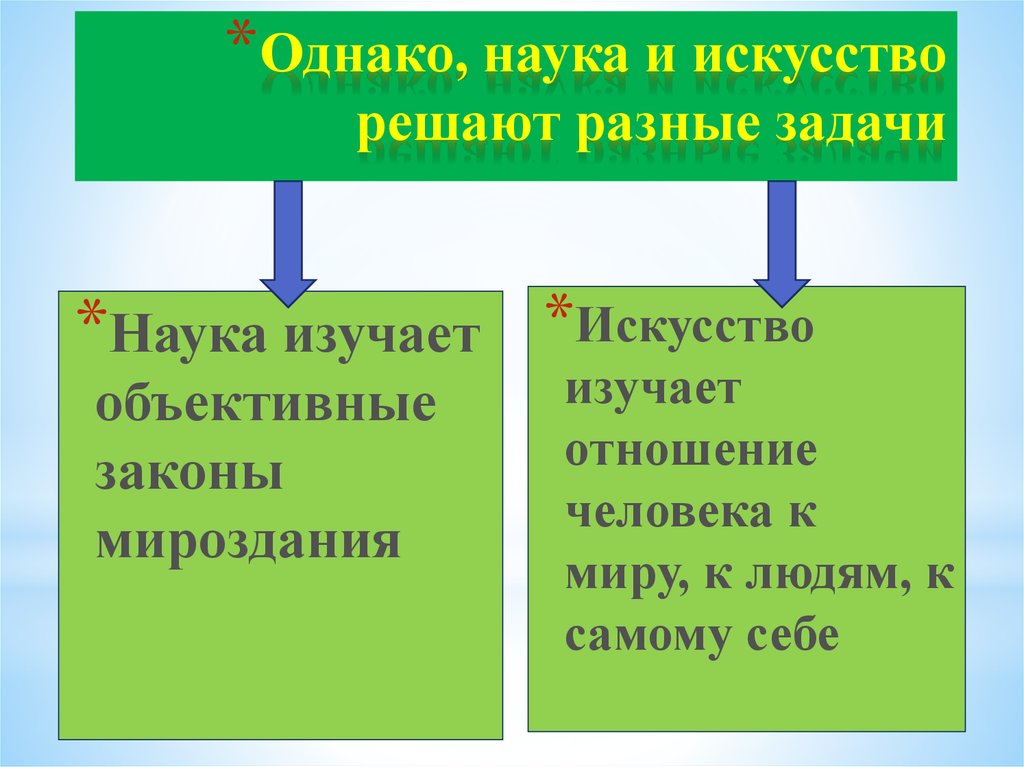
Искусство в наши дни – это уже не обитель избранных, приют
отдохновения для эстетствующих аристократов духа; это не сфера развлечений
отдельных социальных слоев, а важный фактор жизнедеятельности всего социального организма.
Проблема взаимоотношений науки и искусства – традиционный объект
философского анализа, неизменно требующий своего переосмысления в свете нового
исторического опыта. Но при этом она неизменно остается исключительно
многогранной проблемой, требующей всестороннего анализа разнообразными
инструментами исследования.
Проблема эта включает широкий
спектр взаимосвязанных вопросов – о
взаимном воздействии науки и искусства, об их общности и различиях, каждый
из которых оказывается в неразрывной связи с множеством более частных проблем.
В силу этого она выступает то, как проблема
соотношения различных видов творчества, форм мышления, форм отражения
действительности (таких как эмоциональное и рациональное, образное и
понятийное, художественное и теоретическое и т.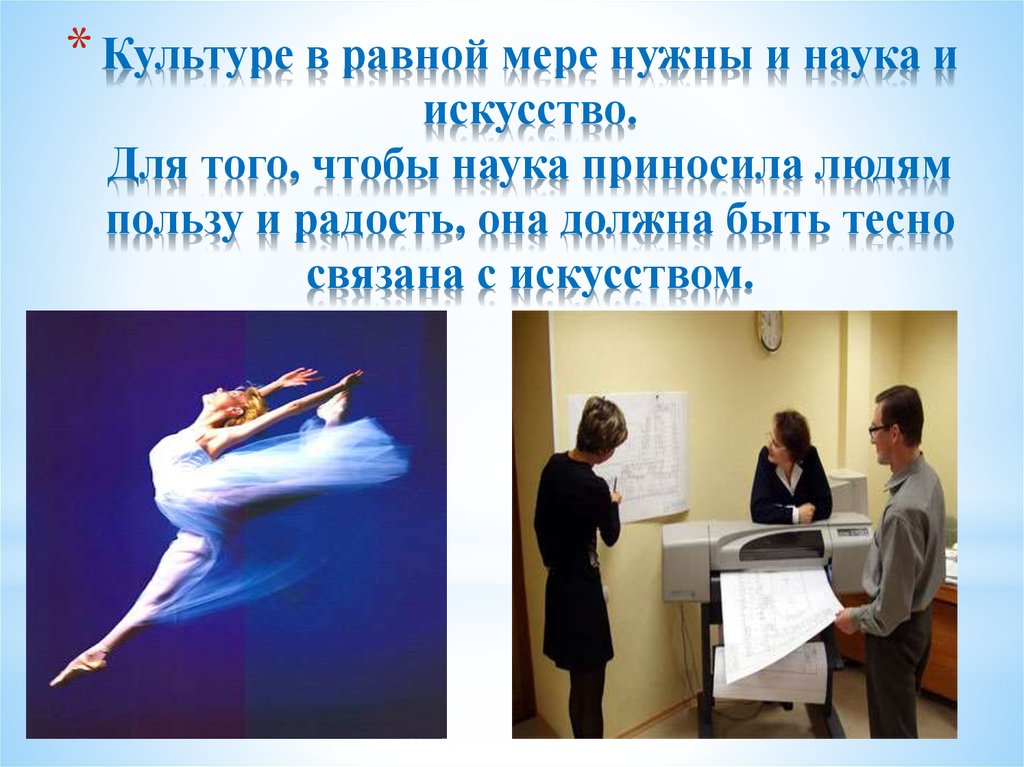 д.), что проявляется в
д.), что проявляется в
соответствующих традициях, течениях, школах; то в более широком аспекте – как проблема соотношения двух сфер культуры,
или, в иной формулировке, как соотношение двух культур (технической и
гуманистической).
Проблема соотношения между
искусством и наукой не исчерпывается рассмотрением вопроса об их связи,
определением степени или характера этой связи (воздействие, взаимодействие,
тождество и т.п.). Связь эта – одна из сторон сложного диалектического
соотношения, ибо общность науки и искусства неразрывно связана с их различием,
их спецификой и изучение одной из сторон оказывается неполноценным. Общность здесь проявляется в различии, а последнее таится в самом единстве, соответственно чему
исследование проблемы общности и единства между наукой и искусством требует диалектического подхода,
диалектического анализа и оценки.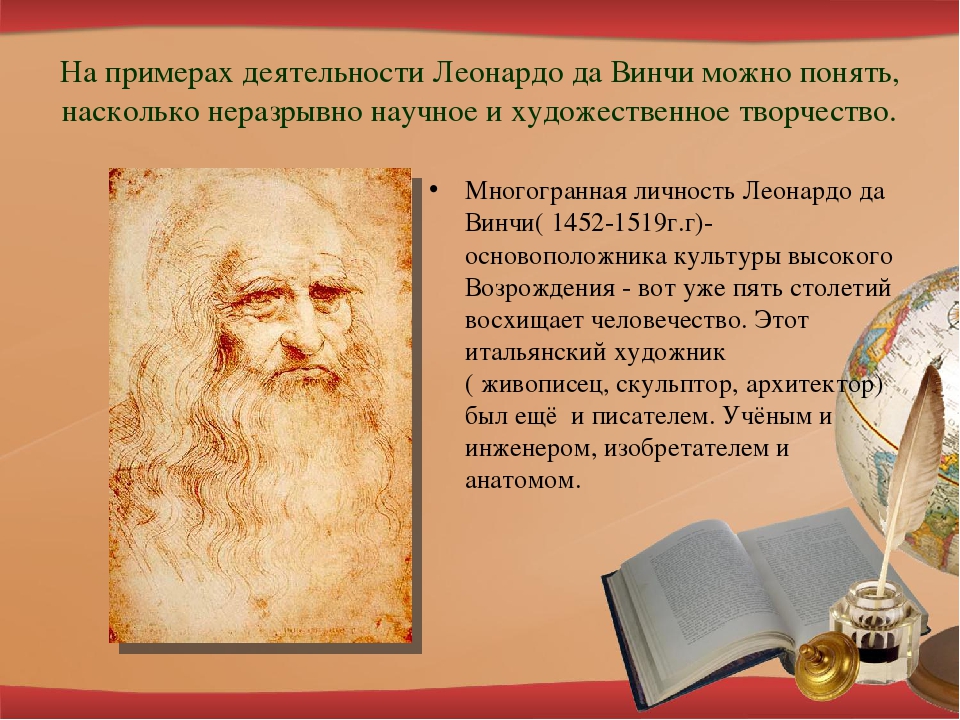
Особый интерес в этом отношении
представляют высказывания выдающихся теоретиков нынешнего столетия – Н.Бора,
М.Борна, В.Гейзенберга, Л.Ландау, Р.Оппенгеймера и других.
Особенности восприятия и выражения его результатов, или, шире, особенности познавательного процесса,
детерминируемые в известной мере искусством, проявляются не только в его
эмоциональной окрашенности, направленности, эмоциональной напряженности.
Воспитывая культуру чувств индивида,
развивая его способность к чувственному познанию, искусство воздействует и на другие характеристики познавательного
процесса, неразрывно связанные с эмоциональной стороной познания, с
чувственным познанием вообще.
Это находит свое выражение в
том, что помимо отмеченной функции стимуляторов научного творчества эстетические понятия, функционирующие в
науке, осуществляют и функцию критериев оценки плодов научного поиска.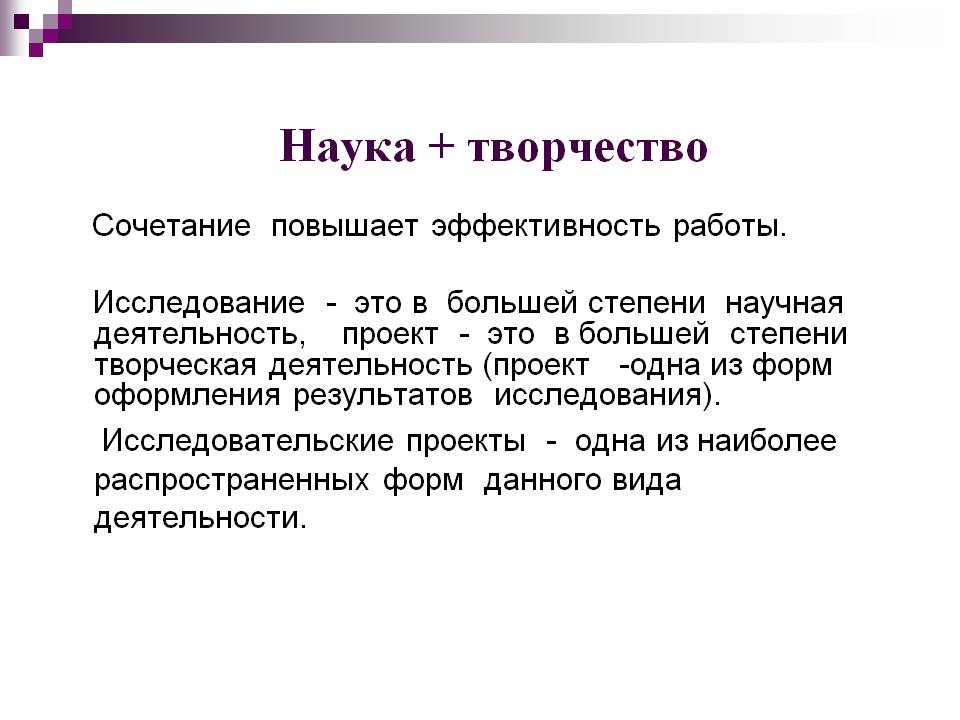
Существуют внешние признаки красоты, например, в самом виде формул, в характере
выражения какого-либо вывода.
Красота научной теории – весьма
важный, а по мнению П.Дирака, даже самый надежный показатель ее истинности. И
хотя последнее высказывание представляется нам явной гиперболой, связь между истиной и красотой – несомненна, что
издревле подтверждалось представителями самых различных областей культуры. И связь эта, как правило, является
двусторонней.
наука и религия
В XX в. основное внимание
уделялось выяснению отношений между наукой и философией, наукой и социальными
структурами, наукой и экономикой, наукой и культурой, и в гораздо меньшей
степени — наукой и религией. Это связано, по-видимому, с особым типом взаимодействия науки и религии в новое время. Этот
особый тип отношений хорошо выражает Гейзенберг, когда он пишет об отстранённости религии от науки,
ссылаясь на некоторые особенности самого христианства. Христианский Бог
Христианский Бог
возвысился над миром, Он непостижим, недосягаем. Он удалился на небеса, поэтому
и Землю вроде как имело смысл рассматривать независимо от Бога. Природные объекты изучаются как
существующие сами по себе, независимо от наблюдателя-исследователя и, в
конечном итоге, от самого Бога. В нормальные (по Куну) периоды развития науки учёный может заниматься своими
экспериментами, никак не соотнося свою деятельность с верой (или не верой)
в Бога.
Проблема соотношения науки и религии становится актуальной, когда речь идёт об основаниях науки, когда встаёт вопрос о её
происхождении, например, о возникновении науки нового времени.
Религия нужна учёному и в другом
случае: ему важно быть уверенным, что мир действительно существует, что это не
иллюзия, что он упорядочен. О таком значении религии для учёного Эйнштейн
писал, что он не может “найти выражения лучше, чем “религия”, для обозначения веры в рациональную природу реальности,
по крайней мере той её части, которая доступна человеческому сознанию.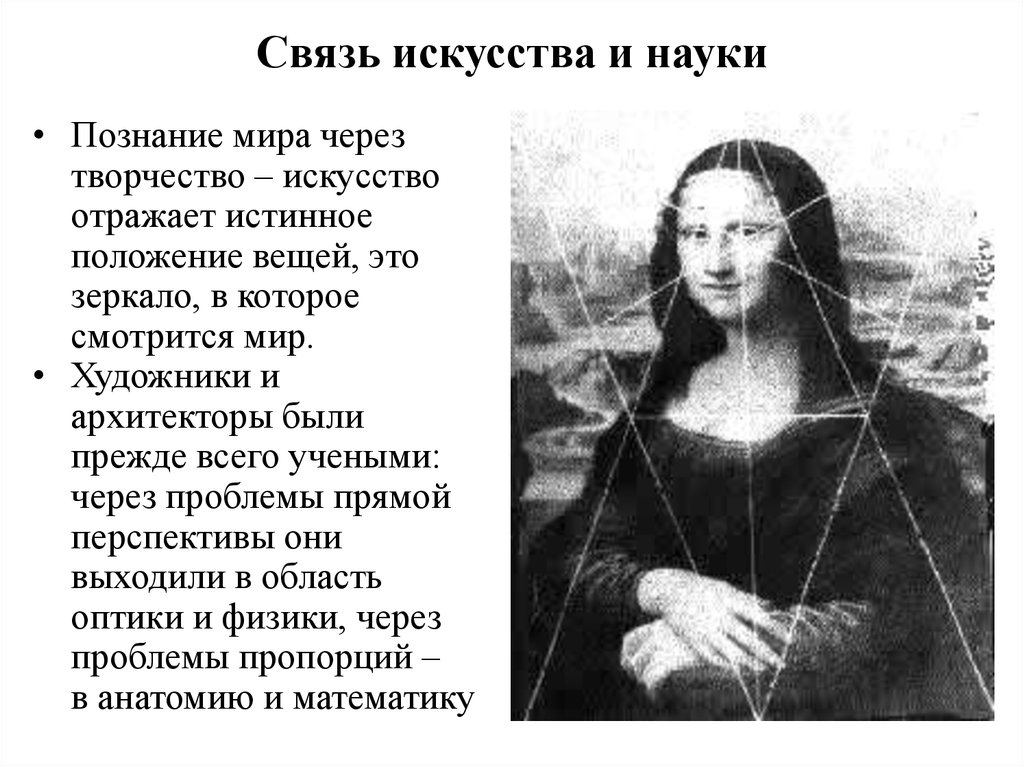 Там, где отсутствует это чувство, наука
Там, где отсутствует это чувство, наука
вырождается в бесплодную эмпирию”. Эйнштейн отказывается обосновывать и
доказывать свою веру в рациональное устройство мира. В беседе с Рабиндранатом
Тагором он говорит, что если есть реальность, не зависящая от
человека, то должна быть истина, отвечающая этой реальности, и отрицание первой
влечёт за собой отрицание последней. “Нашу естественную точку зрения относительно существования истины,
не зависящей от человека, нельзя ни
объяснить, ни доказать, но в неё верят все, даже первобытные люди.
Мы приписываем истине сверхчеловеческую объективность. Эта реальность, не зависящая от нашего существования, нашего опыта,
нашего разума, необходима нам, хотя мы и
не можем сказать, что она означает”. На вопрос Тагора, почему он так уверен в объективности научной истины, Эйнштейн
отвечает, что не может доказать
правильность своей концепции, что это — его религия.
В теологии и в религиозной
философии проблема религии и науки, религии и научной рациональности, разума
Божественного и разума естественного обсуждается постоянно.
Наука и философия.
философия – это совокупность ключевых выводов из основного содержания культуры определенной эпохи, ее квинтэссенция. В этом ее смысл и значение. Философия выступает как особый, теоретический уровень мировоззрения, рассматривает мир в его отношении к человеку и человека в его отношении к миру.
Непосредственной целью науки является описание, объяснение и предсказание процессов и
явлений действительности, составляющих предмет ее изучения, на основе
открываемых ею законов. Философия
всегда в той или иной степени выполняла
по отношению к науке функции методологии познания и мировоззренческой интерпретации ее результатов.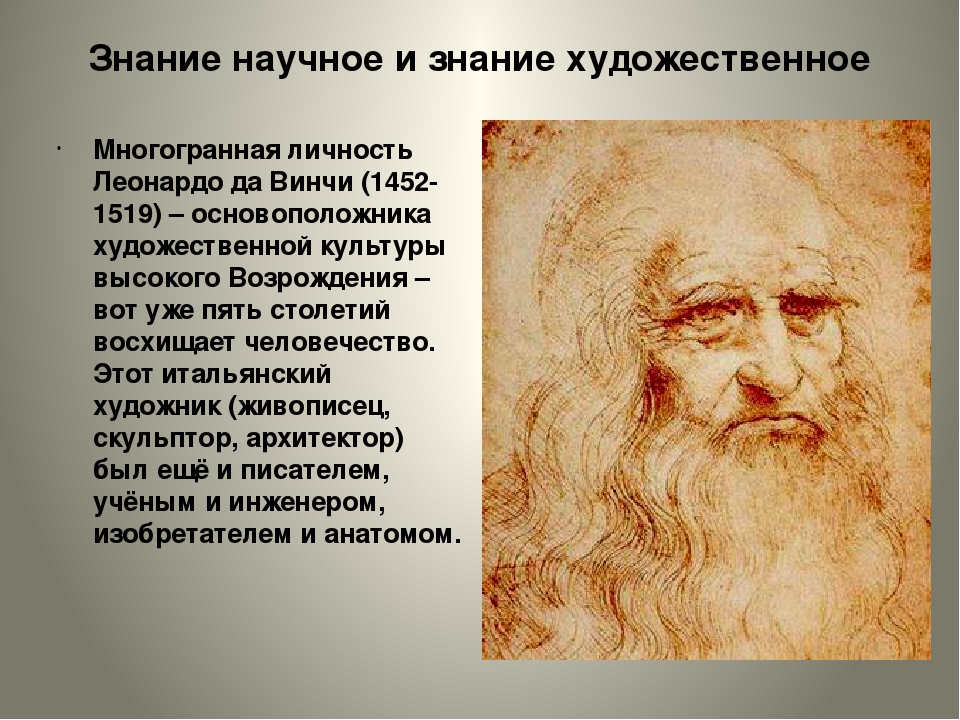 Философию объединяет с наукой также и стремление к теоретической форме построения
Философию объединяет с наукой также и стремление к теоретической форме построения
знания, к логической доказательности своих выводов.
Европейская традиция, восходящая к античности,
высоко ценившая единство разума и нравственности, вместе с тем прочно связывала
философию с наукой. Еще греческие мыслители придавали большое значение
подлинному знанию и компетентности в отличие от менее научного, а порой и
просто легковесного мнения.
В 19-20 веках, на новом этапе развития знаний,
зазвучали противоположные суждения о величии науки и неполноценности философии.
В это время возникло и приобрело влияние философское течение позитивизма, поставившего под сомнение познавательные возможности
философии, ее научность, одним словом развенчивающее “королеву наук” в
“служанки”. В позитивизме был сформирован вывод
о том, что философия это суррогат науки,
имеющий право на существование в те периоды, когда еще не сложилось зрелое
научное познание.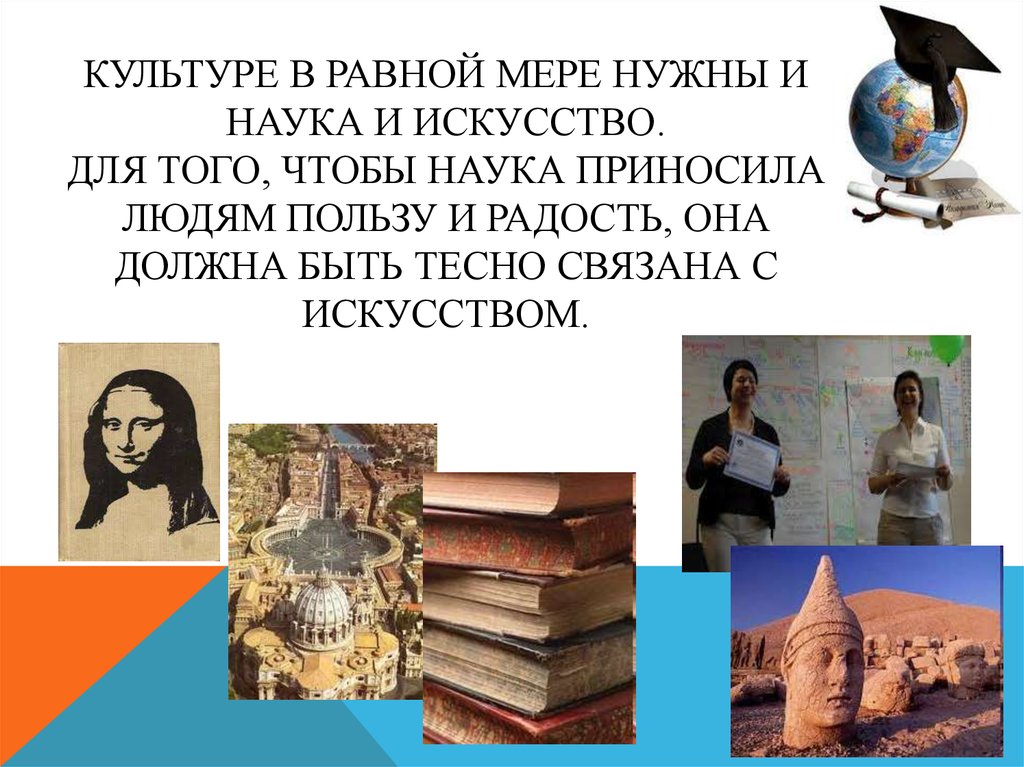 На стадиях же развитой науки познавательные притязания
На стадиях же развитой науки познавательные притязания
философии объявляются несостоятельными. Провозглашается, что зрелая наука — сама себе философия, что
именно ей посильно брать на себя и успешно решать запутанные философские
вопросы, будоражившие умы в течение столетий.
Ко всему прочему отличием философского знания от других является то, что философия —
единственная из наук объясняет, что такое бытие, какова его природа,
соотношение материального и духовного в бытие.
Взаимодействие науки и философии. Научно-философское мировоззрение выполняет
познавательные функций, родственные функциям науки. Наряду с такими важными функциями как обобщение, интеграция, синтез
всевозможных знаний, открытие наиболее общих закономерностей, связей,
взаимодействий основных подсистем опосредованным, как это имеет место в
процессе зрения и является восприятием
– первым, основным и исходным видом знания.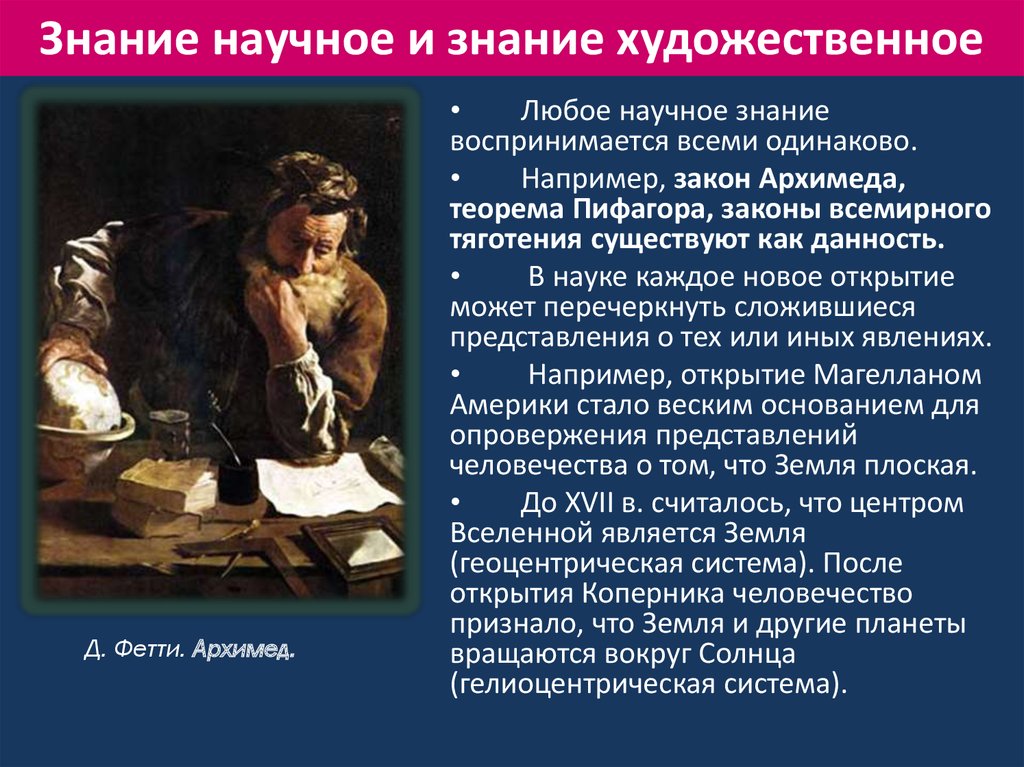 Все остальные виды и типы знания, так или иначе, производны от восприятия«. Вот формулировка этой репрезентационной
Все остальные виды и типы знания, так или иначе, производны от восприятия«. Вот формулировка этой репрезентационной
гносеологической установки.
С одной стороны, она, безусловно, не может
назваться наукой, как физика или математика, несмотря на все исторические
претензии, предпринимаемые ею в это отношении. Любую науку, например,
математику, мы можем изучить как целостный предмет, «ибо доказательства
здесь столь очевидны, что каждый может в них убедиться; вместе с тем, в силу
своей очевидности, она может, так сказать, сохраняться как надежное и прочное
учение». Философии научить нельзя,
так как она не представляет собой завершенную систему проверенных знаний. С
другой стороны, Кант ставит проблему
становления философии как особой науки и формулирует необходимые для этого
условия. Философия должна заниматься
критикой чистого разума, метафизикой природы, метафизикой нравов.
На базе интерпретаций данных сторон учения Канта
возникает множество интерпретаций
философии, наиболее крупными из которых являются марбургская и баденская
школы неокантианства.
Марбургская
школа выступает против
психологизма в истолковании философии. Поэтому наука здесь трактуется как важнейшая
форма упорядоченной человеческой культуры. Разум становится производным от
науки, как бы воплощается в ней в виде методов и принципов, а поэтому философия
как форма рационального-теоретического сознания должна строится по данному
образцу.
Философ выступал не от себя лично, а как бы от
имени Разума, от имени законов устройства мира, а поэтому мог претендовать на
роль поучающего субъекта. Это придавало философии высокий просветительский пафос, основанный на вере в силу Разума, с помощью
которого мы можем привнести в наши межличностные отношения, в нашу общественную
жизнь законы гармонии, царящие в мире. Правда, на этом же положении строилось представление о том, что большинство
Правда, на этом же положении строилось представление о том, что большинство
людей являются некой инертной массой, полной всяческих предрассудков. Избавлением человечества от этих предрассудков должен был также заниматься
философ, который в этом случае выступал не от своего имени, а от имени
познанного разумного и целесообразного устройства мира.
Это иногда придавало философским «рецептам» схоластический характер и менторский тон.
Кризис такой модели философского подхода к миру можно проиллюстрировать на примере возникновения на ее основе самых разнообразных философских школ, которые подчеркивая свою связь с данной традицией, выступая в виде направлений, например, неогегельянства, неокантианства и т.д.
Данную ситуацию удобно проиллюстрировать на примере возникновения неокантианства, уходящего корнями в развитую философскую систему И. Канта, но дающего ей самые различные и отличные друг от друга интерпретации.
Дилемма «сциентизм-антисциентизм«, проникла на все уровни современной культуры и в наибольшей степени это затронуло философию. Связано данное обстоятельство с тем, что предметом философии выступает размышление над предельными основаниями бытия. Поэтому, как форма рационально-теоретического сознания, философия как бы стремится в сторону наук, рассматривая собственную деятельность как научную. С другой стороны, философия исследует и ценностные компоненты во взаимоотношении мира и человека, выступая в качестве мировоззрения.
Сциентизм и антисциентизм, абсолютизируя ту или иную стороны предмета философии, одновременно, заостряют внимание на ее особенностях как двойственной формы общественного сознания, сочетающего в себе рационально-теоретические и ценностные компоненты отношения человека к миру и к самому себе.
Главным внутрифилософским источником сциентизма и антисциентизма, позволяющим рассматривать дилемму как общую модель современной философии, в которую укладывается, пусть и с некоторыми оговорками, все богатство ее вариантов, выступает кризис классической философии. Данное понятие объемлет собою огромное разнообразие философских концепций, границами которого могут выступать имена Декарта и Гегеля. Это особая философская традиция, ориентация философского мышления, базирующаяся на представлении о философии как, прежде всего форме рационально-теоретического сознания, с помощью которого можно объяснить самые разнообразные явления духа и действительности.
Данное понятие объемлет собою огромное разнообразие философских концепций, границами которого могут выступать имена Декарта и Гегеля. Это особая философская традиция, ориентация философского мышления, базирующаяся на представлении о философии как, прежде всего форме рационально-теоретического сознания, с помощью которого можно объяснить самые разнообразные явления духа и действительности.
В основе данной философской традиции лежало систематическое и целостное объяснение мира, которое базируется «на глубоком чувстве стественной порядоченности мироустройства, наличия в нем гармоний и порядков (доступных рациональному постижению)».
Проблема отличия науки от других форм познавательной деятельности – это проблема демаркации, т.е. поиск критериев разграничения научного и ненаучного знаний.
8 Художественные проекты с участием науки
Наука и искусство часто рассматриваются как противоположности. Один, похоже, управляется данными, а другой — выражением и творчеством. Но на самом деле они больше похожи, чем мы думаем. Они разделяют общую нить через исследование и допрос. По своей сути художники и ученые изобретают, исследуют и открывают. Просто в каждой дисциплине это выглядит немного по-разному!
Но на самом деле они больше похожи, чем мы думаем. Они разделяют общую нить через исследование и допрос. По своей сути художники и ученые изобретают, исследуют и открывают. Просто в каждой дисциплине это выглядит немного по-разному!
Ниже вы найдете 8 различных способов исследовать мир науки и искусства вместе в классе.
1. Формы для литья эпоксидной смолы
Многие художники используют смолу или эпоксидную смолу в своих работах. Его можно использовать для придания изделию стеклянной отделки или для отливки предметов. Используя эпоксидную смолу, можно создавать красивые изделия, но ее также можно использовать для обучения студентов науке.
Эпоксидная смола представляет собой полимер. Он начинается в жидком состоянии, но становится твердым при добавлении химического отвердителя. Это означает, что использование эпоксидной смолы — отличный способ научить ваших учеников химическим реакциям в художественной студии! Вы не увидите взрыва, но можете объяснить, что процесс отверждения является результатом этого химического взаимодействия. Посмотрите на художницу Джози Льюис, чтобы получить больше вдохновения!
Посмотрите на художницу Джози Льюис, чтобы получить больше вдохновения!
2. Среда обитания животных
Если вы ищете способ объединить науку, искусство и исследования, попробуйте сделать своей темой среду обитания животных. Тщательно изучая выбранную ими среду обитания, ученики обнаружат много интересных открытий. Эти новые знания приведут к множеству новых идей в их творчестве. Лучшее в подобном проекте то, что его можно реализовать практически на любом носителе, при этом охватывая множество важных художественных концепций!
3. Заливка краской
Заливка акриловой краской покорила Интернет! За этим очень интересно наблюдать, потому что никогда не знаешь, каким получится готовый продукт. Несмотря на то, что это может показаться просто крутой причудой, которую все пробуют, в этом процессе есть наука! Различные цвета краски имеют разную плотность и вязкость в зависимости от их химического состава. Эти вариации позволяют цветам течь и реагировать интересным образом.
4. Портреты звуковых волн
Учащиеся постоянно слышат и издают звуки, но понимают ли они, что звуки вызываются вибрациями? С помощью искусства учащиеся могут исследовать такие вещи, как амплитуда, частота и длина волны. Просто попросите учащихся записать свой голос с помощью такой программы, как GarageBand, где звуковые волны видны. Это может быть компьютер, смартфон или планшет.
Затем учащиеся могут использовать свои записи для создания иллюстраций. Это занятие — интересный способ изучить идею портретной живописи с помощью голоса. Чтобы сделать его более интересным, попросите учащихся повторить одно и то же слово или предложение и сравнить их со своими одноклассниками. Студенты смогут визуально увидеть, что голос похож на отпечаток пальца — единственный в своем роде!
5. Фрески из гипса
Вы когда-нибудь задумывались, почему иногда краска легко отслаивается от штукатурки, а иногда нет? Это из-за науки! Фрески смогли выдержать время из-за химии. Гипс содержит гидроксид кальция. Когда углекислый газ из воздуха вступает в реакцию с влажной штукатуркой и краской, он связывает их вместе, по существу создавая известняковую поверхность. (Если вы хотите углубиться в эту идею, посмотрите это отличное видео!) После этого гипс не будет отслаиваться, смываться или откалываться. Неудивительно, что фрески занимают такое значительное место в истории искусства!
Гипс содержит гидроксид кальция. Когда углекислый газ из воздуха вступает в реакцию с влажной штукатуркой и краской, он связывает их вместе, по существу создавая известняковую поверхность. (Если вы хотите углубиться в эту идею, посмотрите это отличное видео!) После этого гипс не будет отслаиваться, смываться или откалываться. Неудивительно, что фрески занимают такое значительное место в истории искусства!
6. Искусство схемотехники
Знаете ли вы, что учащиеся могут изучать простые схемы с помощью рисунков? Такие устройства, как Makey Makey и светоизлучающие диоды (LED), обеспечивают отличный способ совместить их! Ваши ученики могут изучать такие концепции, как разомкнутые и замкнутые цепи и напряжение, добавляя к своим работам немного света или технической магии!
7. Процесс обжига глины
Химия часто присутствует в художественном классе, даже если учащиеся не подозревают об этом. Одним из самых простых мест, где можно указать на химию, является процесс обжига глины.
Один из способов показать, как глина претерпевает химические изменения, состоит в том, чтобы наполнить две прозрачные ванны водой и поместить обожженный бисквит в одну ванну, а кусок зелени в другую. Кусок зелени начнет растворяться, а кусок бисквита — нет. Отсюда вы можете объяснить студентам, что глина проходит процесс, называемый обезвоживанием в печи. Дегидратация — это когда вода, которая является частью молекулярной структуры глины, уходит. В этот момент вы больше не можете восстанавливать глину. В Big Ceramic Store есть полезное описание различных реакций, которые происходят в печи, если вы хотите копнуть еще глубже!
8. Научный метод Теория цвета
Случайность как в искусстве, так и в науке встречается редко. На самом деле художественные практики, концепции и процедуры, которые мы используем и преподаем в наших классах, часто носят методический характер — точно так же, как и в науке. Знакомство с заданием «Эксперимент с цветом» — отличный способ показать, как художественный и научный методы могут пересекаться. Подробнее об этом уроке вы можете узнать здесь.
Подробнее об этом уроке вы можете узнать здесь.
Это всего лишь восемь способов начать изучать искусство и науку вместе в классе. Если вы ищете способы включить больше интеграции искусств или обучения STEAM, эти уроки — отличное место для начала. Вы можете научить своих учеников думать как художники и ученые!
Как вы внедряете науку в художественную комнату?
У вас есть любимый проект, посвященный науке?
Журнальные статьи и подкасты представляют собой мнения участников профессионального образования и не
не обязательно представляют позицию Университета искусства образования (AOEU) или его
академические предложения. Авторы используют термины так, как о них чаще всего говорят
в рамках своего образовательного опыта.
9 Художники-новаторы в науке — от Леонардо да Винчи до Сэмюэля Морса
Творчество
Рэйчел Лебовиц
20 февраля 2018 г. 20:37
20:37
Науку и искусство часто считают дисциплинами, между которыми мало общего. Но исследования показали, что художественное и научное творчество тесно связаны с точки зрения психологических профилей, склонностей к эрудиции и умственных стратегий. И многие люди, которые занимались как искусством, так и наукой, сообщили, что одна дисциплина повлияла на их работу в другой.
В последнее время архитекторы и дизайнеры обращаются к науке для продвижения инноваций. Нери Оксман, например, основала область экологии материалов, включив биологические исследования и лабораторные работы в свою практику для создания адаптируемых природных строительных материалов.
В то же время многие современные визуальные художники сотрудничают с учеными, чтобы реализовать свои работы, в том числе Олафур Элиассон и Тревор Паглен. Но в то время как эти художники занимаются наукой в основном в сотрудничестве, реже встречаются те, кто одновременно изучал науку и работал практикующими художниками. Ниже перечислены девять ученых-художников на протяжении всей истории, которые изобрели технологии, изменяющие общество, создали записи о биоразнообразии, стали пионерами в исследованиях человеческого тела и объединили свои научные занятия с искусством.
Ниже перечислены девять ученых-художников на протяжении всей истории, которые изобрели технологии, изменяющие общество, создали записи о биоразнообразии, стали пионерами в исследованиях человеческого тела и объединили свои научные занятия с искусством.
Изобретенный код Морзе
Сэмюэл Морзе, Галерея Лувра , 1831-33. Фото с Викисклада.
Морс учился у Бенджамина Уэста в лондонской Королевской академии художеств и стал соучредителем Национальной академии дизайна на Манхэттене, однако его карьера художника в значительной степени омрачена его вкладом в коммуникации. После того, как его картины не получили одобрения в Америке, Морс, который изучал философию и математику в Йельском университете, обратился к электромагнетизму, в конечном итоге создав телеграф и азбуку Морзе. Тем не менее, его амбициозные работы в неоклассическом стиле, такие как 9 футов шесть на девять футов,0063 Галерея Лувра (1831–1833) и даже его портреты известных натурщиков, таких как Эли Уитни и Джон Адамс (которые он неохотно создал, чтобы прокормить себя), являются свидетельством его отточенного мастерства.
Препарированные трупы и разработанные летательные аппараты
Леонардо да Винчи, Тайная вечеря , 1498 год. Фото с Wikimedia Commons.
Advertisement
Леонардо проявлял сильное любопытство к самостоятельному изучению различных областей науки — от анатомии человека до астрономии и инженерии — проводя эксперименты для постулирования и проверки закономерностей. Он разработал летательные аппараты на основе своих наблюдений за птицами, разработал раннее автоматическое оружие и препарировал трупы, чтобы сделать подробные заметки и рисунки человеческих сухожилий, мышц и костей. Его внимание к анатомии и перспективе привело к созданию некоторых из его самых известных работ, в том числе Мона Лиза (1503–1919) и Тайная вечеря (1495–98). Действительно, выдающийся искусствовед Э.Х. Гомбрих утверждал, что научные исследования Леонардо, хотя и кажущиеся разрозненными, все же служили его искусству: он стремился понять (и, таким образом, лучше воспроизвести) мир вокруг себя, а также возвысить искусство, подкрепив его более уважаемой в то время дисциплиной науки.
Первые исследования человеческого мозга
Сантьяго Рамон-и-Кахаль
Клетки Пуркинье мозжечка человека , 1899
«Архитектура жизни» в Художественном музее Калифорнийского университета в Беркли и Тихоокеанском киноархиве, Беркли
Сантьяго Рамон-и-Кахаль, Рисунок клеток Пуркинье и зернистых клеток из мозжечка голубя , 1899. Instituto Cajal, Мадрид, Испания . Фото с Викисклада.
Известный как отец современной неврологии, испанец Кахаль первым предположил, что отдельные клетки образуют структуру мозга, и в 1890-х годах создал подробные рисунки, чтобы проиллюстрировать свои открытия, сделанные с помощью микроскопа. Его изображения, отмеченные Нобелевской премией, даже сейчас являются ценным источником неврологической информации и свидетельствуют о художественных склонностях Кахаля (поскольку он изначально намеревался стать художником, прежде чем его отец подтолкнул его к медицине). Прекрасные рисунки тушью на бумаге временами напоминают увеличенный фрагмент картины Винсента Ван Гога «9». 0063 Звездная ночь (1889 г.), густоветвистое дерево или бисерные счеты. Около 80 из тысяч созданных им работ в настоящее время выставлены в художественной галерее Грей Нью-Йоркского университета до конца марта, а затем отправятся в Массачусетский технологический институт (MIT) в мае и в Университет Северной Каролины в Чапел-Хилл в январе следующего года. .
0063 Звездная ночь (1889 г.), густоветвистое дерево или бисерные счеты. Около 80 из тысяч созданных им работ в настоящее время выставлены в художественной галерее Грей Нью-Йоркского университета до конца марта, а затем отправятся в Массачусетский технологический институт (MIT) в мае и в Университет Северной Каролины в Чапел-Хилл в январе следующего года. .
Зарегистрированные птицы США
Джон Джеймс Одюбон
Голубая желтая славка , 1812
Национальная художественная галерея, Вашингтон, округ Колумбия
Постоянная коллекция
Родившийся на территории современного Гаити и выросший во Франции, Одюбон иммигрировал в Милл-Гроув, штат Пенсильвания, в возрасте 18 лет. В Штатах его давняя любовь к птицам стала объектом пристального изучения. . Он записал их поведение, исследовал их миграционные привычки (даже провел самый ранний из известных в Северной Америке экспериментов по кольцеванию птиц) и нарисовал их в натуральную величину вместе с кусочками флоры из окружающей их среды. Позже он путешествовал по стране, чтобы изобразить все известные в стране виды птиц, в конце концов опубликовав Птицы Америки (1827–1838). Печать книги из 435 акварельных иллюстраций в натуральную величину обошлась в 2 миллиона долларов; копия фолианта была продана на Sotheby’s в 2010 году за 11,5 миллионов долларов. Яркие, текстурированные изображения, столь же информативные, сколь и художественные, изображают птиц с разных точек зрения, от царственного портрета птицы Вашингтона в профиль до вида снизу птенцы американского Робина с открытым ртом, которых собираются кормить червяком.
Позже он путешествовал по стране, чтобы изобразить все известные в стране виды птиц, в конце концов опубликовав Птицы Америки (1827–1838). Печать книги из 435 акварельных иллюстраций в натуральную величину обошлась в 2 миллиона долларов; копия фолианта была продана на Sotheby’s в 2010 году за 11,5 миллионов долларов. Яркие, текстурированные изображения, столь же информативные, сколь и художественные, изображают птиц с разных точек зрения, от царственного портрета птицы Вашингтона в профиль до вида снизу птенцы американского Робина с открытым ртом, которых собираются кормить червяком.
Исследовал реологические свойства крови
Alcopley
Зеркала , 1961
Галерея Дэвида Ричарда
Цена по запросу
Как Альфред Л. Копли, он был доктором и исследователем в области медицины из Дрездена, получив немецкую и швейцарскую медицинские степени до иммиграции в США. в 1939 году; основал и редактировал три научных журнала; и опубликовал углубленные исследования свойств потока крови и других биологических жидкостей. Как Алкопли, он был художником-абстрактным экспрессионистом, соучредителем группы художников The Club в 1919 году.49, наряду с большими шишками AbEx, такими как Эд Рейнхардт, Виллем де Кунинг и Франц Клайн. Его полотна, на которых изображены мазки и загогулины смелых черных, синих, красных и желтых тонов, находятся в крупных учреждениях, в том числе в Музее современного искусства в Нью-Йорке и в Стеделийк-музее в Амстердаме.
Как Алкопли, он был художником-абстрактным экспрессионистом, соучредителем группы художников The Club в 1919 году.49, наряду с большими шишками AbEx, такими как Эд Рейнхардт, Виллем де Кунинг и Франц Клайн. Его полотна, на которых изображены мазки и загогулины смелых черных, синих, красных и желтых тонов, находятся в крупных учреждениях, в том числе в Музее современного искусства в Нью-Йорке и в Стеделийк-музее в Амстердаме.
Проложил курс современной экологии
Мария Сибилла Мериан
Натюрморт с цветами, привязанными к стеблям , ок. 1705
Royal Collection Trust
В середине 1600-х годов молодой Мериан, происходивший из семьи художников, занялся рисованием и живописью. Однако ее интерес к изучению насекомых был неожиданным. В раннем подростковом возрасте она разводила тутовых шелкопрядов и других тварей, путешествовала по своей родной немецкой сельской местности, собирая гусениц, а позже исследовала более 150 видов животных и растений во время двухлетнего пребывания в Суринаме — первой европейской экспедиции такого рода. Опубликованные ею записи о ее образцах представляют собой идеальное сочетание искусства и научных исследований: тонкие, очень подробные, цветные гравюры на меди, которые она сочетала с письменными описаниями жизненных циклов существ и реакций на раздражители. Ее продолжающиеся целенаправленные биологические исследования были почти беспрецедентными для опытного художника. Между тем, ее методы проложили курс современной экологии, поскольку ее изображения были первыми, которые исследовали взаимодействие между видами растений и животных.
Опубликованные ею записи о ее образцах представляют собой идеальное сочетание искусства и научных исследований: тонкие, очень подробные, цветные гравюры на меди, которые она сочетала с письменными описаниями жизненных циклов существ и реакций на раздражители. Ее продолжающиеся целенаправленные биологические исследования были почти беспрецедентными для опытного художника. Между тем, ее методы проложили курс современной экологии, поскольку ее изображения были первыми, которые исследовали взаимодействие между видами растений и животных.
Искусство Пауэрса с сердцебиением и отпечатками пальцев
Rafael Lozano-Hemmer, Pulse Room , 2006 г. в Rafael Lozano-Hemmer: Pseudomatismos , Музей MUAC, Мехико, Мексика, 2015 г. Фото Оливера Сантаны.
Уроженец Мехико Лосано-Хеммер в конце 1980-х годов окончил Монреальский университет Конкордия со степенью бакалавра физической химии. В следующем десятилетии он начал направлять свои научные интересы в искусство. Используя Интернет, компьютерное программирование и прожекторы, Лозано-Хеммер создал крупномасштабные общедоступные инсталляции, которые в значительной степени зависят от участия зрителей. В последнее время его работа приобрела более биологический характер, используя сердцебиение и отпечатки пальцев зрителей в качестве переключателей в своих световых и кинетических работах. Выставка, которая откроется осенью 2018 года в музее Хиршхорна в Вашингтоне, призвана продемонстрировать, как Лозано-Хеммер использует этот тип биометрических данных для критики и инверсии систем государственного контроля и наблюдения.
Используя Интернет, компьютерное программирование и прожекторы, Лозано-Хеммер создал крупномасштабные общедоступные инсталляции, которые в значительной степени зависят от участия зрителей. В последнее время его работа приобрела более биологический характер, используя сердцебиение и отпечатки пальцев зрителей в качестве переключателей в своих световых и кинетических работах. Выставка, которая откроется осенью 2018 года в музее Хиршхорна в Вашингтоне, призвана продемонстрировать, как Лозано-Хеммер использует этот тип биометрических данных для критики и инверсии систем государственного контроля и наблюдения.
Создает обонятельный опыт из микробных культур
Anicka Yi
Установка 7 070 430K цифровой спиты , 2015
«Anicka Yi: 7,070,430K цифрового SPIT» В Kunsthalle Basel, Basel (2015)
9000 тысячи 9000 тысячи 9000 тысячи 9000 тысячи 9000 тысячи 9000 тысячи 9000 тысячи 9000 тысячи. колеблется между искусством и биологическим экспериментом. Родившаяся в Сеуле и проживающая в Нью-Йорке художница, хотя она и уклоняется от ярлыка «художник», пришла к своей практике без образования в художественной школе и с интересом к самому первобытному из пяти чувств. Используя сам запах в качестве среды, она создает острые обонятельные ощущения от микробных культур, антидепрессантов и живых улиток. Хотя у нее нет формального научного образования, она жадно занимается самообразованием, с 2014 по 2015 год проходила резидентуру в Центре искусства, науки и технологий Массачусетского технологического института и тесно сотрудничает с биологами, химиками и парфюмерами, создавая свои необычайно вызывающие воспоминания ароматы (которые часто принимают скульптурную форму), а также установки, выполняющие функции бактериальных чашек Петри. Вдохновленный дезориентацией, связанной с молекулярной гастрономией и научно-фантастическими фильмами, такими как 2001: Космическая одиссея (1968), Йи стремится бросить вызов культурным иерархиям запахов и придумывает предысторию своих работ, наполненную сочувствием.
Используя сам запах в качестве среды, она создает острые обонятельные ощущения от микробных культур, антидепрессантов и живых улиток. Хотя у нее нет формального научного образования, она жадно занимается самообразованием, с 2014 по 2015 год проходила резидентуру в Центре искусства, науки и технологий Массачусетского технологического института и тесно сотрудничает с биологами, химиками и парфюмерами, создавая свои необычайно вызывающие воспоминания ароматы (которые часто принимают скульптурную форму), а также установки, выполняющие функции бактериальных чашек Петри. Вдохновленный дезориентацией, связанной с молекулярной гастрономией и научно-фантастическими фильмами, такими как 2001: Космическая одиссея (1968), Йи стремится бросить вызов культурным иерархиям запахов и придумывает предысторию своих работ, наполненную сочувствием.
Сфотографированы мировые морские водоросли
Анна Аткинс
Adiantum tenerum (Ямайка) , ок. 1892
Елисейский музей
Анна Аткинс
Папоротники. Образец цианотипа , 1840-е годы
Образец цианотипа , 1840-е годы
Национальная художественная галерея, Вашингтон, округ Колумбия
Постоянная коллекция
В поисках более точного способа изображения морских водорослей, чем просто рисование, британский ботаник Аткинс начал снимать морские организмы в виде цианотипов — безкамерной техники фотографирования, изобретенной сэром Джоном Гершелем всего за год до этого. Книга Аткинс « фотографии британских водорослей: впечатления от цианотипов » (опубликована в нескольких томах, начиная с 1843 года) содержит около 300 бриллиантово-голубых цианотипов ручной работы, накопленных за десятилетие, благодаря которым она новаторски задокументировала и идентифицировала типы водорослей по именам. Предназначен для сопровождения текстовой части 9 Уильяма Харви.0063 A Manual of the British Algae (1841 г.), публикация Аткинс была первой книгой, включавшей фотографические изображения, и ее часто считают первой женщиной-фотографом.
Рэйчел Лебовиц
Искусство освещает красоту науки и может вдохновить следующее поколение ученых, молодых и старых
Ученые часто приглашают публику увидеть то, что они видят, используя все, от гравированных деревянных дощечек до электронных микроскопов, для изучения сложности научного предприятия и красоты жизни. Обмен этими взглядами с помощью иллюстраций, фотографий и видео позволил непрофессионалам исследовать целый ряд открытий, от новых видов птиц до внутреннего устройства человеческой клетки.
Обмен этими взглядами с помощью иллюстраций, фотографий и видео позволил непрофессионалам исследовать целый ряд открытий, от новых видов птиц до внутреннего устройства человеческой клетки.
Победитель конкурса BioArt 2018, на этом изображении показаны кишечные ворсинки мыши.
Эми Энгевик/BioArt, CC BY-NC-ND
Как исследователь в области неврологии и биологических наук, я знаю, что ученых иногда называют белыми лабораторными халатами, одержимыми диаграммами и графиками. Чего не хватает этому стереотипу, так это их страсти к науке как способу открытия. Вот почему ученые часто обращаются к впечатляющим визуализациям, чтобы объяснить необъяснимое.
Конкурс научных изображений и видео BioArt, проводимый Федерацией американских обществ экспериментальной биологии, представляет публике изображения, которые редко можно увидеть за пределами лаборатории, чтобы представить и рассказать непрофессионалам о чуде, часто связанном с биологическими исследованиями. BioArt и подобные конкурсы отражают долгую историю использования изображений для разъяснения науки.
BioArt и подобные конкурсы отражают долгую историю использования изображений для разъяснения науки.
Исторический и интеллектуальный момент
Ренессанс, период европейской истории между 14 и 17 веками, вдохнул новую жизнь в науку и искусство. Он объединил зарождающуюся дисциплину естественной истории — область исследования животных, растений и грибов в их обычной среде — с художественной иллюстрацией. Это позволило более широко изучить и классифицировать мир природы.
Искусство сыграло роль в развитии естественных наук в эпоху Возрождения, таких как анатомические исследования человека Рубенса.
Питер Пауль Рубенс/Метрополитен-музей через Wikimedia Commons
Художники и художественные натуралисты также смогли продвинуть подходы к изучению природы, иллюстрируя открытия ранних ботаников и анатомов. Фламандский художник Питер Пауль Рубенс, например, предложил замечательное понимание анатомии человека в своих знаменитых анатомических рисунках.
Эта формула науки об искусстве была еще более демократизирована в 17-м и 18-м веках, когда процесс печати стал более изощренным и позволил ранним орнитологам и анатомам публиковать и распространять свои элегантные рисунки. Первоначальные популярные работы включали работы Джона Джеймса Одюбона.
«Птицы Америки» и «Происхождение видов» Чарльза Дарвина — новаторские в то время по ясности их иллюстраций.
Издатели вскоре последовали за хорошо принятыми полевыми справочниками и энциклопедиями, подробно описывающими наблюдения того, что было замечено с помощью первых микроскопов. Например, шотландская энциклопедия, изданная в 1859 г., «Энциклопедия Чемберса: словарь универсальных знаний для людей» стремилась широко объяснить мир природы с помощью ксилографических иллюстраций млекопитающих, микроорганизмов, птиц и рептилий.
Эти публикации были ответом на потребность общественности в большем количестве новостей и взглядов на мир природы. Люди создавали любительские сообщества натуралистов, охотились за окаменелостями и наслаждались поездками в местные зоопарки или зверинцы. К 19 веку по всему миру строились музеи естественной истории, чтобы делиться научными знаниями с помощью иллюстраций, моделей и примеров из реальной жизни. Экспонаты варьировались от чучел животных до человеческих органов, консервированных в жидкости.
К 19 веку по всему миру строились музеи естественной истории, чтобы делиться научными знаниями с помощью иллюстраций, моделей и примеров из реальной жизни. Экспонаты варьировались от чучел животных до человеческих органов, консервированных в жидкости.
Первым рентгеновским изображением была рука жены первооткрывателя рентгеновских лучей Вильгельма Рентгена.
Мультимедиа Вильгельма Конрада Рентгена/Брокгауза через Wikimedia Commons
То, что начиналось с рисунков от руки, за последние 150 лет трансформировалось с помощью новых технологий. Появление сложных методов визуализации, таких как рентгеновские лучи в 1895 году, электронные микроскопы в 1931 году, 3D-моделирование в 1960-х годах и магнитно-резонансная томография или МРТ в 1973 году, упростили для ученых возможность делиться тем, что они видели в лаборатории. Фактически, Вильгельм Рентген, профессор физики, который первым открыл рентгеновские лучи, сделал первое рентгеновское изображение человека рукой своей жены.
Сегодня научные издания, в том числе Nature и The Scientist, стали делиться с читателями своими фаворитами. Визуализация, будь то с помощью фотографии или видео, является еще одним методом для ученых, чтобы документировать, проверять и подтверждать свои исследования.
Наука, искусство и образование K-12
Эти научные визуализации нашли свое место в классах, так как школы K-12 добавляют научные фотографии и видео в планы уроков.
Художественные музеи, например, разработали учебные программы по естественным наукам, основанные на искусстве, чтобы дать учащимся представление о том, как выглядит наука. Это может помочь повысить научную грамотность, улучшить их понимание основных научных принципов и их навыки критического мышления.
Научная грамотность сейчас особенно важна. Во время пандемии, когда распространяется дезинформация о COVID-19 и вакцинах, лучшее понимание природных явлений может помочь учащимся научиться принимать обоснованные решения о риске заболевания и его передаче. Обучение научной грамотности дает учащимся навыки оценки утверждений как ученых, так и общественных деятелей, будь то о COVID-19, простуде или изменении климата.
Обучение научной грамотности дает учащимся навыки оценки утверждений как ученых, так и общественных деятелей, будь то о COVID-19, простуде или изменении климата.
Победитель конкурса BioArt 2020. На этом изображении показаны задние конечности куриных эмбрионов. Левая конечность нормальная, а правая — мутант. Желтое окрашивание указывает на присутствие белка, который маркирует предшественников развития костей и хрящей.
Кристиан Бонатто/BioArt, CC BY-NC-ND
Тем не менее, научные знания, похоже, стагнируют. Национальная оценка прогресса в образовании 2019 года измеряет научные знания и способности к научным исследованиям учащихся государственных школ США в 4, 8 и 12 классах по шкале от нуля до 300. С 2009 по 2019 год баллы для всех классов оставались неизменными, колеблясь от 150 до 154.
[ Слишком заняты, чтобы читать еще одно ежедневное электронное письмо? Получите один из еженедельных информационных бюллетеней The Conversation. ]
]
Опрос учителей K-12 показал, что 77% учителей начальных классов тратят менее четырех часов в неделю на естественные науки. А Национальное исследование научно-математического образования 2018 года показало, что учащиеся K-3 получают в среднем всего 18 минут занятий по естественным наукам в день по сравнению с 57 минутами по математике.
Наглядность науки может облегчить изучение науки в раннем возрасте. Это также может помочь учащимся как понять научные модели, так и развить такие навыки, как командная работа и умение сообщать сложные концепции.
Углубление научных знаний
Конкурс научных изображений и видео BioArt был учрежден 10 лет назад, чтобы предоставить ученым возможность поделиться своими последними исследованиями и позволить более широкой аудитории взглянуть на бионауку с точки зрения исследователя.
Победитель конкурса BioArt 2020 года. На этом изображении показаны клетки HeLa, инфицированные распространенным, но смертельным патогеном пищевого происхождения Listeria monocytogenes.
Арандип Дханда/BioArt, CC BY-NC-ND
Что уникально в конкурсе BioArt, так это разнообразие представленных работ за последнее десятилетие. В конце концов, бионаука охватывает широкий спектр дисциплин в рамках наук о жизни. Победители конкурса BioArt 2021 года варьируются от развивающегося глаза эмбриона данио-зебры до раковины 9 видов.Ископаемая гелохелидридная черепаха возрастом 6 миллионов лет.
Последние пять лет я работал судьей на конкурсе BioArt. Моя признательность за науку, стоящую за изображениями, часто превосходит мое удовольствие от их красоты и технического мастерства. Например, фотография с использованием поляризованного света, который фильтрует световые волны, чтобы они колебались в одном направлении, а не во многих направлениях, позволяет ученым выявить, как выглядят скрытые внутренности образцов.
Сегодня или в прошлом наука проясняет основы нашего мира, как в миниатюре, так и в масштабе. Я надеюсь, что визуальное освещение научных процессов и концепций может повысить научную грамотность и дать как студентам, так и широкой общественности доступ к более глубокому пониманию мира природы, которое им необходимо, чтобы быть информированными гражданами. То, что эти изображения и видео часто красивы, является дополнительным преимуществом.
То, что эти изображения и видео часто красивы, является дополнительным преимуществом.
В этом видео победителя конкурса BioArt 2021 года Томаса Геберта показан кишечный органоид человека, зараженный ротавирусом.
Как пересекаются искусство и наука?
Искусство — это способ выражения идей и воображения в визуальной форме с помощью таких средств, как скульптура и живопись. Много раз искусство использовалось как средство коммуникации, цель которого состояла в том, чтобы позволить другим относиться к определенным реалиям жизни.
Искусство показало себя очень полезным, когда дело доходит до глубоких разговоров о социальных проблемах и изменениях в окружающей среде.
Искусство — это способ оживить воображение и передать даже наши самые глубокие страхи.
Наука, с другой стороны, стремится дать объяснения, неуклонно получая более глубокое понимание определенных явлений и предлагая ответы на благо вещей в этом отношении.
Итак, вы видите, искусство — это выражение, а наука — объяснение этого выражения.
Искусство выражает то, что оно видит; наука это объясняет.
Вопрос о том, какая связь существует между наукой и искусством, существует с незапамятных времен.
Но правда остается в том, что Искусство = Наука, а Наука = Искусство.
Обе дисциплины не могут быть отчуждены друг от друга. И то, и другое является попыткой человека объяснить и выразить окружающий его мир, но в то же время он может передать свое мнение окружающим.
Методы выражения или коммуникации в науке отличаются от методов в искусстве, не все склонны к Науке или Искусству, поэтому их аудитория неодинакова. Но идеи, лежащие в основе обеих областей, остаются прежними.
Человеку свойственно искать объяснения в попытке понять окружающий мир. Часто напуганный страхом перед невидимым, не имеет значения, насколько вы предприимчивы. Попытка что-то выяснить, особенно когда это бессмысленно, может разочаровать даже самых предприимчивых из нас. В глубине души, хотя он редко говорит об этом, Человек жаждет предсказуемости и порядка помимо своих приключений.
Несмотря на горечь, с которой мы сталкиваемся сегодня в нашем мире, мы все еще понимаем, что застряли вместе. Каждый успех и неудача имеют значение. Следовательно, место информации невозможно переоценить. Мы придумываем лучшие способы передачи жизненно важной информации.
Даже когда данные в каком-то смысле тривиальны, они все равно ходят по кругу, потому что, ну, кто не сплетничает?
Только в редких случаях вы встретите человека, который будет копить новую информацию, а не выставлять напоказ свое уникальное понимание чего-либо. Допускается обмен мнениями, мы склонны смотреть на мир глазами и опытом друг друга, и это также является важной основой для искусства и науки.
В значительной степени и искусство, и наука требуют способности получать новое понимание и общаться или делиться им с другими. Художник, которому трудно выразить свои взгляды на мир, может, как и мы, перестать быть таковым. А ученый, который может высказаться, но ему нечего сказать, — это вообще ученый.
Ученые сталкиваются с аспектом получения новых идей, а художники берутся за общение.
Художники и ученые прилагают много усилий, чтобы добиться успеха в своих областях. Ученые посвящают много времени повторению экспериментов снова и снова, пытаясь открыть новые реальности. Как только эта цель достигнута, появляются методы, с помощью которых они делают более доступной передачу своих новых идей. Иногда они проводят собрания и заполняют анкеты, чтобы передать сообщение и получить отзывы о том, что работает.
Технология, которая развивается ежедневно, является прикладной наукой. А когда вы пытаетесь украсить свое пространство и сделать его красивым, это и есть прикладное искусство.
Технологии и эстетика являются жизненно важными составляющими нашего существования, но они не обязательно влияют на то, как мы воспринимаем окружающий мир. Наука и искусство делают большую часть этой работы.
Вы, должно быть, хотя бы раз слышали в колледже, что почки имеют бобовидную форму. Разве это не искусство в науке? Так вы все еще думаете, что искусство и наука не связаны?
Разве это не искусство в науке? Так вы все еще думаете, что искусство и наука не связаны?
Архитектура, которая является отраслью науки, требует сочетания дизайна и инженерии для создания умопомрачительных структур.
Частью дизайна является искусство, а инженерия привносит научную идею. Музыка и математика были объединены и дали отличные результаты. Цвета используются в обучении детей науке.
Каждый сектор, который намеревается сохранить свою актуальность в ближайшем будущем, требует большой любознательности и творчества, а это то, чем занимаются искусство и наука. Некоторые научные представления лучше всего объясняются с помощью изображений.
Однако в культурном отношении эти дисциплины несколько разделены. Скорее всего, вы услышите только о художественных галереях, научных центрах или музеях. Искусство находится в галереях, а музеи и научные центры открыты для любителей науки. Согласно исследованиям, лишь небольшое число посетителей музеев находится в возрасте от 15 до 25 лет.
Вопрос о том, как лучше всего вызвать интерес к науке у молодых людей в то время, когда они принимают решения о карьере и наиболее впечатлительны, поэтому вызывает большую озабоченность. Мельбурнский университет, как часть международной сети научных галерей, взялся за эту задачу, чтобы пробудить любопытство у молодых людей в возрасте от 15 до 25 лет. Сеть предоставляет много интересного опыта, который может породить следующее поколение икон искусства и науки, вступая и постепенно закрывая границы между наукой и искусством. Это объединение искусства и науки вызывает более глубокий уровень разговора с острыми идеями и экспериментальным содержанием.
Галерея науки организовала выставку с тегом КРОВЬ: Привлечение и отталкивание с рядом запоминающихся подтем, таких как стигма, здоровье, табу, даяние и некоторые другие. Идеи для содержания выставки были получены в результате открытого конкурса для дизайнеров, нескольких ученых и ряда художников, которых попросили представить предложения.
В ходе отбора работ для выставки ученые и художники подталкивали друг друга к более глубокому изучению, риску и рассмотрению возможности лучшей перспективы. Это выявило взаимосвязь между двумя дисциплинами, раздвинуло границы и подчеркнуло важность вопросов.
Содержание выставки было заставляющим задуматься и авантюрным. Было несколько коллабораций и пар, и это позволило художникам и ученым взглянуть на свою работу с другой точки зрения.
Итак, в следующий раз, когда вам скажут, что Земля сферическая, не удивляйтесь, какое отношение формы имеют к науке, потому что искусство равно науке.
Почему искусство жизненно важно для изучения науки? — Пранджал Искусство
Автор Usama qamar
Искусство и наука могут показаться противоположностями. Один включает в себя творческий поток идей, а другой — холодные, твердые данные. Часто, когда мы думаем о науке, мы думаем об абстрактных обозначениях, формулах, которые трудно прочитать или понять. Другая концепция, которая может прийти на ум, — это негибкость науки, основанная на правилах идея правильного или нет решения проблемы, дающая правильный ответ. Хотя часть его может быть до известной степени верной, для изображения действительности ответы должны быть точными и точными, другая часть отсутствует из-за ее поверхностного характера. «Лучшие ученые — художники», — цитирует Альберта Эйнштейна.
Один включает в себя творческий поток идей, а другой — холодные, твердые данные. Часто, когда мы думаем о науке, мы думаем об абстрактных обозначениях, формулах, которые трудно прочитать или понять. Другая концепция, которая может прийти на ум, — это негибкость науки, основанная на правилах идея правильного или нет решения проблемы, дающая правильный ответ. Хотя часть его может быть до известной степени верной, для изображения действительности ответы должны быть точными и точными, другая часть отсутствует из-за ее поверхностного характера. «Лучшие ученые — художники», — цитирует Альберта Эйнштейна.
Почему искусство жизненно важно для изучения науки?
Причина, по которой искусство необходимо науке, заключается в том, что творчество требует воображения, а воображение есть визуализация. Часто способность визуализировать и представлять определенные процессы важна для решения научных задач. Цель искусства в области науки — познание мира и создание уникальных шедевров внутри мира. «Нельзя творить без творчества». Вещи в нашем сознании, которые мы можем понять, представить или предвидеть, — это вещи, которые мы можем сделать, если у нас есть инструменты для этого. Часто некоторые из крупнейших научных прорывов связаны с искусством. Например, у Шарля Мессье, французского астронома 18-го века, была база данных, содержащая более 110 рисунков из его дневников. Галлей наблюдал множество галактик, скоплений и туманностей, изучая ночное небо в поисках блуждающей кометы. Леонардо да Винчи, который часто использует искусство для преобразования своего воображения и абстрактных концепций в реальность, является одним из примеров, о котором мы все знаем. Было доказано, что многие из его эскизов и научных художественных концепций привели к реальным инновациям.
Цель искусства в области науки — познание мира и создание уникальных шедевров внутри мира. «Нельзя творить без творчества». Вещи в нашем сознании, которые мы можем понять, представить или предвидеть, — это вещи, которые мы можем сделать, если у нас есть инструменты для этого. Часто некоторые из крупнейших научных прорывов связаны с искусством. Например, у Шарля Мессье, французского астронома 18-го века, была база данных, содержащая более 110 рисунков из его дневников. Галлей наблюдал множество галактик, скоплений и туманностей, изучая ночное небо в поисках блуждающей кометы. Леонардо да Винчи, который часто использует искусство для преобразования своего воображения и абстрактных концепций в реальность, является одним из примеров, о котором мы все знаем. Было доказано, что многие из его эскизов и научных художественных концепций привели к реальным инновациям.
Как искусство создает окно в природный водный мир?
Использование искусства для изучения науки не только позволяет людям понять суть науки, но также позволяет им лучше понять научные идеи и нормы. Было бы хорошо создать среду, в которой преподают науку через визуализацию, искусство и творчество в период, когда наше общество движется вперед, используя различные технологические инструменты. Искусство — мощный инструмент для передачи научной истории. Искусство может помочь нам познакомиться с этими сложными частями мира природы и пролить свет на новые научные открытия многих ученых, занимающихся самыми странными представителями животного мира — такими, как животные с несколькими глазами и телами, столь отличными от наших.
Было бы хорошо создать среду, в которой преподают науку через визуализацию, искусство и творчество в период, когда наше общество движется вперед, используя различные технологические инструменты. Искусство — мощный инструмент для передачи научной истории. Искусство может помочь нам познакомиться с этими сложными частями мира природы и пролить свет на новые научные открытия многих ученых, занимающихся самыми странными представителями животного мира — такими, как животные с несколькими глазами и телами, столь отличными от наших.
Отдел зоологии беспозвоночных Национального музея естественной истории уделяет большое внимание художественному творчеству, демонстрируя часто крошечные, иногда глубокие обитатели океана и всегда странные организмы. Искусство имеет решающее значение для науки в отделе и во всех музеях, от обучения любопытных музеев до творческого вклада в научный процесс. Без произведений искусства коллекции скрыли бы уникальных обитателей океана, которых рассматривают в музее.
Художественное мастерство дает возможность продемонстрировать музейным ученым, туристам и всему миру яркие цвета, завораживающий дизайн тела и интересные приспособления этих организмов. В свою очередь, искусство связывает ученых с их собственным творчеством и помогает им сообщать о своих открытиях и научных процессах. Смешивая науку с воображением и историей, искусство помогает подчеркнуть красоту морских беспозвоночных, даже тех, которые подходят для фильмов ужасов, и связывает людей с их врожденным любопытством к чужеродности царства животных.
Какая существенная связь между искусством и изучением человеческого мозга?
Количество научных доказательств того, что искусство улучшает работу мозга, постоянно увеличивается. Он оказывает влияние на мозг, волновые паттерны и эмоции, нервную систему и даже может повышать уровень серотонина. Искусство может изменить мировоззрение человека и то, как он воспринимает мир. Десятилетия исследований дали более чем достаточно данных, чтобы показать, что художественное образование оказывает влияние от общего академического успеха до социального, эмоционального и многого другого. Исследования показали, что искусство создает сети мозга, которые обеспечивают широкий спектр преимуществ, от мелкой моторики до творчества и эмоционального равновесия. Проще говоря, искусство важно для нашего хорошего индивидуального и социального функционирования.
Десятилетия исследований дали более чем достаточно данных, чтобы показать, что художественное образование оказывает влияние от общего академического успеха до социального, эмоционального и многого другого. Исследования показали, что искусство создает сети мозга, которые обеспечивают широкий спектр преимуществ, от мелкой моторики до творчества и эмоционального равновесия. Проще говоря, искусство важно для нашего хорошего индивидуального и социального функционирования.
Искусство и наука традиционно рассматривались как две разные области, однако при совместном изучении можно понять влияние одного предмета на другой. Чтобы произвести научные достижения, искусство одинаково часто является символом научного знания с большим воображением и творчеством.
Усама Камар
Выставка Искусство и наука: Примеры симбиотических отношений
Текст: w/k-Redaktion | Раздел: Статьи о художниках
Резюме: В 2017 году связанные с наукой художники и пограничники, а также журналисты, занимающиеся темой «Искусство и наука», которые имеют тесную связь с Дюссельдорфом (с университетом, академией, городом), были приглашен для участия в выставке в Haus der Universität (Дом университета) о Карле Отто Гётце как о художнике, а также об ученом. Среди других пересекших границу между наукой и изобразительным искусством были Мерал Альма, Фолькер Бих, Маркус Шренк и Питер Тепе. Хьюго Бугославски и Барбара Герберт представляли искусство, связанное с наукой. На выставке также упоминались ж/к статьи Александра Беккера, Ирэн Даум и Морица Нихьюса.
Среди других пересекших границу между наукой и изобразительным искусством были Мерал Альма, Фолькер Бих, Маркус Шренк и Питер Тепе. Хьюго Бугославски и Барбара Герберт представляли искусство, связанное с наукой. На выставке также упоминались ж/к статьи Александра Беккера, Ирэн Даум и Морица Нихьюса.
Выставка Искусство и наука: примеры симбиотических отношений проходила с 16 ноября 2017 года по 31 января 2018 года в Haus der Universität на Schadowplatz 14 в Дюссельдорфе (с продлением на один месяц).
Следующий отчет о выставке разделен на две части. Это первая часть, которая включает в себя афишу выставки, каталог выставки ( доступен в формате PDF здесь ), приветственную речь редактора w/k Петера Тепе 16 ноября 2017 г., видео о выставке и фотографии Карстена. Эндерляйн.
Афиша выставки.
Приветственное слово издателя
Уважаемые дамы и господа,
После вступления доцента доктора Кристофа ауф дер Хорста, заместителя директора Haus der Universität, я хотел бы представить вас людям, участвующим в выставке, и объяснить концепт. Выставка «Искусство и наука: примеры симбиотических отношений » — результат сотрудничества Haus der Universität, представленного Кристофом ауф дер Хорст, Джилл Праус и Каем Буерсом; Kunstakademie.gallery Мерала Альмы; и интернет-журнал w/k — Между наукой и искусством , создано и опубликовано мной.
Выставка «Искусство и наука: примеры симбиотических отношений » — результат сотрудничества Haus der Universität, представленного Кристофом ауф дер Хорст, Джилл Праус и Каем Буерсом; Kunstakademie.gallery Мерала Альмы; и интернет-журнал w/k — Между наукой и искусством , создано и опубликовано мной.
Начну с объяснения названия: «симбиотические отношения» относятся к индивидуальным связям, существующим между наукой и искусством. Таких связей много; в w/k мы разделили их на три основные категории:
К первой категории относятся художники, которые опираются в своей работе на научные знания. Мы называем их художниками, связанными с наукой. (Большинство художников не занимаются наукой. В этом, конечно, нет ничего плохого, однако они не являются ядром этой выставки.)
Ко второй категории относятся лица, работающие как в научной, так и в художественной сфере — мы называем их пересекающими границу между двумя областями.
Третья категория включает художников, работающих вместе с учеными: сотрудничество по крайней мере одного художника и по крайней мере одного ученого.
Основываясь на этом различии, я теперь обращаюсь к экспонентам, которые присутствуют все за одним исключением. Когда я упомяну ваше имя, пожалуйста, поднимите руку, чтобы заинтересованные могли узнать вас и связаться с вами позже.
В мире есть много художников, которые применяют научный подход к своей художественной практике. На этой выставке представлен яркий пример такого художника: Хьюго Богуславски, проживающий в настоящее время в Дюссельдорфе, который изучал не только искусство, но и биологию в Мюнстере. Он глубоко занимается такими дисциплинами, как палеонтология, геология, теория эволюции. Эти научные влияния присутствуют в его структурной картине, показанной на 2-м этаже. Он использует, например, найденные им камни как источник вдохновения; Вы найдете их представленными в витрине.
Еще один пример искусства, связанного с наукой, хотя и косвенно представленный, можно найти на 3-м этаже: информационная панель ссылается на ж/к статью Ирен Даум, психолога, нейробиолога и арт-журналиста, проживающего в Дюссельдорфе, которая была опубликована незадолго до открытия этой выставки. Статья посвящена Барбаре Герберт, художнице из Дюссельдорфа, чье творчество также характеризуется сильным научным влиянием, но совершенно иначе, чем у Хуго Богуславского. Барбара Герберт опирается на такие дисциплины, как психология, педагогика и музыковедение. На этом фоне ее новые работы критически исследуют современные представления о красоте.
Статья посвящена Барбаре Герберт, художнице из Дюссельдорфа, чье творчество также характеризуется сильным научным влиянием, но совершенно иначе, чем у Хуго Богуславского. Барбара Герберт опирается на такие дисциплины, как психология, педагогика и музыковедение. На этом фоне ее новые работы критически исследуют современные представления о красоте.
Помимо художников, связанных с наукой, на этой выставке еще более широко представлены редко встречающиеся в других отношениях люди, пересекающие границу. Одним из таких нарушителей границы является Маркус Шренк. Он профессор теоретической философии в Университете Генриха Гейне, но также занимается творчеством; два его объекта выставлены на 1-м этаже, один из которых новый. Он отсылает к произведению Казимира Малевича и использует средства конкретной поэзии.
Вторым пересекающим границу является профессор Фолькер Бех, лингвист на пенсии из Дюссельдорфа. На протяжении десятилетий он также был активным фотографом, что привело его к участию в различных выставках. 10 его фотографий также выставлены на 1-м этаже.
10 его фотографий также выставлены на 1-м этаже.
Мои собственные работы дополняют экспонаты, выставленные на 1-м этаже: Я философ и литературовед в Университете Генриха Гейне. Я также некоторое время учился в Художественной академии Дюссельдорфа и возобновил свою художественную практику несколько лет назад.
Для трех упомянутых выше лиц, пересекающих границу, научная деятельность имеет приоритет над творческой деятельностью. Однако в случае с Мерал Альма все обстоит наоборот. Она собирается закончить обучение живописи в академии искусств в Дюссельдорфе. Дважды подряд она выигрывала стипендию академии и уже добилась больших успехов как художник. Прежде чем получить степень в области искусства, она изучала немецкую филологию и социологию в Университете Генриха Гейне. Ее можно назвать пересекающей границу, поскольку она работает над диссертацией по литературным исследованиям в дополнение к своей более доминирующей художественной деятельности. Ее работы заполняют 2-й этаж вместе с произведениями Гуго Богуславского.
Одним из выдающихся примеров пересечения границы между наукой и изобразительным искусством является Карл Отто Гётц, который недавно умер в возрасте 103 лет. Он был всемирно известным художником, который, как и его жена Рисса, десятилетиями преподавал в художественная академия в Дюссельдорфе. Гётц принадлежит к тем немногим художникам, которые работали или продолжают работать независимо в научной сфере. Тесно сотрудничая с Риссой в качестве эмпирического психолога в 1960-х и 1970-х годах, он работал вместе с ведущими психологами своего времени, такими как Ганс Юрген Айзенк и Даниэль Берлайн, над разработкой и практическим применением тестовых процедур для определения эстетической компетентности. К сожалению, последовательная слепота лишила его возможности продолжать свою научную работу десятилетия назад, а также затруднила ему продолжение творческой деятельности.
На экране в фойе представлены некоторые пары изображений, которые Гётц сопоставил для своего самостоятельно разработанного теста визуальной эстетической чувствительности . Другие научные работы Гетца также представлены в витрине, среди которых книга Probleme der Bildästhetik [Проблемы эстетики изображения] , , написанная вместе с Риссой. Кроме того, Рисса любезно предоставила две графические работы Гётца для этой выставки.
Другие научные работы Гетца также представлены в витрине, среди которых книга Probleme der Bildästhetik [Проблемы эстетики изображения] , , написанная вместе с Риссой. Кроме того, Рисса любезно предоставила две графические работы Гётца для этой выставки.
Но это еще не все. На 3-м этаже представлены пять информационных панелей, посвященных различным товарам; три из них были опубликованы только в последние несколько дней. Философ Александр Беккер (ранее работавший в университете в Дюссельдорфе, а теперь в университете Марбурга) представляет новый тезис об отношениях между искусством и наукой, а в своей последней статье исследует вопрос о том, может ли и каким образом наука стать видимой в произведении искусства. . Ирэн Даум, первую статью которой я упоминал ранее, во второй статье рассказывает о текущем состоянии исследований психологии искусства, исследуя различные точки зрения на эту тему. Наконец, главный редактор w/k Мориц Нихьюз, живущий в Дюссельдорфе и ранее обучавшийся в Университете Генриха Гейне, представляет Леонардо да Винчи как человека, пересекающего границу, уделяя особое внимание «Леонардо как пионеру современной науки и техники». ».
».
На всех четырех этажах вы найдете информационные панели с отрывками из ж/к статей. На каждой панели есть QR-код, который посетители могут отсканировать с помощью своего смартфона, чтобы получить немедленный доступ к полным статьям w/k во время посещения выставки. Те, кто не очень хорошо знаком с использованием QR-кодов, могут прочитать их дома через веб-сайт w/k.
Наряду с информационными панелями витрины также относятся к дидактической составляющей концепции выставки. За исключением коллекции камней Гуго Богуславского, на витринах представлены избранные научные работы участников выставки. Это дает вам представление о научных достижениях, сделанных теми, кто представляет художественные или связанные с искусством работы на выставке.
Наконец, я возвращаюсь к нашей основной отправной точке для концепции выставки: мы выбрали художников, связанных с наукой и пересекающих границу, а также журналистов, занимающихся темой «Искусство и наука», которые тесно связаны с Дюссельдорфом— в университет, в академию, в город.


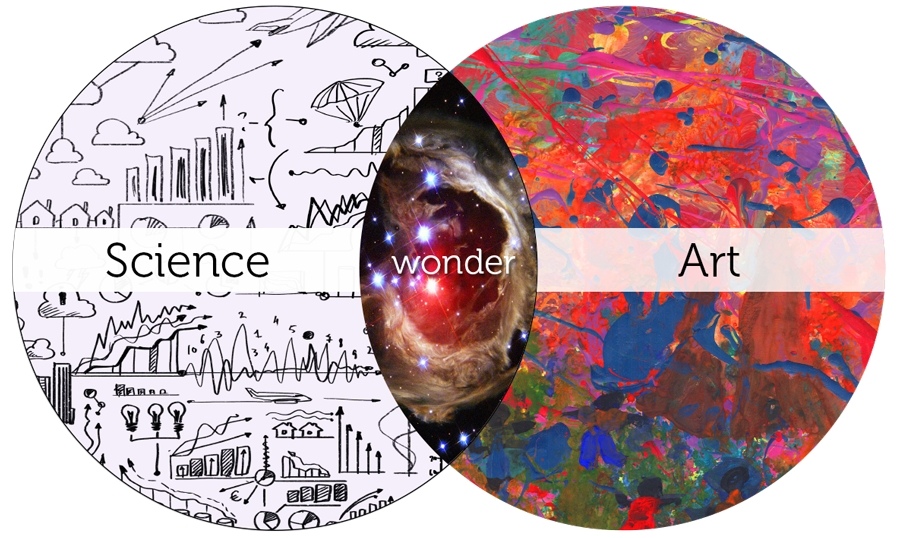
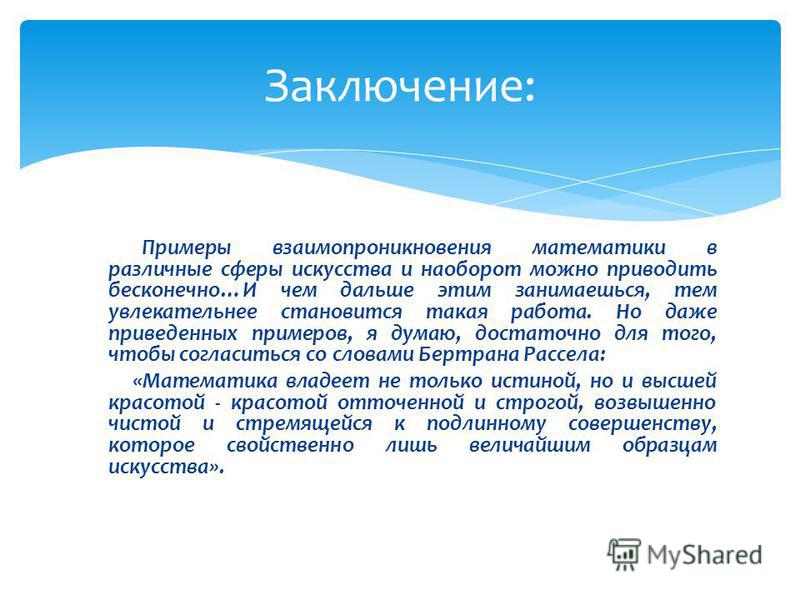
 процесс
процесс

 Фантазия и вымысел позволяют легко
Фантазия и вымысел позволяют легко
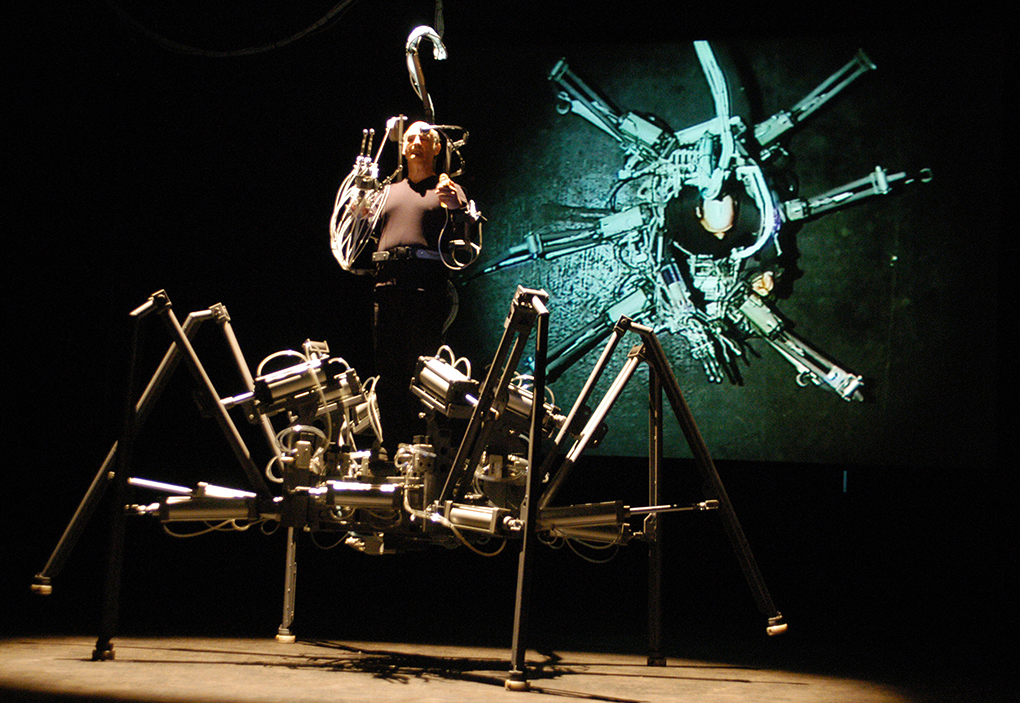 Миф позволяет заострять тот
Миф позволяет заострять тот
 д. Главное почти во всякой религии
д. Главное почти во всякой религии
 Требование
Требование
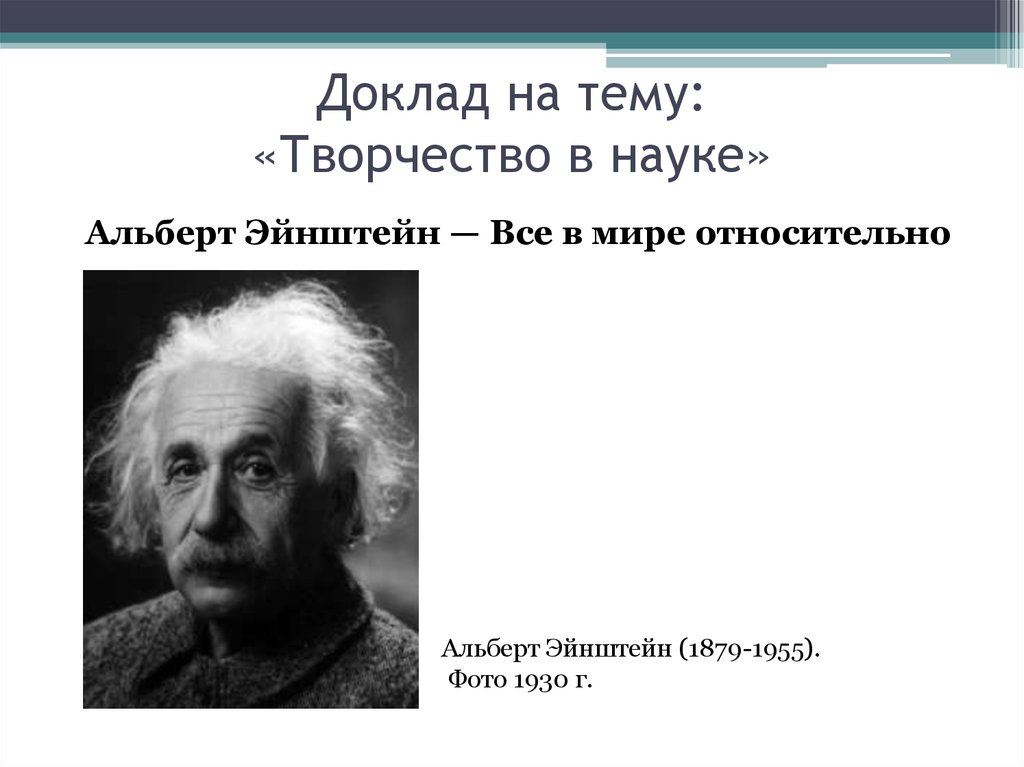 Приобщение к этому миру,
Приобщение к этому миру,
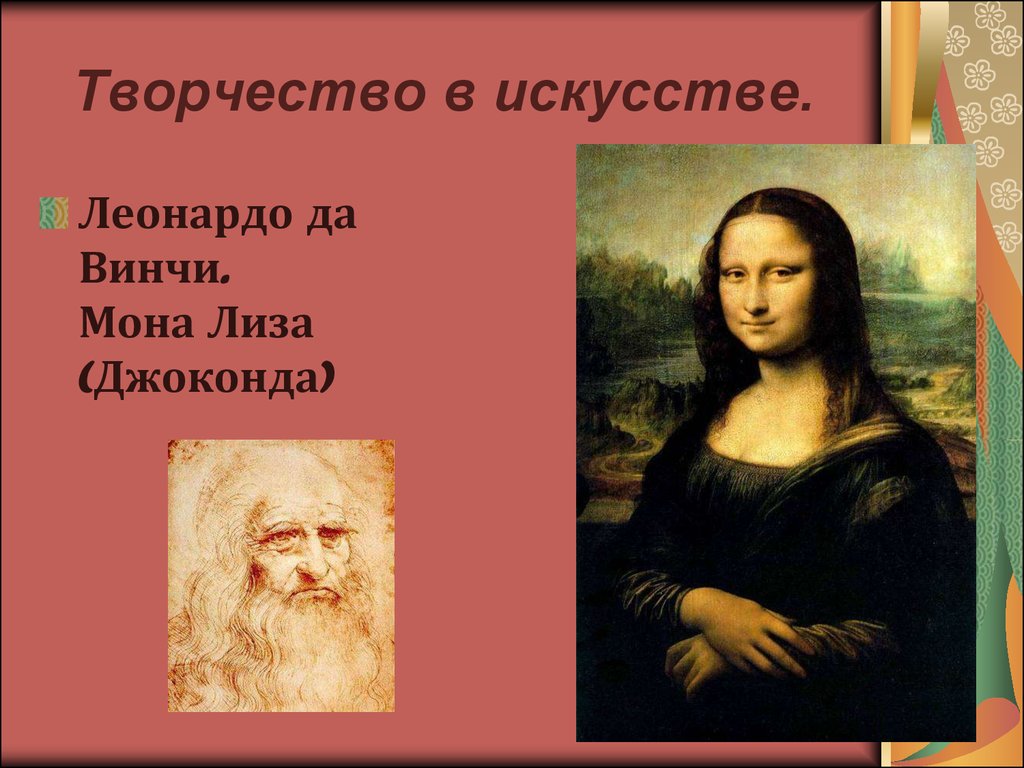 В соответствии с этим возможны различия
В соответствии с этим возможны различия
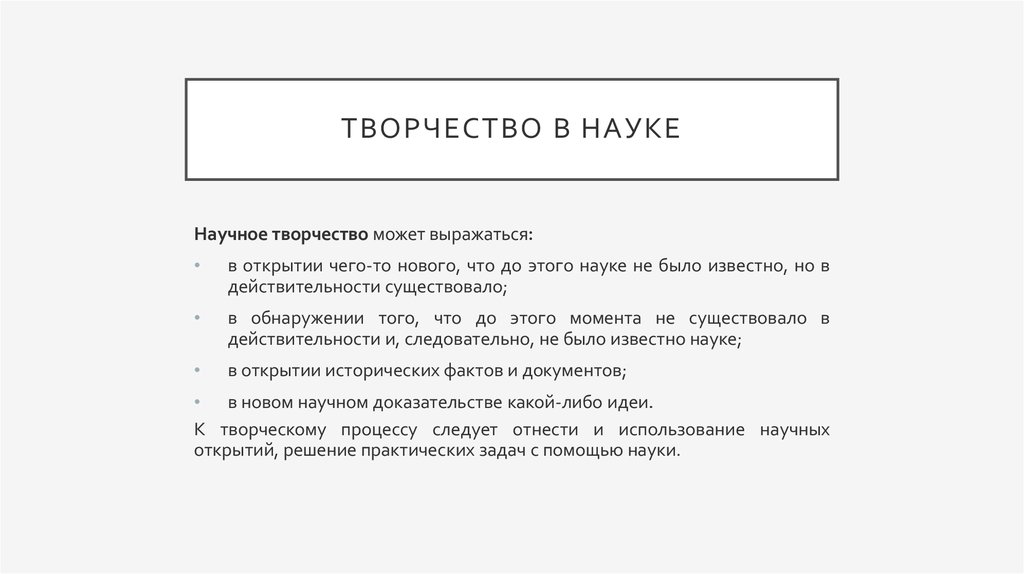 Для
Для
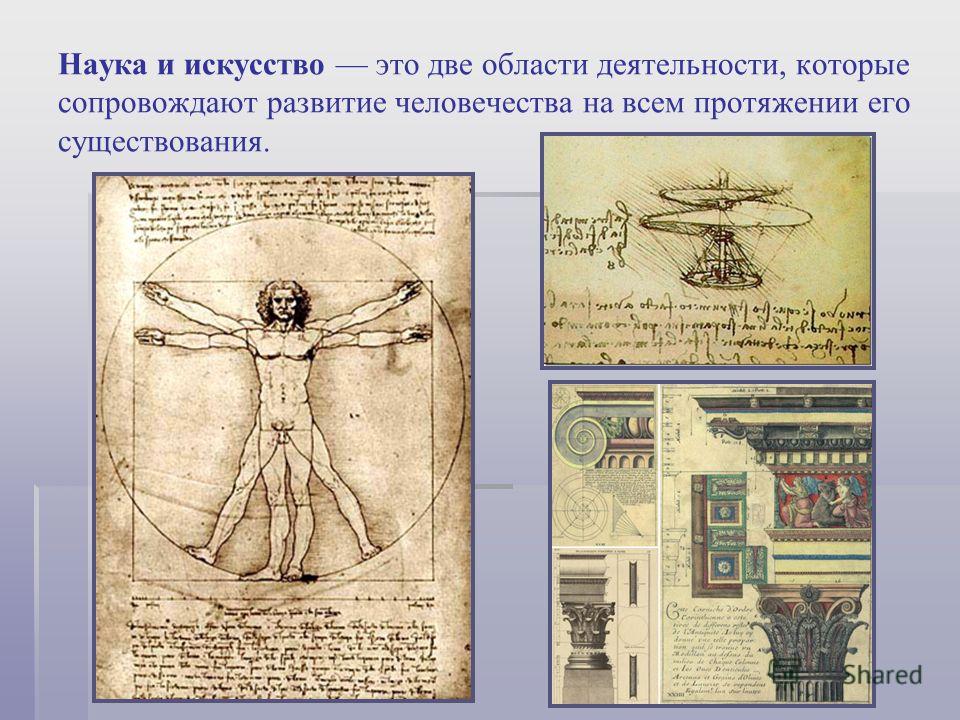
 Наука, давая знания человеку, вооружает
Наука, давая знания человеку, вооружает
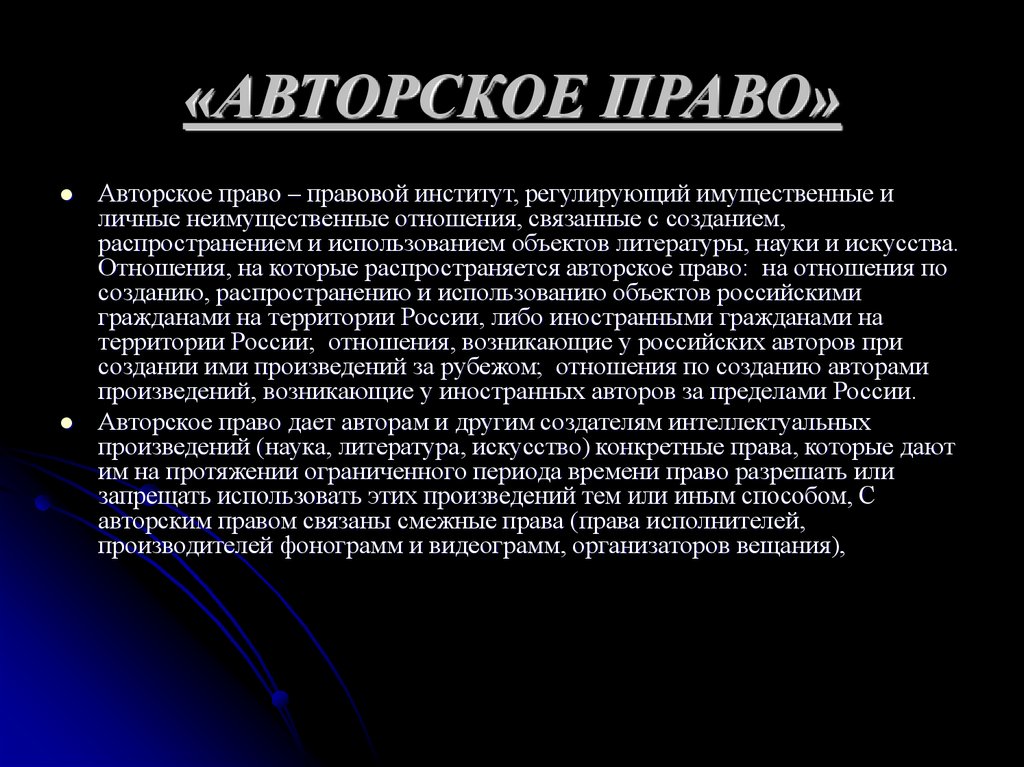 Н. Бердяев подчеркивал, что жажда познания, оторванная от ценностей,
Н. Бердяев подчеркивал, что жажда познания, оторванная от ценностей,
 Технифицированные
Технифицированные
 Можно утверждать, что наука обладает
Можно утверждать, что наука обладает
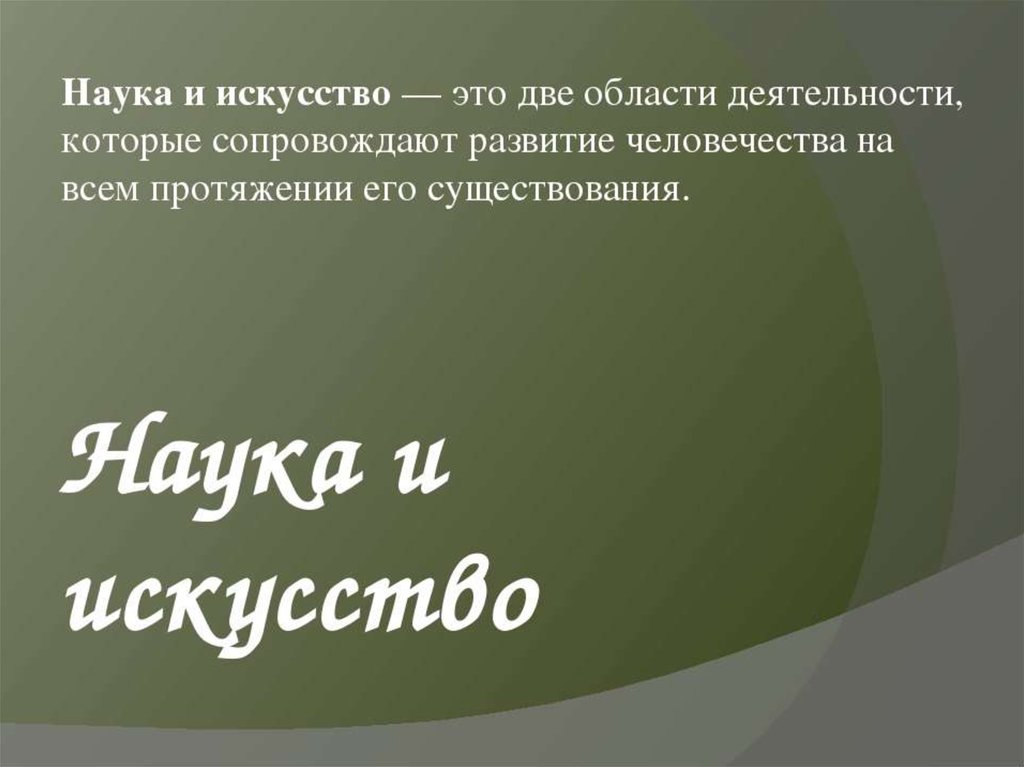 Вернадского, ноосферу —
Вернадского, ноосферу —
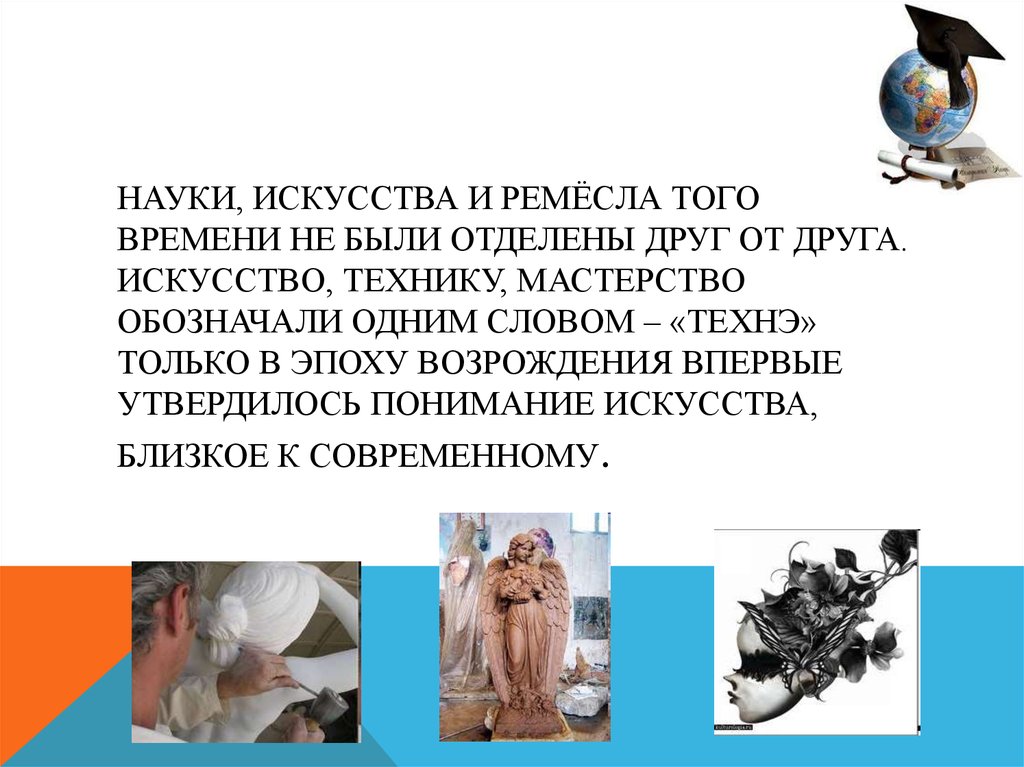 Маркс и Ф. Энгельс. В «Немецкой идеологии» и
Маркс и Ф. Энгельс. В «Немецкой идеологии» и
 Следует также иметь в
Следует также иметь в

 ..». Поэтому
..». Поэтому

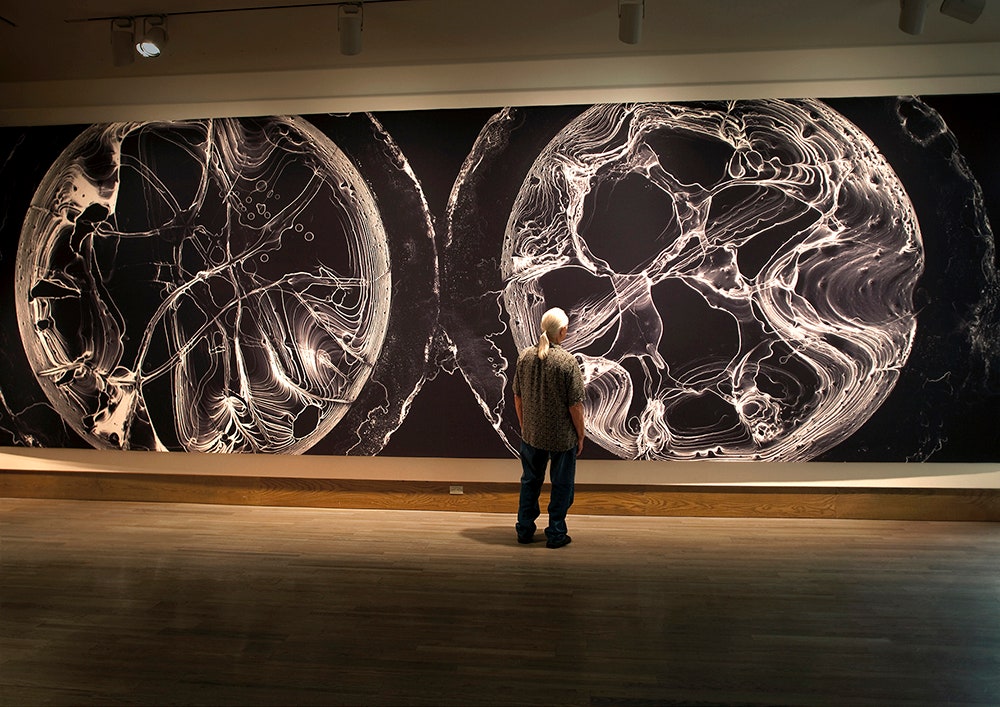 В русле
В русле
 Но для каждого конкретного члена
Но для каждого конкретного члена

 Питерса и Р. Уотермана являются одним из самых
Питерса и Р. Уотермана являются одним из самых
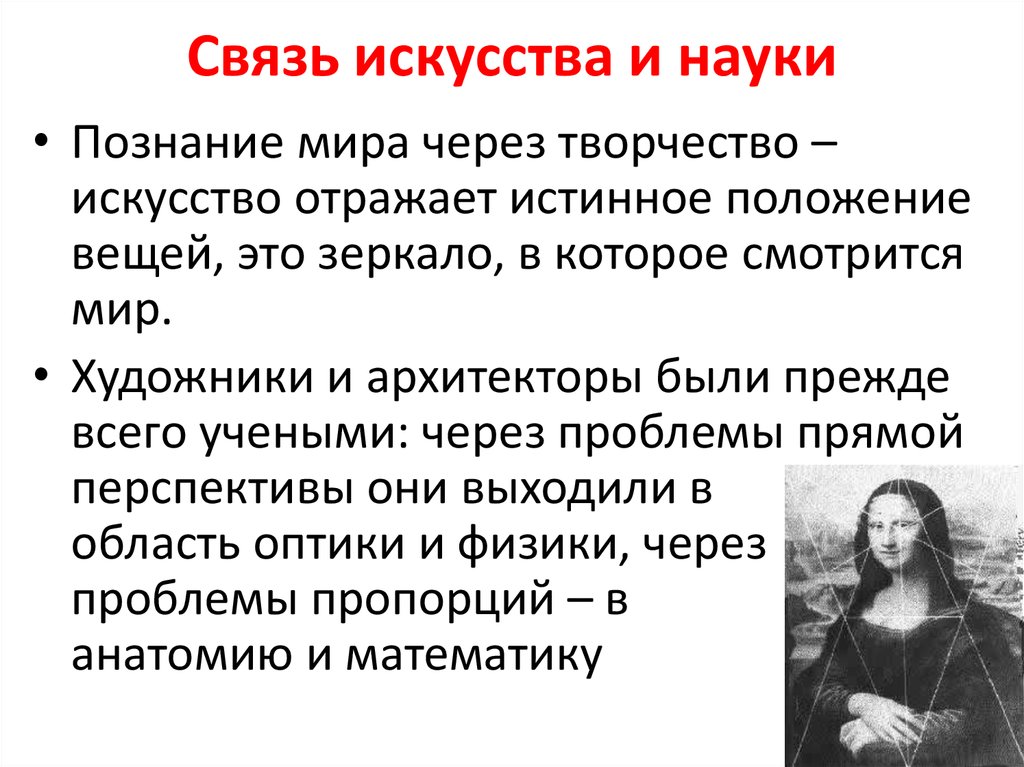 3) Добиваться совершенства во всем. По
3) Добиваться совершенства во всем. По
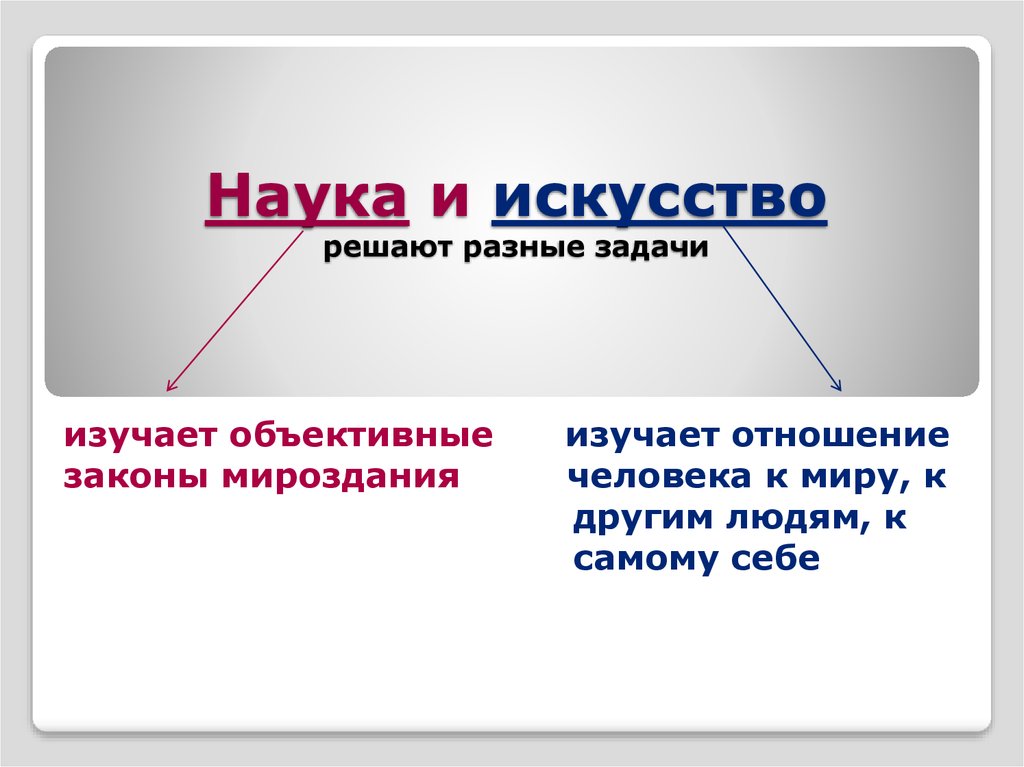 W.S. Media Group © 2002-2018 Все права защищены и принадлежат их законным владельцам.
W.S. Media Group © 2002-2018 Все права защищены и принадлежат их законным владельцам.