Содержание
История России в свете теории цивилизаций – аналитический портал ПОЛИТ.РУ
Мы публикуем полную расшифровку лекции философа, культуролога, востоковеда, одного из крупнейших мыслителей современной России Григория Померанца, прочитанной 27 октября в клубе “Улица ОГИ” в рамках проекта «Публичные лекции «Полит.ру».
Григорий Соломонович Померанц родился в г. Вильно (Вильнюсе) в 1918 г. Окончил отделение русской литературы Института истории, философии, литературы (МИФЛИ), участник Великой Отечественной войны, прошел от Сталинграда до Берлина, был дважды ранен. В 1946 исключен из ВКП(б) за «антипартийные заявления». В 1949 арестован по обвинению в антисоветской деятельности, осужден, заключенный “Каргопольлага”; после смерти Сталина (1953) освобожден и реабилитирован (1956). Работал преподавателем Тульского пединститута (1940-41), в тресте “Союзэнергомонтаж”, киоскером «Союзпечати» (1946-49), учителем в сельской школе (1953-56), библиографом в Библиотеке иностранной литературы и отделе стран Азии и Африки ФБОН АН С ССР (с 1969 – ИНИОН). Печатался преимущественно в самиздате и тамиздате (в советской печати с 1976 года был запрещен). Был одной из очень заметных фигур неофициальной отечественной культурной жизни 1960 – 1970-х гг, заново был открыт уже в 1980-е. Автор ряда работ, ставших крупными событиями в культурной жизни СССР и России, автор книг «Открытость бездне. Встречи с Достоевским», «Лекции по философии истории», «Собирание себя», «Выход из транса», «Образы вечного», “Великие религии мира” (две последние — в соавторстве с З.А. Миркиной), “Записки гадкого утенка” и др.
Печатался преимущественно в самиздате и тамиздате (в советской печати с 1976 года был запрещен). Был одной из очень заметных фигур неофициальной отечественной культурной жизни 1960 – 1970-х гг, заново был открыт уже в 1980-е. Автор ряда работ, ставших крупными событиями в культурной жизни СССР и России, автор книг «Открытость бездне. Встречи с Достоевским», «Лекции по философии истории», «Собирание себя», «Выход из транса», «Образы вечного», “Великие религии мира” (две последние — в соавторстве с З.А. Миркиной), “Записки гадкого утенка” и др.
Лекция
Григорий Померанц (фото Н. Четвериковой)
Один из моих друзей как раз за день до того, как меня сюда пригласили, принес мне распечатку чего-то вроде лекции, которую читал у вас господин Кох. Я от этого и отталкиваюсь. Первое мое впечатление было, что он говорит, вроде, неправильно, но интересно, т.е. в его парадоксах и каких-то скачках мысли я чувствовал противоречия русской жизни, которые он, будучи не профессионалом в этой области, описывал очень скачкообразно, но все время чувствовал за этим что-то живое. А оппоненты сплошь и рядом начинали выдвигать схему, и мне становилось скучно.
А оппоненты сплошь и рядом начинали выдвигать схему, и мне становилось скучно.
Второе мое впечатление, что, речь очень часто сталкивалась с теорией цивилизаций. Скажем, противопоставляли Россию Европе, и никому не приходило в голову, что существует теория цивилизаций, что есть такие имена, как Шпенглер, Тойнби, Л.Н. Гумилев с его попыткой все свести к этносам, мои попытки подчеркнуть важность процесса глобализации и т.д.
Многие выступавшие противопоставляли Европу Азии, как будто Азия – понятие культурологии. Это все равно, что противопоставлять географию культуры физической географии. Азия – понятие физической географии, в географии культуры никакой Азии нет, а есть три разные цивилизации, которые разместились в Азии. Это, прежде всего, мир ислама, поближе к нам. А потом две очень своеобразные, очень далекие от нас, но интересные цивилизации: южно-азиатская и дальневосточная. Они все друг на друга непохожи. Если говорить о том, что устоялось и дожило до нашего дня (потому что в ходе возникновения цивилизации некоторые из них не достраивались, рушились), есть среди них две дуальные группы.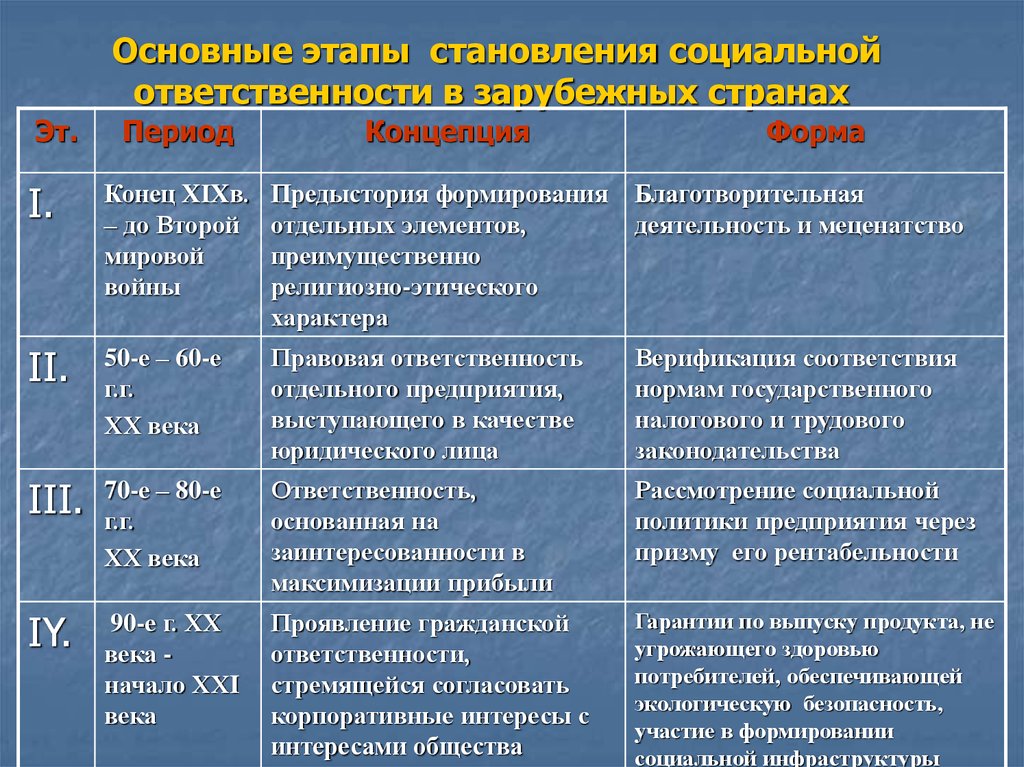 Это средиземноморская и индийско-тихоокеанская.
Это средиземноморская и индийско-тихоокеанская.
Средиземноморская группа в начале нашей эры была представлена двумя ветвями христианства: восточной и западной. Потом Византия рухнула, на ее месте постепенно, вытесняя ее шаг за шагом, утвердился ислам. Но опять-таки это были две в некотором отношении родственные цивилизации. Корни и той, и другой цивилизации уходили в Афины и Иерусалим, т.е. философия восходила к Аристотелю и Платону, а религия восходила к толчку монотеизма, который мы находим в Ветхом Завете.
Совершенно другой мир – индийско-тихоокеанский. Когда Шпенглер сказал, что араб никогда не поймет китайца, он, конечно, преувеличивал, но до некоторой степени был прав. Разница между исламом и индийской или китайской цивилизацией гораздо больше, чем разница между христианством и исламом. Известное понимание христианства есть уже в Коране. Между тем, в индийско-тихоокеанском регионе примерно в то же время сложились цивилизации, очень слабо связанные присутствием буддизма в той и другой, но очень непохожие друг на друга.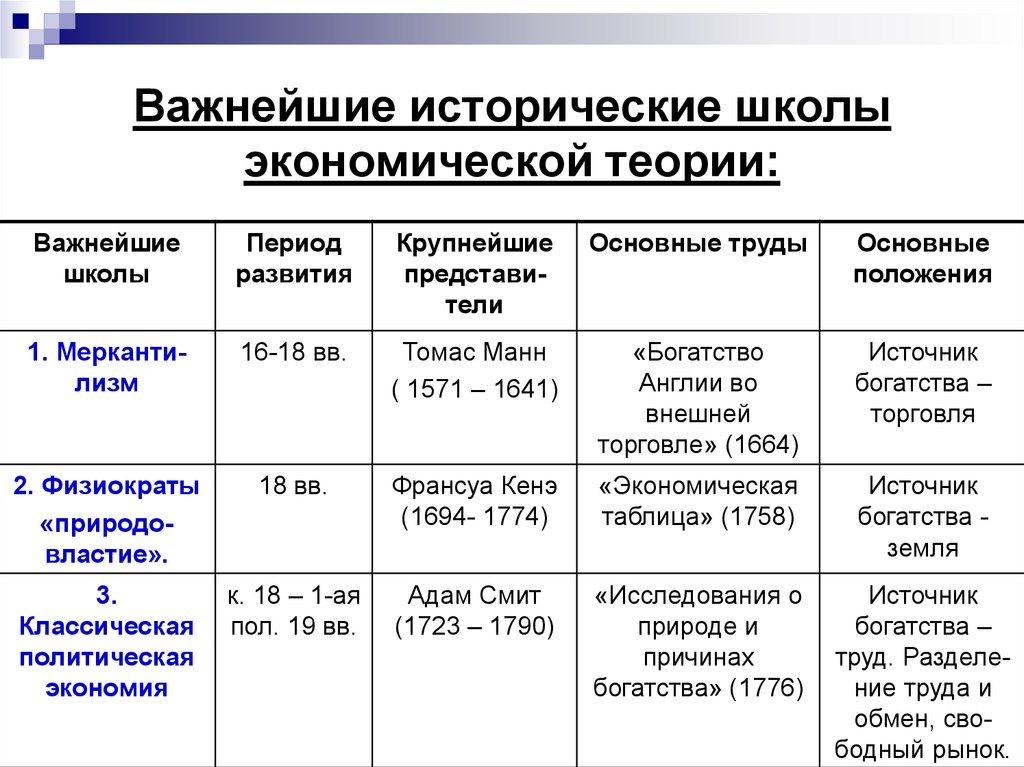
Когда задавался вопрос, что же такое Россия, европейская страна или азиатская, мне сразу хотелось задать контрвопрос: “Простите, а к какой азиатской цивилизации, вы думаете, Россия ближе: исламу, индийской или китайской?” Это конкретный культурологический вопрос, а Азия – это физическая география. Хотя Россия достаточно долго блуждала между более крупными, субглобальными цивилизациями, она все-таки оставалась почти исключительно в кругу средиземноморских цивилизаций. Я назвал их субглобальными и сразу поясню.
Примем за рабочее определение то, что сказал о цивилизации Э.Дюркгейм: “Цивилизация – это группа стран, объединенных единым milieu (это слово англичане печатают курсивом, отказываются переводить, и я не буду переводить), скажем, объединенные одним духом, который каждая из этих стран по-своему выражает”. Дюркгейм писал в период, когда господствовал позитивизм, а если учесть, с чего действительно начиналось, то каждая из субглобальных цивилизаций имеет, когда они совершенно оформились, общий компендиум священных текстов. Это не всегда одна книга – Библия, это может быть много книг Китая, известен набор священных текстов. Есть общий язык священных текстов и общий шрифт, что кажется незначительным, хотя это очень важно, потому что потом этим шрифтом пользуются все местные языки и возникает пространство облегченных контактов. Я долго работал библиографом и должен вам сказать, что когда я получал в руки журнал на финском или венгерском языке, которые я, естественно, не знал, но напечатанные латиницей, то, полистав его, находил какие-то общие распространенные термины, мог понять, что это такое, филология или физиология. Если же передо мной были арабские или индийские литеры, то я просто откладывал, пока их не посмотрит специалист. Таким образом, этот общий шрифт был какой-то заменой нынешних средств массовой информации, которые связали земной шар, они хоть и с трудом, но как-то позволяли связаться друг с другом.
Это не всегда одна книга – Библия, это может быть много книг Китая, известен набор священных текстов. Есть общий язык священных текстов и общий шрифт, что кажется незначительным, хотя это очень важно, потому что потом этим шрифтом пользуются все местные языки и возникает пространство облегченных контактов. Я долго работал библиографом и должен вам сказать, что когда я получал в руки журнал на финском или венгерском языке, которые я, естественно, не знал, но напечатанные латиницей, то, полистав его, находил какие-то общие распространенные термины, мог понять, что это такое, филология или физиология. Если же передо мной были арабские или индийские литеры, то я просто откладывал, пока их не посмотрит специалист. Таким образом, этот общий шрифт был какой-то заменой нынешних средств массовой информации, которые связали земной шар, они хоть и с трудом, но как-то позволяли связаться друг с другом.
Предшественниками субглобальных цивилизаций были отдельные очаги высокой культуры, вокруг которых складывалось некоторое пространство общения, хотя и очень рыхлое.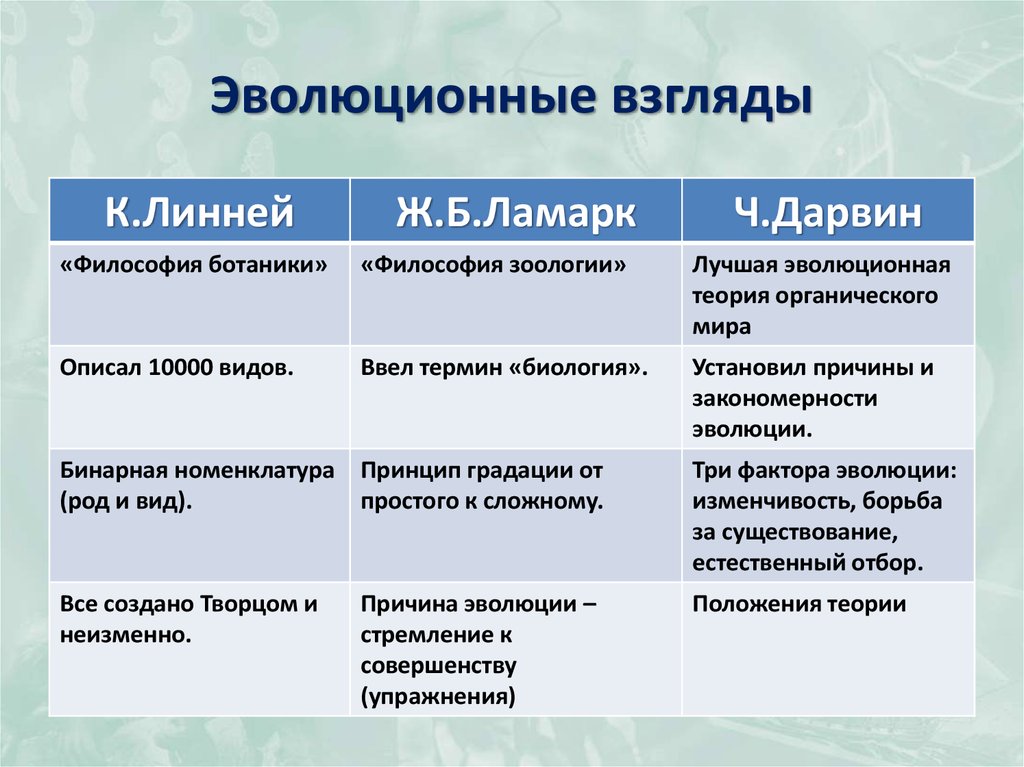 И постепенно возникла потребность в каком-то общем языке, который все понимают. Еще в III тыс. до Р.Х. была создана первая грамматика шумерского языка, потому что это был язык международного общения. Писать грамматики родных языков никому не приходило в голову, их выучивали и так, как учатся маленькие дети, просто прислушиваясь к родителям.
И постепенно возникла потребность в каком-то общем языке, который все понимают. Еще в III тыс. до Р.Х. была создана первая грамматика шумерского языка, потому что это был язык международного общения. Писать грамматики родных языков никому не приходило в голову, их выучивали и так, как учатся маленькие дети, просто прислушиваясь к родителям.
Но дальше этих рыхлых культурных кругов дело тогда не шло, общих святынь очень долго не было. И в этих рыхлых региональных обществах то возникали империи, то рушились. Рушились, потому что не было духовных связей: один завоеватель сколачивал империю, другой ее рушил, создавал по-своему. И где-то ближе к началу нашей эры, примерно между VI в. до Р.Х. и VII в. н.э. положение изменилось: возникли религии, которые мы называем мировыми, хотя они в сущности субглобальные, они все были религии одного крупного региона. Возникли имперско-конфессиональные единства. Это была, собственно, вторая ступень глобализации.
Первая ступень – это такие рыхлые культурные круги, которые завоеватели то строили, то рушили.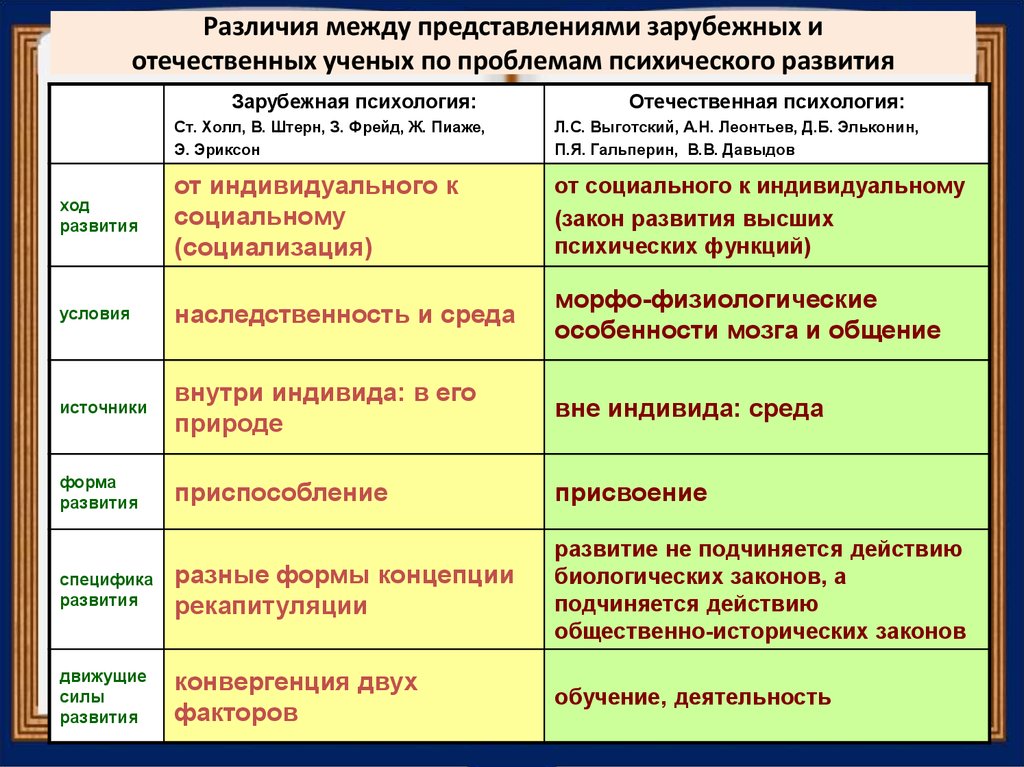 А вторая, уже более устойчивая, – имперско-конфессиональные единства, которые могли сохраняться и тогда, когда империи рушились. Например, Западная Римская империя рухнула, но римско-католическая церковь, твердо державшаяся за латинский язык церкви, хотя его во многих странах совершенно не понимали, удержала единство Запада.
А вторая, уже более устойчивая, – имперско-конфессиональные единства, которые могли сохраняться и тогда, когда империи рушились. Например, Западная Римская империя рухнула, но римско-католическая церковь, твердо державшаяся за латинский язык церкви, хотя его во многих странах совершенно не понимали, удержала единство Запада.
В результате, можно сказать, что зримыми границами субглобальной цивилизации является латиница (это граница Запада), арабская вязь (это граница мира ислама, хотя теми же литерами пользуется и персидский язык, и урду, и многие другие языки), в южной Азии — деванагари для индуистской части, другая – для отколовшихся от индуизма еретических религий, буддизма и джайнизма. И, наконец, граница Дальнего Востока – это употребление иероглифов. Какой-нибудь японский монах, не умевший сказать по-китайски ни одного слова, но знавший иероглифы, приезжал, чтобы прочитать какую-нибудь знаменитую сутру, о которой он слышал, и, встретив человека в желтой одежде, он кланялся, доставал тушечницу, тушь, иероглифами объяснял, что ему нужно, и ему иероглифами объясняли, куда идти. Хотя произносились эти иероглифы в каждой стране по-разному, общение было возможно.
Хотя произносились эти иероглифы в каждой стране по-разному, общение было возможно.
Цивилизация, безусловно, не сводится к трем приметам, но общность святынь, священного языка и шрифта – своего рода паспорт, свидетельство о вероятной устойчивости цивилизации в истории.
Россия – страна, развивавшаяся на перекрестке субглобальных цивилизаций и испытавшая глубокое влияние, по крайней мере, трех, а отчасти даже четырех. Одно влияние ломало другое, но не могло его совсем сломить, и возник своего рода слоеный пирог из разных сортов теста. Что это дало психологии русского человека? Что это дало историкам? Я приведу три отрывка из сочинений писателей, обладавших исторической интуицией. Первые два отрывка из “Игрока” и “Подростка” Достоевского, а третий – цитата из размышлений Синявского в лагере, взятая из его “Голоса из хора”.
Вот отрывок из “Игрока”. “Я, пожалуй, достойный человек, — говорит Алексей Иванович, — а поставить себя с достоинством не умею. Вы понимаете, что так может быть? Да все русские таковы, и знаете почему: потому что русские слишком богато и многосторонне одарены, чтоб скоро приискать себе приличную форму.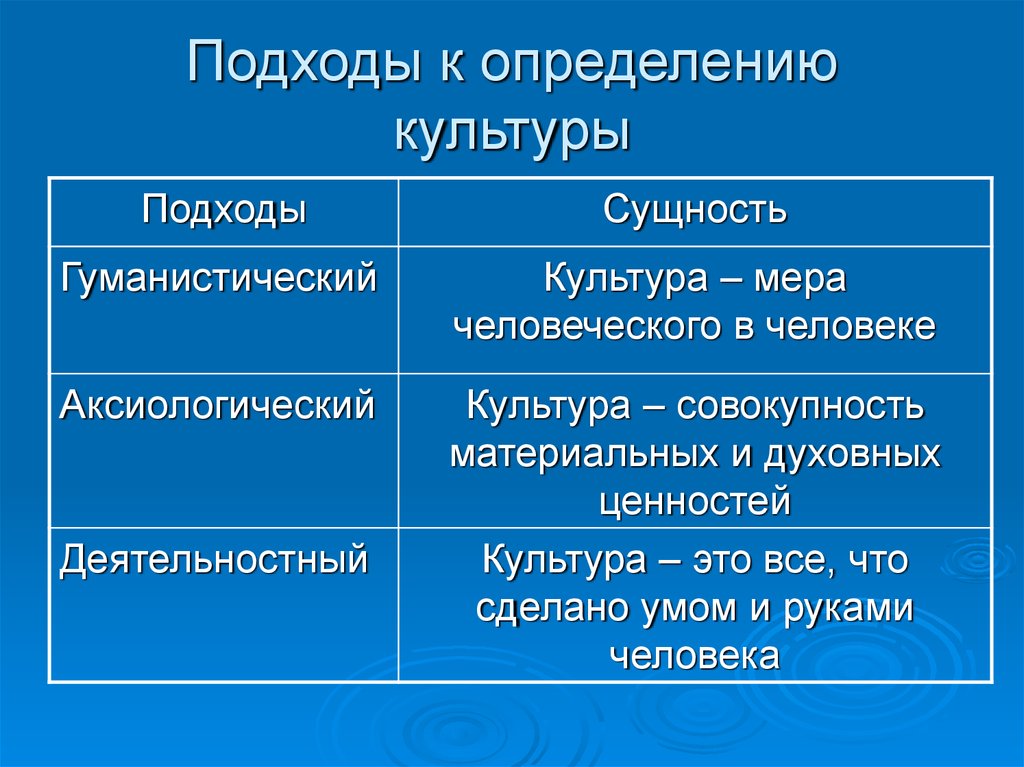 Тут дело в форме. Большею частью мы, русские, так богато одарены, что для приличной формы нам нужна гениальность. Ну, а гениальности-то всего чаще и не бывает, потому что она и вообще редко бывает. Это только у французов и, пожалуй, у некоторых других европейцев так хорошо определилась форма, что можно глядеть с чрезвычайным достоинством и быть самым недостойным человеком. Оттого так много форма у них и значит”. И далее: “Оттого так и падки наши барышни на французов, что форма у них хороша”. Это из V главы “Игрока”.
Тут дело в форме. Большею частью мы, русские, так богато одарены, что для приличной формы нам нужна гениальность. Ну, а гениальности-то всего чаще и не бывает, потому что она и вообще редко бывает. Это только у французов и, пожалуй, у некоторых других европейцев так хорошо определилась форма, что можно глядеть с чрезвычайным достоинством и быть самым недостойным человеком. Оттого так много форма у них и значит”. И далее: “Оттого так и падки наши барышни на французов, что форма у них хороша”. Это из V главы “Игрока”.
Слово “форма” повторяется в нескольких строчках шесть(!) раз. Одна из причин несобранности русского ума – сплетение нескольких культур, участвовавших в формировании России. Это противоречивое богатство трудно уложить в прочно сбитую форму. В Европе или в офранцуженном высшем свете герой Достоевского чувствует себя не таким, как надо, не только как разночинец, но как человеческий тип, слишком много впустивший, слишком открытый другому. Граф Толстой тоже чувствовал себя comme il ne faut pas, я это уловил еще студентом, потому что сам был близок к переживанию этого comme il ne faut pas, т. е. не такой, как надо, в советском обществе.
е. не такой, как надо, в советском обществе.
И первым человеком comme il ne faut pas я признавал Гамлета, в переломные эпохи “не такие, как надо” становятся расхожим типом, но наиболее одаренные из них, действительно, несут в себе незрелую, ломкую, но подлинную широту, превосходящую штатных носителей национальной культуры. И Версилов, попав в Европу, чувствует себя единственным общеевропейцем, подлинным европейцем, превосходящим французов, немцев и других носителей частностей Европы, осколков Европы, которую он воспринимает как своего рода единую духовную империю.
Я сейчас процитирую обрывки, разбросанные по трем страницам. “У нас создался веками какой-то еще нигде не виданный высший культурный тип, которого нет в целом мире. Нас может быть всего тысяча человек, может, более, может, менее, но вся Россия жила лишь пока для того, чтобы произвести эту тысячу. Один лишь русский даже в наше время, т.е. гораздо раньше, чем будет подведен всеобщий итог, получил способность становиться русским именно лишь тогда, когда он наиболее европеец.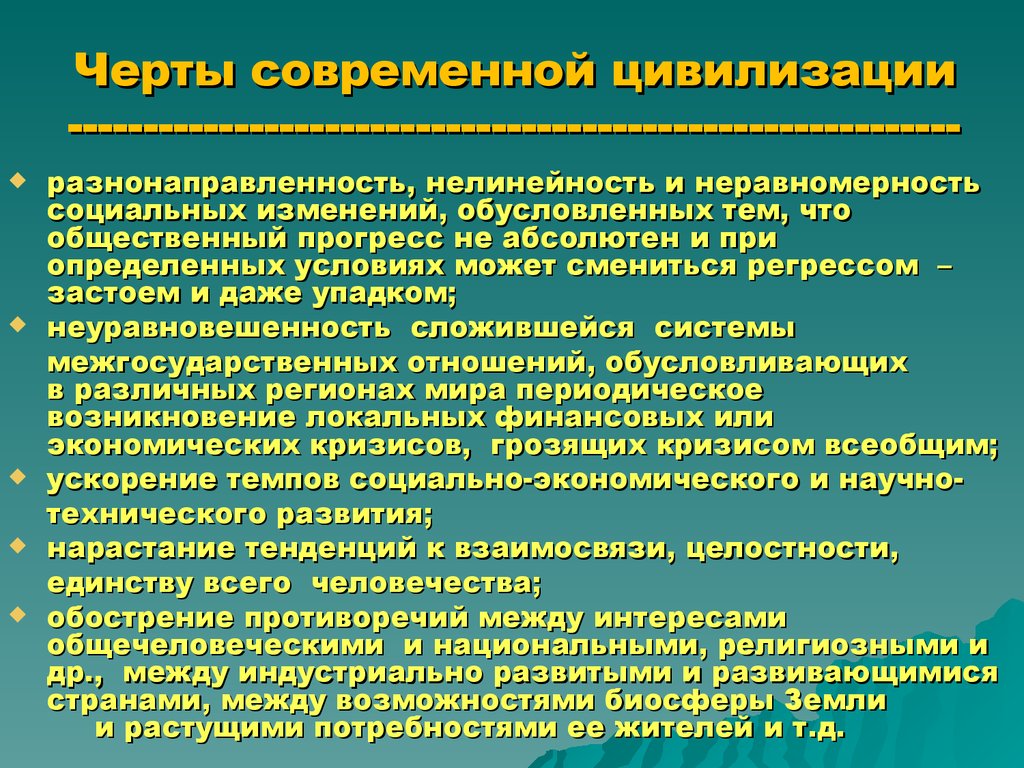 Это и есть самое существенное национальное различие наше от всех. И у нас на этот счет как нигде. Я во Франции – француз, с немцем – немец”. Об этой одинокой русскости Достоевский писал и от собственного лица в своем дневнике, говоря о всемирной отзывчивости. Но он думал не о Китае, не об Индии, не об исламе, он думал о Европе. Всемирный Достоевский – это всеевропеец. Действительно, творчество Достоевского нельзя себе представить без огромной вчитанности в европейскую культуру.
Это и есть самое существенное национальное различие наше от всех. И у нас на этот счет как нигде. Я во Франции – француз, с немцем – немец”. Об этой одинокой русскости Достоевский писал и от собственного лица в своем дневнике, говоря о всемирной отзывчивости. Но он думал не о Китае, не об Индии, не об исламе, он думал о Европе. Всемирный Достоевский – это всеевропеец. Действительно, творчество Достоевского нельзя себе представить без огромной вчитанности в европейскую культуру.
Синявский подхватывает и сплетает оба мотива, чувство неловкости человека, перегруженного информацией, принятой в душу, и чувство гения, взлетающего над ограниченностью штатного европейца: француза, немца, англичанина. Русскую широту Синявский выводит из Святого Духа, который веет, где хочет, но особенно свободно в России именно потому, что она так и не сложилась в устойчивую замкнутую форму, потому что в ней много метафизических щелей. Картины, которые он рисует, выводят нас из области индивидуальной психологии и дают целостный образ народа, создают нечто вроде идеального типа русской истории, как сказал бы Макс Вебер. Макс Вебер создавал идеальные типы, такие картины цивилизации: идеальный тип Индии, идеальный тип Японии и т.д.
Макс Вебер создавал идеальные типы, такие картины цивилизации: идеальный тип Индии, идеальный тип Японии и т.д.
Так вот Синявский набросал такой идеальный тип России. В нескольких строках. “Религия Святого Духа как-то отвечает нашим национальным физиономическим чертам — природной бесформенности (которую со стороны ошибочно принимают за дикость или за молодость нации), текучести, аморфности, готовности войти в любую форму… нашим порокам или талантам мыслить и жить артистически при неумении налаживать повседневную жизнь как что-то вполне серьезное… В этом смысле Россия — самая благоприятная почва для опыта и фантазий художника, хотя его жизненная судьба бывает подчас ужасна”. Это, кстати, из письма, написанного из Мордовских лагерей. “От духа — мы чутки ко всяким идейным веяниям, настолько, что в какой-то момент теряем язык и лицо и становимся немцами, французами, евреями и, опомнившись, из духовного плена бросаемся в противоположную крайность, закостеневаем в подозрительности и низколобой вражде ко всему иноземному.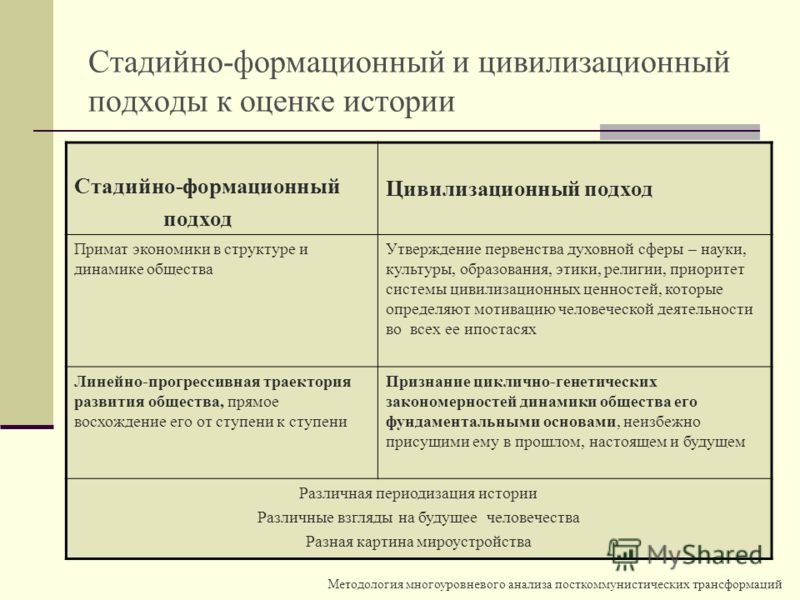 .. Слово – не воробей, вылетит – не поймаешь. Слово для нас настолько весомо, что заключает материальную силу, требуя охрану, цензуру. Мы — консерваторы, оттого что мы — нигилисты, и одно оборачивается другим и замещает другое в истории. Но все это оттого, что Дух веет, где хощет, и, чтобы нас не сдуло, мы, едва отлетит он, застываем коростой обряда, льдом формализма, буквой указа, стандарта. Мы держимся за форму, потому что нам не хватает формы, пожалуй, это единственное, чего нам не хватает”. Таким образом, в конце Синявский смыкается с Достоевским, который акцентирует неумение самостоятельно создавать формы.
.. Слово – не воробей, вылетит – не поймаешь. Слово для нас настолько весомо, что заключает материальную силу, требуя охрану, цензуру. Мы — консерваторы, оттого что мы — нигилисты, и одно оборачивается другим и замещает другое в истории. Но все это оттого, что Дух веет, где хощет, и, чтобы нас не сдуло, мы, едва отлетит он, застываем коростой обряда, льдом формализма, буквой указа, стандарта. Мы держимся за форму, потому что нам не хватает формы, пожалуй, это единственное, чего нам не хватает”. Таким образом, в конце Синявский смыкается с Достоевским, который акцентирует неумение самостоятельно создавать формы.
Эта характеристика может быть обоснована без упоминания всуе имени Царя небесного, утешителя, духа истины. Восточно-славянские племена обладали повышенной гибкостью и восприимчивостью. Благодаря этому они освоили территорию от Белого до Черного моря, тогда как финны жили в лесах, а скифы в степях. Но подобное достоинство можно признать и у племен банту. Подгоняемые высыханием Сахары, они прошли сквозь влажные леса до степей Южной Африки. Великую культуру банту при этом не создали. Не создали бы древляне и вятичи, если бы к славянскому дичку не были привиты чужие ветви. Византийская ветвь дала Андрея Рублева. Западная ветвь дала Достоевского и Толстого. Форма романа, которую они развили и использовали для полемики с Западом, сложилась под пером Сервантеса и укоренилась во Франции, в Англии прежде, чем попала в Россию. Так же, как образ Троицы, усовершенствованный Рублевым, имел долгую историю до возникновения России.
Великую культуру банту при этом не создали. Не создали бы древляне и вятичи, если бы к славянскому дичку не были привиты чужие ветви. Византийская ветвь дала Андрея Рублева. Западная ветвь дала Достоевского и Толстого. Форма романа, которую они развили и использовали для полемики с Западом, сложилась под пером Сервантеса и укоренилась во Франции, в Англии прежде, чем попала в Россию. Так же, как образ Троицы, усовершенствованный Рублевым, имел долгую историю до возникновения России.
Синявский прав, русский гений способен влиться в любую форму и усовершенствовать ее, но теряет силу, когда нужно создание формы. Культура, развившаяся на перекрестке мощных духовных влияний, в некоторых случаях способна к созданию новой самостоятельной цивилизации. Это удалось в Тибете. Но в России этому мешали периодические ломки, не дававшие устояться в тишине. Русские показали себя учениками, способными превзойти своих учителей, но в формах, созданных учителями. Это и сегодня хочется напомнить в связи с попытками воскресить мертворожденную Евразию.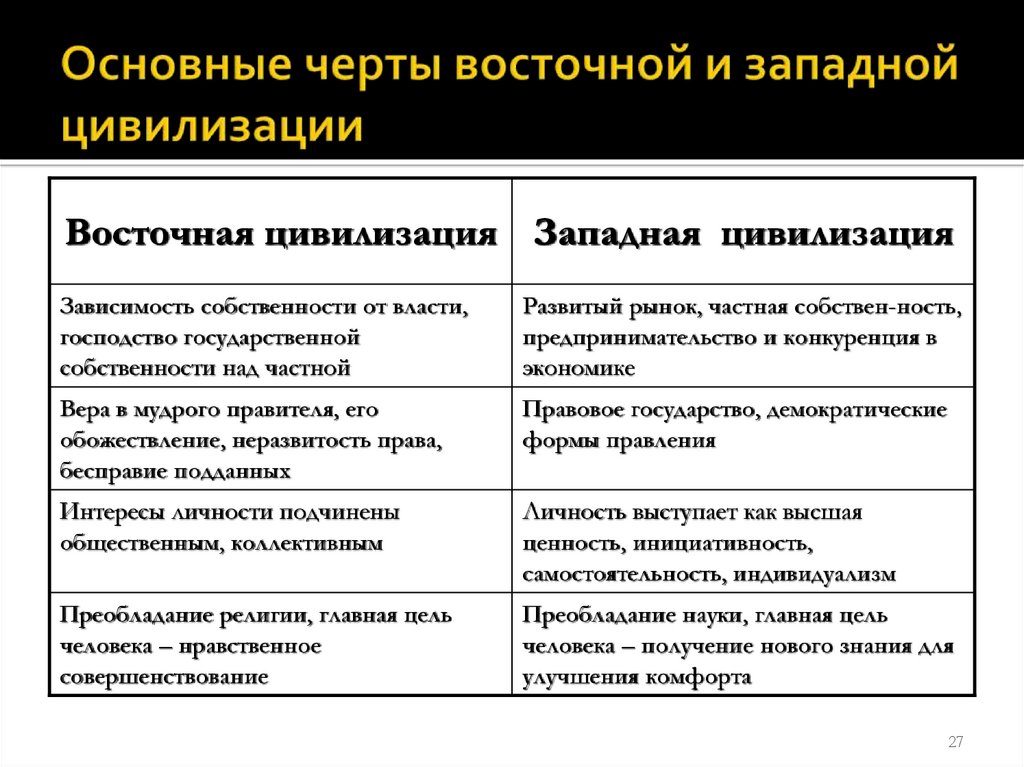 Русскую национальную культуру хочется продолжить с того места, на котором ее рост оборвали большевики. Не пытаясь упразднить многослойность России, но только превратив глухую вражду принципов в цивилизованный диалог.
Русскую национальную культуру хочется продолжить с того места, на котором ее рост оборвали большевики. Не пытаясь упразднить многослойность России, но только превратив глухую вражду принципов в цивилизованный диалог.
Россия восприняла открытость Богу от византийской иконы, доходившей до сердца и без знания греческого языка, и восприняла западную, с эпохи Ренессанса, открытость миру и человеку, ставшую родной для русского интеллигента, начитавшегося западных классиков. Но еще до этого Россия восприняла у Китая через монгольское посредство систему подушной подати и круговой поруки, созданные самой антикультурной из китайских династий, сжигавшей книги и топившей в нужниках конфуцианских ученых. Это наследие Цинь Ши Хуанди и его вельможи Шан Яна стало мощным рычагом в руках князей Москвы, самого отатаренного из русских княжеств, по характеристике Федотова. Фискальная система, по которой община платила подати за тех, кто бежал от фиска, заставляла посадских людей самих просить запрета менять им место жительства. В том же направлении менялось положение крестьянства. Мощь Московии, а потом империи Российской росла одновременно с ростом и ужесточением рабства. Это характеристика Федотова. Впоследствии, не читая Федотова, это повторил Гроссман, и за это его обвинили в русофобии. Но здесь ведь дело не в этнических чертах, а во влиянии известных налоговых систем. Влияние не однозначное. Удальцы, не мирившиеся с рабством, уходили через открытые границы на юг до Терека и на восток до Чукотки, Аляски и Сан-Франциско или восставали, не умели создать новой власти и возвращались под ярмо, продолжая свой бунт в форме кражи, если барское добро плохо лежит, как и сегодня это длится. Расцвет кражи, в сущности, – это продолжение бунта, продолжение смуты в неразвитой форме.
В том же направлении менялось положение крестьянства. Мощь Московии, а потом империи Российской росла одновременно с ростом и ужесточением рабства. Это характеристика Федотова. Впоследствии, не читая Федотова, это повторил Гроссман, и за это его обвинили в русофобии. Но здесь ведь дело не в этнических чертах, а во влиянии известных налоговых систем. Влияние не однозначное. Удальцы, не мирившиеся с рабством, уходили через открытые границы на юг до Терека и на восток до Чукотки, Аляски и Сан-Франциско или восставали, не умели создать новой власти и возвращались под ярмо, продолжая свой бунт в форме кражи, если барское добро плохо лежит, как и сегодня это длится. Расцвет кражи, в сущности, – это продолжение бунта, продолжение смуты в неразвитой форме.
Так сложился русский слоеный пирог, сдавленный самодержавием, но не спекшийся и периодически грозивший распадом и смутой. Казачья воля сотрясала рабство, византийский чин не ладился с европейскими правами человека. Сравнительно с этим пирогом Франция, Марокко или Корея кажутся булками, испеченными из одного куска теста, сотни и тысячи лет развиваясь в рамках одной субглобальной цивилизации, одной иерархии святынь, одних норм.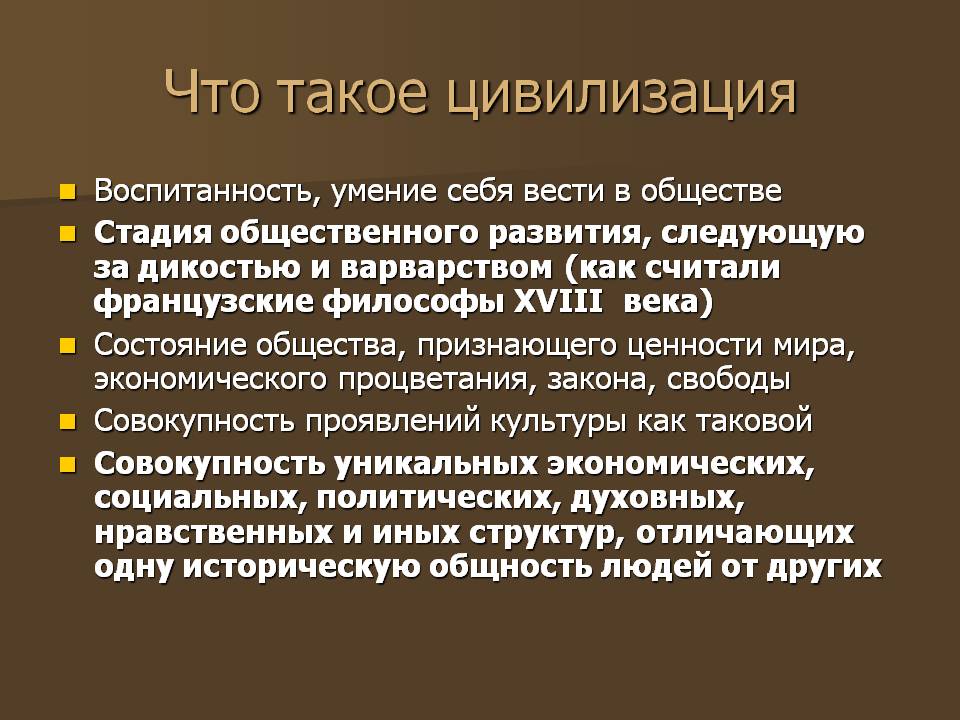
Можно возразить, что Древняя Русь по основам своей веры входила в византийский культурный круг и остальные влияния были внешние, не вторгались в святая святых. Но святая святых была представлена только иконой. Византийцы не потрудились распространить свой язык, как это сделала римская церковь. Рим завоевали варвары, но латынь твердой рукой держала западный мир. Византийский культурный круг не был достроен до законченной субглобальной цивилизации с единым языком церкви и вершин культуры.
Субглобальная цивилизация – это единое пространство информации, сохраняющееся и без империи. Возникали новые нации и новые языки, но понимание их было облегчено стандартным шрифтом, на Дальнем Востоке – иероглифами. Таким образом, сохранялась единая система ценностей. Между тем, византийцы перевели на церковно-славянский язык лишь Библию и Псалтырь, т.е. общехристианские тексты. Добротолюбие, собрание святоотеческой литературы, собственно составлявшее основу восточной церкви, в отличие от западной, стало доступным русским читателям только в XVIII в.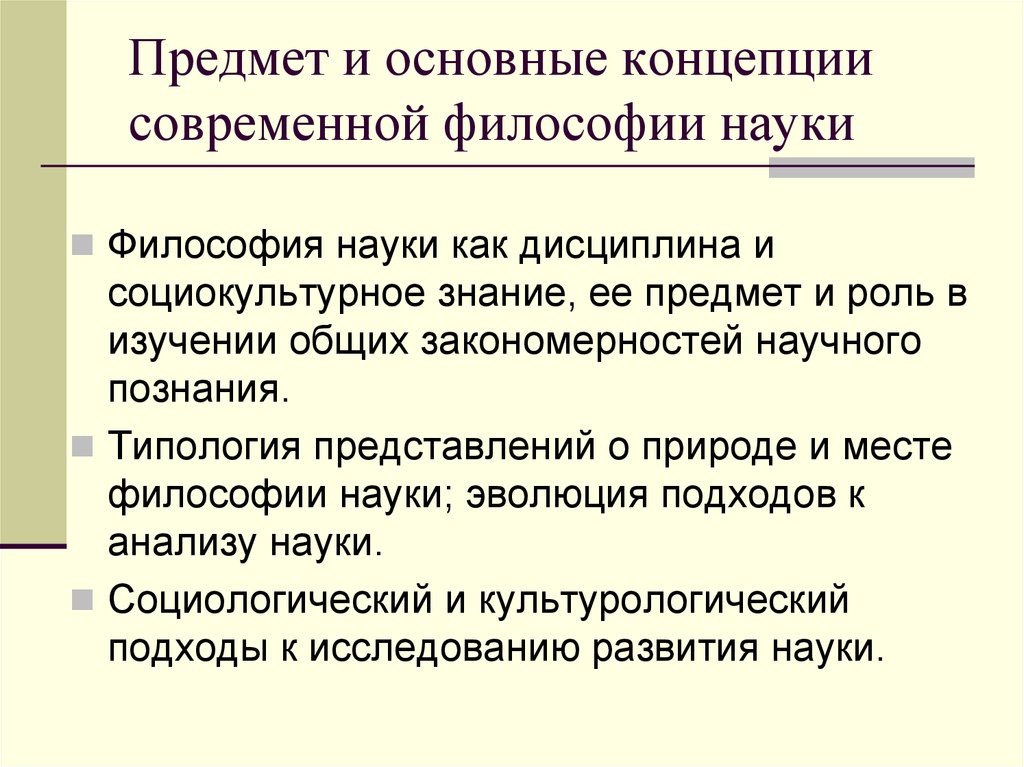 Поздновато… В это время при дворе уже читали Вольтера.
Поздновато… В это время при дворе уже читали Вольтера.
Без единого языка церкви единство православного мира не могло сохраниться. Когда пал Константинополь, никакой православной цивилизации не могло остаться. Что общего между Грузией и Румынией? Никакого общего духа, который бы они выражали, нет. Сэмюэл Хантингтон говорит о православной цивилизации от нечистой совести. Если признать, что маргиналы византийского культурного круга стали маргиналами западной цивилизации, то американская авиация бомбила христианскую Сербию. Гораздо приличнее бомбить православную Сербию, которая не ближе к христианской Америке, чем Ирак.
Византийское влияние никогда не было всецелым, не надо смешивать вероисповедание с цивилизацией как целым. Россия развилась в пространстве между субглобальными цивилизациями. Попытка выстроить и утвердить культуру третьего Рима уперлась в недостаток культурных ресурсов. После духовной трагедии XV в., о которой писал Федотов, после разгрома заволжских скитов, где прививалась культура молчаливого созерцания, исихии, духовный уровень православия резко упал.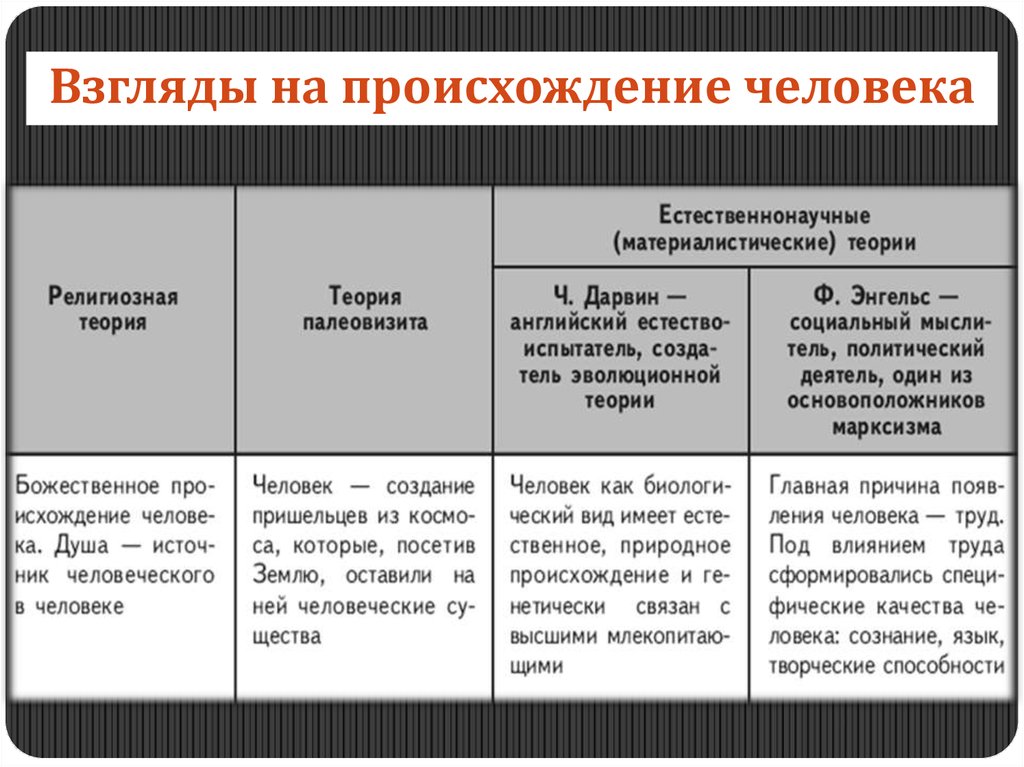 Это видно по ответам Стоглавого собора на вопросы Ивана IV, это видно по уровню полемики с латинством. Выход из тупика невежества был только в восстановлении общеевропейских и общехристианских связей. Петр I, прежде всего, нуждался в военно-технической информации, но оказалось невозможным отделить Платона от Невтона. Я имею в виду выражение Ломоносова, что “может собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов земля российская рождать”.
Это видно по ответам Стоглавого собора на вопросы Ивана IV, это видно по уровню полемики с латинством. Выход из тупика невежества был только в восстановлении общеевропейских и общехристианских связей. Петр I, прежде всего, нуждался в военно-технической информации, но оказалось невозможным отделить Платона от Невтона. Я имею в виду выражение Ломоносова, что “может собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов земля российская рождать”.
Через 100 лет после Петра родился Пушкин. Поворот к Западу еще более усложнил многослойность России. Европейское часто воспринималось поверхностно и неполно. Но в глубоких умах это рождало глубокие сдвиги. Я не знаю литературы, в которой паскалевское чувство одиночества человека во Вселенной было воспринято с такой остротой, как у Тютчева, Толстого и Достоевского. Вызов космической бездны, по-видимому, поддерживался чувством общего неустройства и готовности социального и нравственного распада. Н.Ф. Федоров, конечно – крайность. Но все же в России эта крайность была возможна, ею интересовались великие писатели. В Англии, Франции, даже в Германии философия “общего дела” Федорова просто немыслима, способ, придуманный Федоровым, чтобы победить смерть, нелеп. Но сама идея победить смерть совсем не смешна. Во всяком случае, не больше, чем подвиги Дон-Кихота. Отождествите себя не с эго, а с образом и подобием Бога, который каждому дан, с бессмертным началом в глубине сердца, и вы коснетесь бессмертия настолько, насколько это удалось и на тот момент, когда вам это удалось.
В Англии, Франции, даже в Германии философия “общего дела” Федорова просто немыслима, способ, придуманный Федоровым, чтобы победить смерть, нелеп. Но сама идея победить смерть совсем не смешна. Во всяком случае, не больше, чем подвиги Дон-Кихота. Отождествите себя не с эго, а с образом и подобием Бога, который каждому дан, с бессмертным началом в глубине сердца, и вы коснетесь бессмертия настолько, насколько это удалось и на тот момент, когда вам это удалось.
В стихах Тютчева, на некоторых страницах Толстого и Достоевского тоска по бессмертию меня захватила и в мои 20 лет оттеснила на второй план Стендаля, вместе с которым я четыре года боролся с духом коллектива и постигал любовь. И вся западная литература немного потускнела, она была слишком человечной, не ревела она от осознания бессилия, почуяв на плечах еще не появившиеся крылья, как “тварь скользкая” в стихах Гумилева. Я имею в виду “Шестое чувство”:
Так некогда в разросшихся хвощах
Ревела от сознания бессилья
Тварь скользкая, почуя на плечах
Еще не появившиеся крылья;
Так век за веком — скоро ли, Господь? —
Под скальпелем природы и искусства
Кричит наш дух, изнемогает плоть,
Рождая орган для шестого чувства.
Рильке писал, что могучая жизненность Толстого, его страстное сочувствие жизни каждой травинки неотделимы от его невыносимого страха смерти, стоявшего все время за плечами. И могучая творческая воля Достоевского, направленная к гармонии, неотделима от его острого невыносимого чувства дисгармонии русской и всякой человеческой жизни. “Сон смешного человека” снится на грани отчаяния, на краю пропасти. В конце концов, в царстве творческого воображения вызов pro и contra, “за” и “против”, получил достойный ответ. И отказаться от этого вызова, пустить свои духовные корни на спокойном, отлившемся в своей форме Западе или в относительно цельной старой Московии – все равно, что променять первородство на чечевичную похлебку. Русь шире, чем западничество и славянофильство, но жизнь в России бывает ужасной, в этом Синявский был прав.
Политического гения России не хватает, государство сжимает, сдавливает противоречия, но не может заменить органического процесса перехода скрытой войны несовместимых начал к открытому и плодотворному диалогу.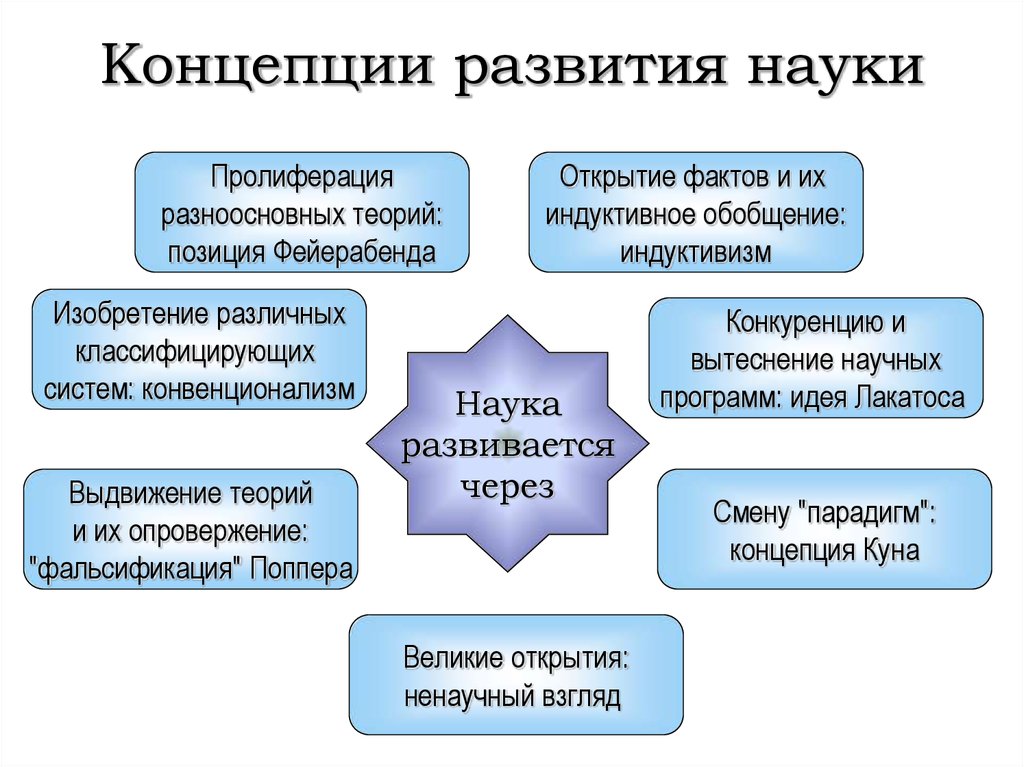 Как только внешний зажим слабеет, центробежные силы вырываются наружу, а потом усталость от анархии заставляет массы искать нового деспота.
Как только внешний зажим слабеет, центробежные силы вырываются наружу, а потом усталость от анархии заставляет массы искать нового деспота.
Мировые достижения русской культуры были и до сих пор остаются достоянием известного меньшинства. Так было в XV и XVI вв., когда государь ездил по монастырям поклониться святым иконам, а потом правил, как татарский хан, и относился к своим боярам как к рабам. Так было и в начале XX в., когда заново был поставлен вопрос о диалоге византийских и западных начал. Тогда князь Трубецкой написал свое “Умозрение в красках”, Флоренский книгу об иконе, когда экспедиция Грабаря нашла на кадках с огурцами и капустой потемневшие лики архангела Михаила и апостола Павла, а перевернув ступеньку, по которой ступали грязные ноги, увидела на обороте потемневшего Спаса, который сейчас украшает Третьяковскую галерею. Потом поиски были брошены, все было перечеркнуто бунтом солдат, уставших от войны, и политическим гением Ленина, сумевшего использовать хаос для утверждения новой диктатуры, прикрытой новым призраком всемирной коммунистической утопии.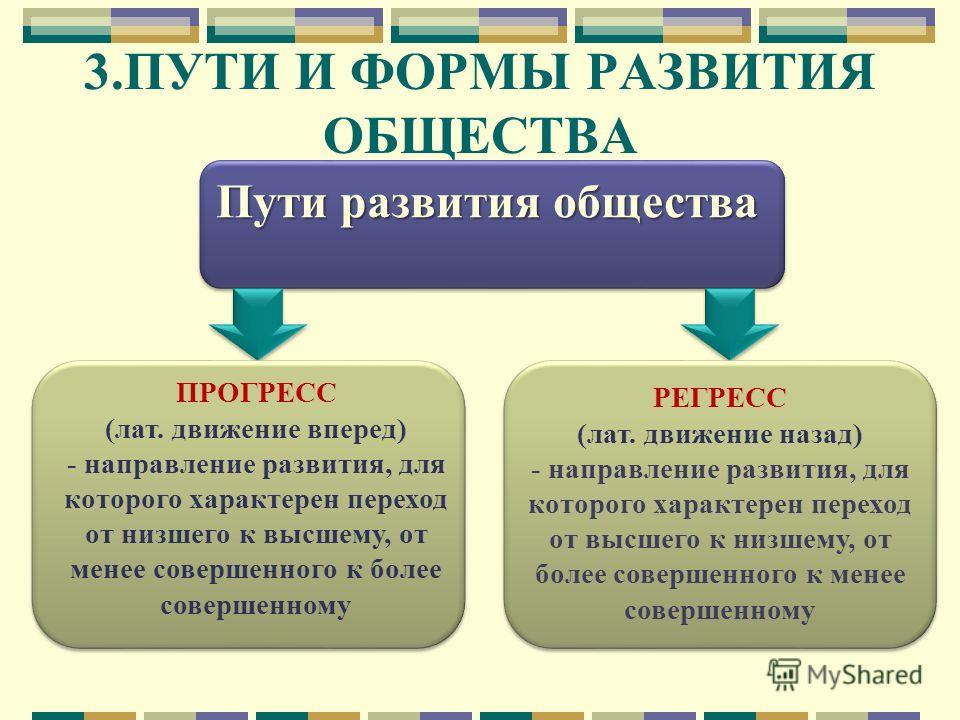 Она рухнула еще более бесславно, чем допетровское самодержавие, прикрытое призраком третьего Рима. И сейчас русская масса снова делится на две неравные части. Одна бежит через границы, снова открытые, с надеждой на волю. А другая подставляет шею под ярмо с надеждой на порядок. И только у немногих есть вера, что сами пороки нашей страны имеют достоинство вызова, достоинство, просто не дающее спокойно спать.
Она рухнула еще более бесславно, чем допетровское самодержавие, прикрытое призраком третьего Рима. И сейчас русская масса снова делится на две неравные части. Одна бежит через границы, снова открытые, с надеждой на волю. А другая подставляет шею под ярмо с надеждой на порядок. И только у немногих есть вера, что сами пороки нашей страны имеют достоинство вызова, достоинство, просто не дающее спокойно спать.
Митрополит Сурожский однажды процитировал Ницше: “Тот, в ком нет хаоса, никогда не родит новую звезду”. Наша болезнь сливается с болезнью всей христианской цивилизации, только в более острой форме. Вялая, хроническая, западная форма удобнее для жизни. Если искать удобства, то лучшей клиники нет. Но удобства и наслаждения – роковая приманка. История все время создает кризисы и требует прорыва, чтобы выйти из кризиса. А после взрывов энергии XX в., закончившихся массовыми убийствами, Запад не доверяет никакому энтузиазму и ищет смысл жизни в наслаждении, покое, в эгоистической замкнутости от тревог.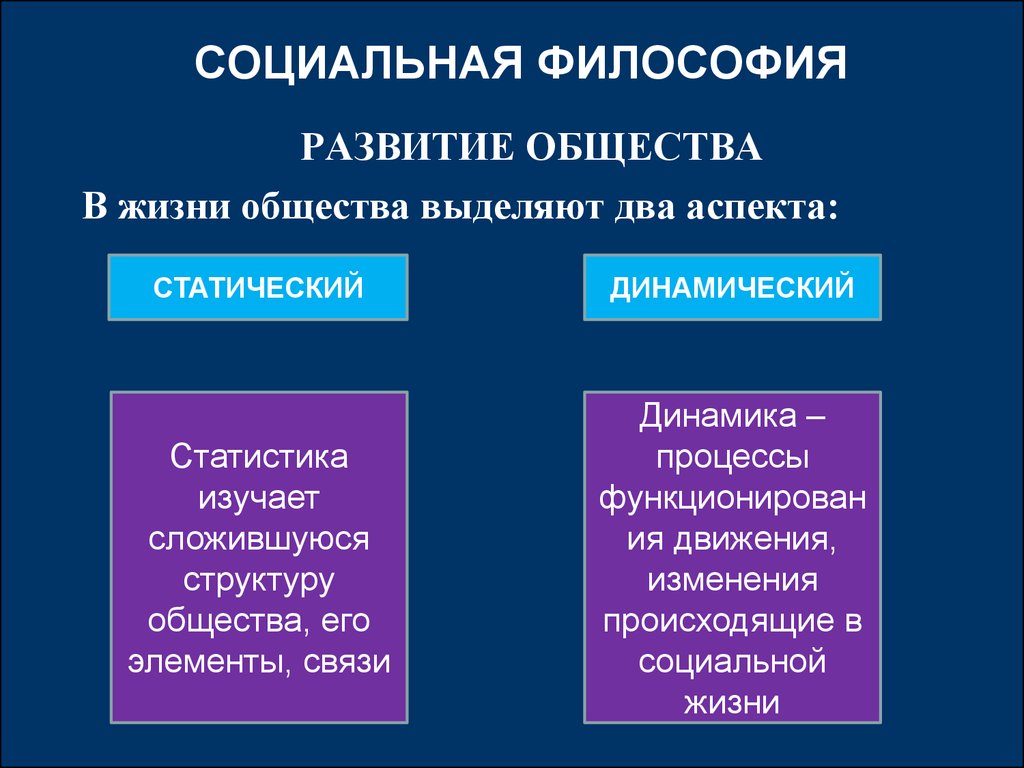 Отступая шаг за шагом перед натиском гастарбайтеров с юга и востока, Запад может еще долго сползать по наклонной плоскости и медленно комфортабельно умирать. Даже на то, чтобы завести семью, не хватает энергии. Вымираем и мы. Но у нас все быстрее, невыносимее и острее, толкает в глубину искать чудесных сил, скрытых в глубине. Потому что на поверхности спасения нет. Россия снова, как это понимал Версилов, призвана держать в уме всю Европу, весь Средиземноморский мир, из которого она, несмотря на китайскую круговую поруку, никогда не выходила полностью и безвозвратно. Широта русской культуры не дает гарантии породить политического гения, не дает гарантию управления, способного покончить со смутой в форме кражи. Но десятилетия борьбы за просвещение народа – одно из условий честной игры в экономике. Очень важно донести этот призыв до школьников и студентов.
Отступая шаг за шагом перед натиском гастарбайтеров с юга и востока, Запад может еще долго сползать по наклонной плоскости и медленно комфортабельно умирать. Даже на то, чтобы завести семью, не хватает энергии. Вымираем и мы. Но у нас все быстрее, невыносимее и острее, толкает в глубину искать чудесных сил, скрытых в глубине. Потому что на поверхности спасения нет. Россия снова, как это понимал Версилов, призвана держать в уме всю Европу, весь Средиземноморский мир, из которого она, несмотря на китайскую круговую поруку, никогда не выходила полностью и безвозвратно. Широта русской культуры не дает гарантии породить политического гения, не дает гарантию управления, способного покончить со смутой в форме кражи. Но десятилетия борьбы за просвещение народа – одно из условий честной игры в экономике. Очень важно донести этот призыв до школьников и студентов.
Я могу прибавить к этому свой личный опыт. Никогда не был богатым человеком, но считаю, что жил я счастливо, потому что я занимался по мере возможности тем, чем мне хотелось, и меня захватывала моя работа.
Возможности культуры, развивающейся на перекрестке субглобальных цивилизаций, не исчерпаны. Была бы только не исчерпана воля искать в своей суете колодца в глубину, часов созерцания, как находил Синявский в лагере на общих работах. В этих колодцах можно найти источники творческой энергии, источники новых сил в борьбе с новыми препятствиями. И образ рублевской Троицы можно прочесть как образ нового человека, переходящего от созерцания к действию, от действия к истощению и от истощения действием к еще большей глубине созерцания и новым чудотворным силам. Каждый из нас несет в себе это семя, но мы не даем ему вырасти.
Россия вряд ли в обозримом будущем станет благоустроенной страной. Но само ее неустройство вдохновило Толстого и Достоевского, оно может вдохновить и нас, и наших потомков. Вот то, что я набросал на тему о возможностях России на перекрестках сложившихся четырех культурных миров.
Обсуждение
Григорий Померанц (фото Н. Четвериковой)
Лейбин: Тогда начнем обсуждение.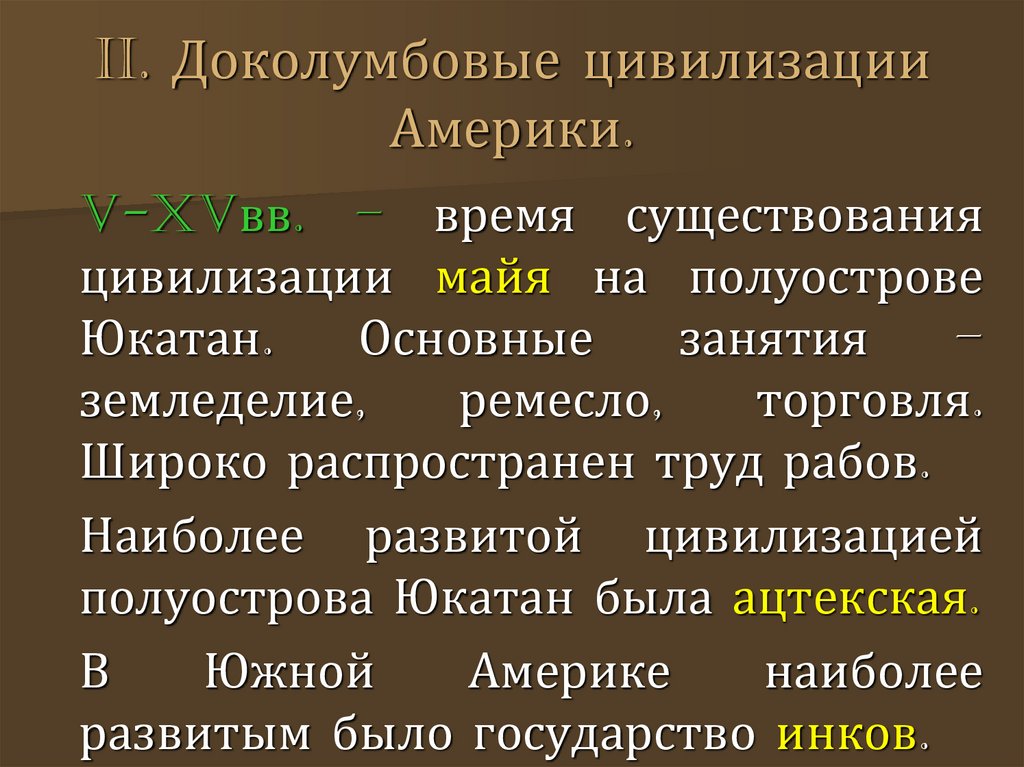 По традиции, я попытаюсь что-то уточнить.
По традиции, я попытаюсь что-то уточнить.
Померанц: Лучше вопросы.
Лейбин: В принципе, можем разделить: сначала принимаются вопросы на уточнение, а потом — некоторые тезисы. В принципе, у нас принято неполиткорректно, главное, что по сути дела. Если будет не по сути дела, я имею права лишить слова.
У меня, пожалуй, вопрос на уточнение. Правильно ли я понял, что схема, в результате которой Россия описывается как некоторая догоняющая западноевропейские образцы конструкция, является глубоко порочной в том смысле, что это неправильный взгляд на то, что нам здесь делать.
Померанц: Я бы ответил так. Ориентация на опыт Европы и вообще Запада необходима. Но анализ наиболее глубоких явлений культуры показывает, что отношение России к Западу было творческим. Это подчеркивается в разговоре Версилова со своим сыном, что Россия воспринимает Европу как нечто целое в большей степени, чем, во всяком случае, во времена Версилова (тогда ведь не было единой Европы, да и сейчас неизвестно, едина ли она духовно).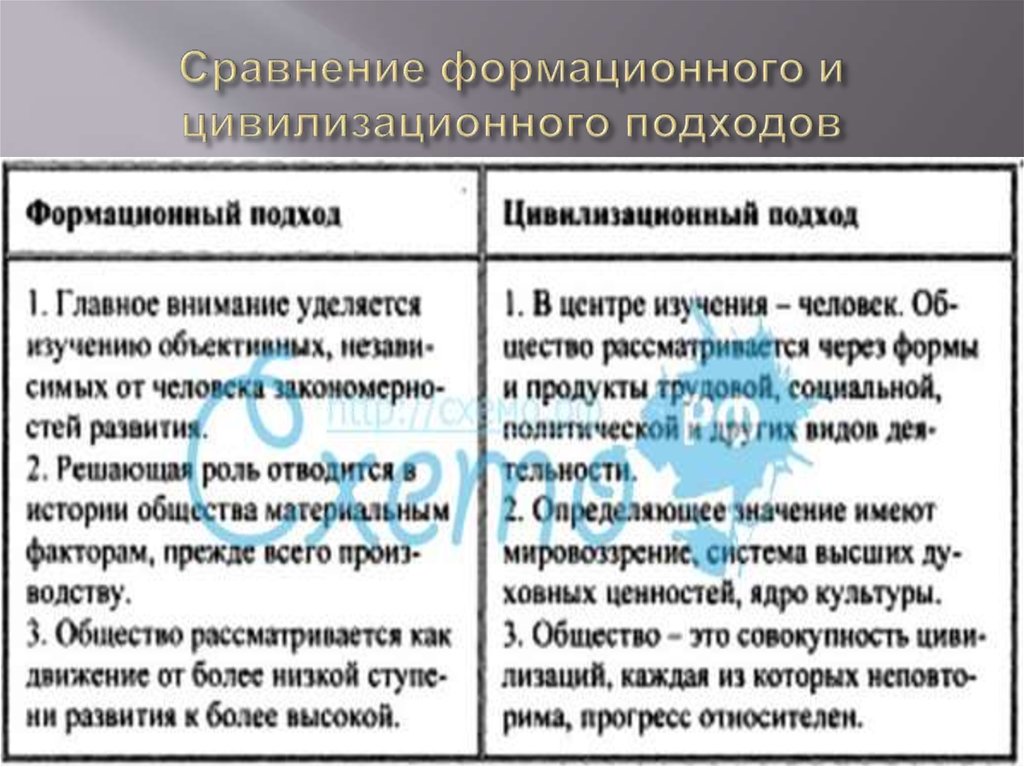 Я, например, бывая на Западе, духовного единства не замечал. Замечал натянутые отношения, просто выгоды заставляют держаться вместе. Версилов показывает, что русский подход к Европе – это подход как к тому целому, которым Европа сама еще не стала. Поэтому Толстой и Достоевский, в особенности Достоевский, были восприняты во всем мире как писатели, сказавшие новое слово. Это не слово, исходящее из традиции вятичей и радимичей. Это традиция из истории России, в которой она, оказавшись между разными цивилизациями, приобрела некоторую повышенную широту.
Я, например, бывая на Западе, духовного единства не замечал. Замечал натянутые отношения, просто выгоды заставляют держаться вместе. Версилов показывает, что русский подход к Европе – это подход как к тому целому, которым Европа сама еще не стала. Поэтому Толстой и Достоевский, в особенности Достоевский, были восприняты во всем мире как писатели, сказавшие новое слово. Это не слово, исходящее из традиции вятичей и радимичей. Это традиция из истории России, в которой она, оказавшись между разными цивилизациями, приобрела некоторую повышенную широту.
Вполне усвоилась изящная форма европейского романа вроде Тургеневского, в которую Россия влезала одним уголком. Были писатели, как Лесков, которые игнорировали этот верхний офранцуженный слой и изображали скорее допетровскую Русь в той мере, в какой она оставалась в глухих углах. И были Толстой и Достоевский, у которых Россия выступала во всей своей широте, и одновременно этим она показывала некий образец художественной цельности Европе, хотя использовала опыт Европы.
Я в одной статье писал, что если мы рассмотрим творчество Достоевского, то увидим, что он ткет совершенно самостоятельный ковер, но нити он берет из Испании, из Франции, из Англии, сплетает же их в ковер по-своему.
Лавровский: Скажите, пожалуйста, куда вы относите Штаты? Можно ли считать, что центр средиземноморской цивилизации сейчас находится где-то в районе Мексиканского залива?
Померанц: То есть вам кажется, что сейчас ислам наступает и имеет шанс победить… Я в этом сомневаюсь. Вообще, средиземноморской я называю дуальную группу из христианской и в данное время мусульманской цивилизации. Сейчас Европа, безусловно, находится в таком положении, в котором находилась Римская империя, которая сажала на своих окраинах готов, чтобы готы защитили ее от гуннов. Примерно такой характер имеет включение в Европейский Союз Турции. По-видимому, чтобы турецкая армия на случай чего…
Лейбин: Вопрос был о США. Есть ли центр средиземноморской цивилизации сейчас в районе Мексиканского залива в том смысле, что в Штатах.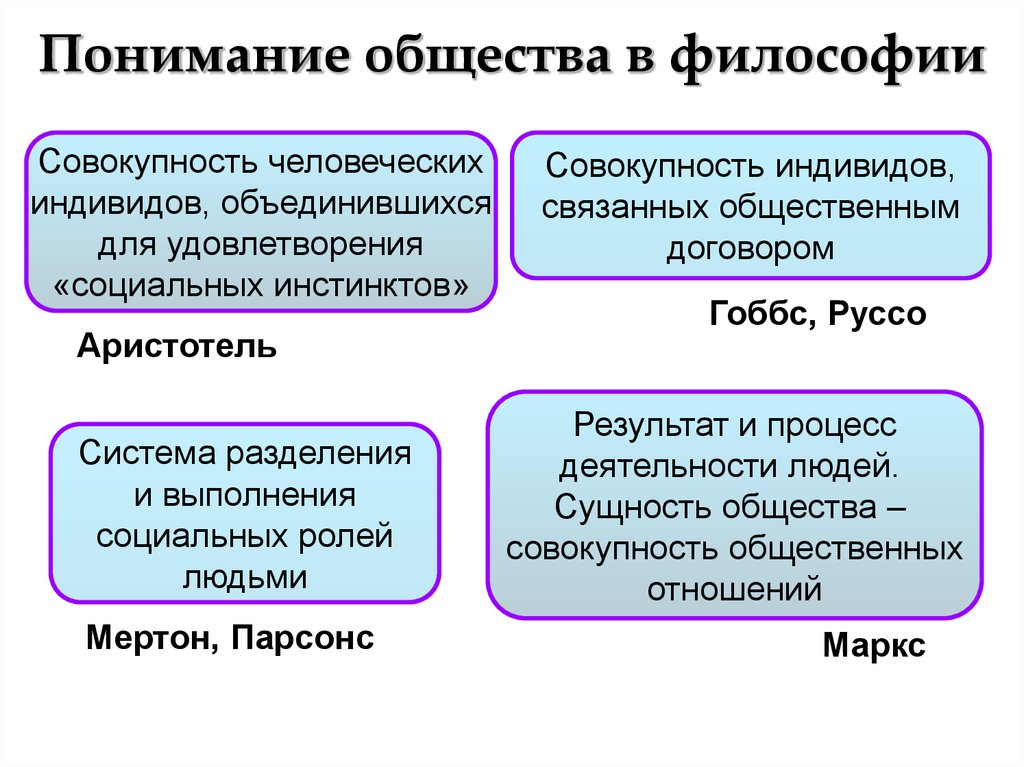
Померанц: Я так не думаю. Европа ведет самостоятельную политику, которая не совсем совпадает с американской. Что касается Америки, то один из более умных американских политиков, Хантингтон как раз выдвинул сперва концепцию борьбы цивилизаций, а сейчас полностью отказался от нее. Он пришел к выводу: не до жиру, быть бы живу. Его последняя дошедшая до меня статья называется “Уникальность – не универсальность”. Перевес смертности над рождаемостью приводит к тому, что Америка вынуждена импортировать рабочую силу, и единственное, что утешает Хантингтона, что можно импортировать латиноамериканцев, которые, по крайней мере, христиане. Тогда как Европе приходится импортировать мусульман. Словом, Европа находится в обороне, но это не значит, что она вышла из игры.
Савченко: Если я вас правильно понял, и Хантингтон, и Тойнби считали, что существует православная цивилизация. Насколько я вас понял, вы так не считаете. Вы считаете, что ее не существует, а существует некая русская культура. Тогда хотелось бы уточнить, как она, все-таки, географически распространяется, как она соотносится с границами существующей России? И что в этом смысле нас ждет, ведь если продолжать… Я не знаю, что сейчас говорит Хантингтон, но раньше он говорил, что те страны, которые совмещают в себе различные цивилизационные культурные начала, неизбежно разваливаются.
Тогда хотелось бы уточнить, как она, все-таки, географически распространяется, как она соотносится с границами существующей России? И что в этом смысле нас ждет, ведь если продолжать… Я не знаю, что сейчас говорит Хантингтон, но раньше он говорил, что те страны, которые совмещают в себе различные цивилизационные культурные начала, неизбежно разваливаются.
Померанц: Во-первых, конец. Страны, которые совмещают в себе различные культурные начала, – это страны, которые, в принципе, могут создать новую цивилизацию. Пример — Тибет, расположенный на стыке индийской и китайской цивилизаций, на горах, куда не заходили завоеватели, имея покой, который Россия не имела, Тибет за несколько сот лет построил совершенно самостоятельную цивилизацию со своим компендиумом важнейших текстов, переведенных или написанных на тибетском языке, и даже выбрал свой самостоятельный шрифт. Словом, все параметры цивилизации там есть, и в свою цивилизацию они обратили монголов и бурят. Но беда тибетцев в том, что больше им обращать было некого, мир был уже разобран, слишком поздно они начали.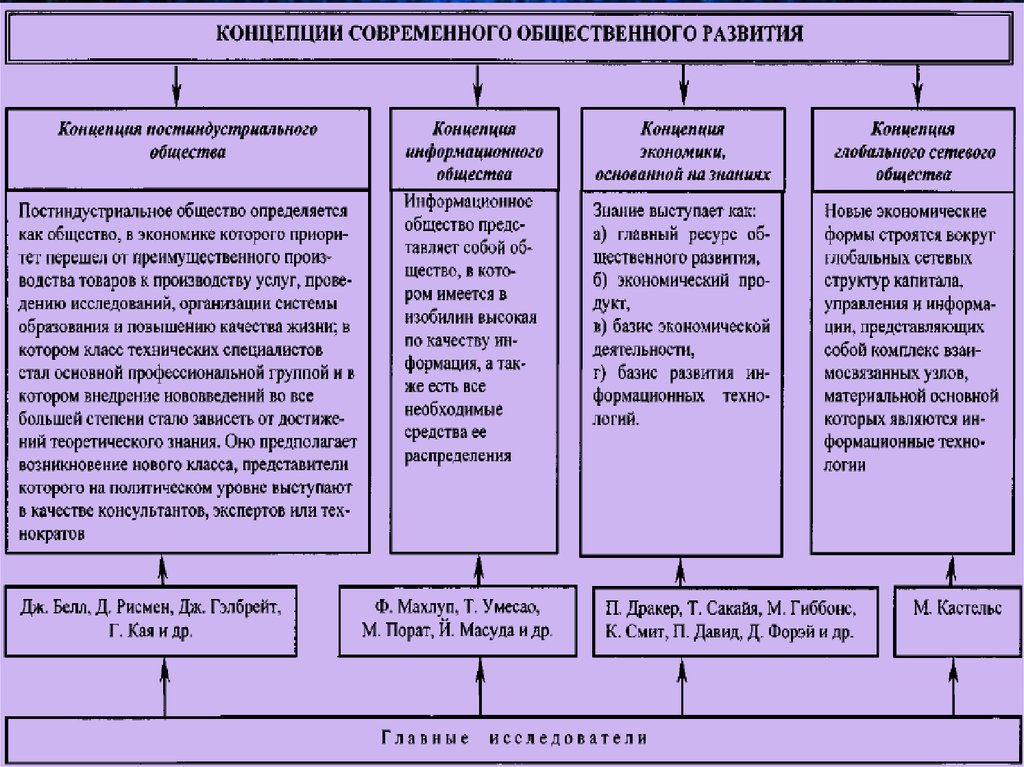 Во всяком случае, Тибет показывает, что на стыке двух цивилизаций может возникнуть органическая цельная цивилизация. Все, кто знакомы с культурой Тибета, конечно, по книгам, воспринимают ее как цельную цивилизацию.
Во всяком случае, Тибет показывает, что на стыке двух цивилизаций может возникнуть органическая цельная цивилизация. Все, кто знакомы с культурой Тибета, конечно, по книгам, воспринимают ее как цельную цивилизацию.
Представления о том, что сочетание нескольких начал обязательно ведет к развалу, по-моему, неверно. Это одновременно является и неким культурным богатством, как вызов, который может быть принят, и слепое столкновение разных начал может уступить место, как я уже говорил, цивилизованному диалогу, и этот диалог может стать прообразом мирового диалога цивилизаций.
Мы с вами свидетели процесса глобализации. Возникновение субглобальных цивилизаций – это вторая ступень глобализации. На третьей ступени – торговая экспансия Запада, которая создает торгово-колониальную глобализацию. И четвертая ступень – это финансово-электронная глобализация. Так что мир в целом движется, хотя это может кончиться и катастрофой, вовсе не обязательно все хорошо кончается, может кончиться тупиком и развалом, а может кончиться успехом.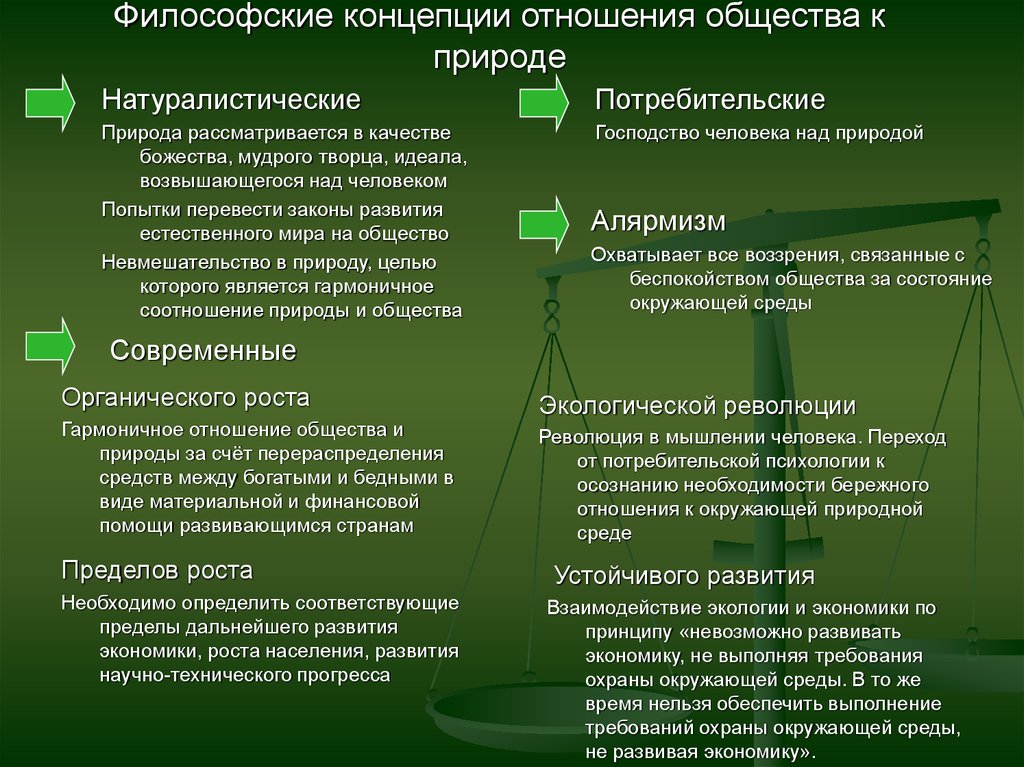 Мир все-таки движется шаг за шагом в сторону глобализации.
Мир все-таки движется шаг за шагом в сторону глобализации.
Да, тут же надо оговорить: есть народы, которые этому решительно не подчиняются и субглобальные цивилизации, когда их принимают, принимают чисто внешне. Такие народы, как афганцы, чеченцы, вьетнамцы, независимо от того, какую религию они принимают, по существу, остаются чем-то вроде племени, которое может погибнуть, но будет все время защищать свою самобытность. По отношению к таким народам прав Гумилев. Хотя в целом он не прав, потому что гораздо чаще происходит другое. Есть и такие исключения.
Словом, процесс идет очень сложный, в сторону глобализации. Чего не хватает, так это духовного единства современного мира, – то, что Хантингтон думал, что можно просто американизировать мир. Повторяю, от этого он сам отказался. Я своими глазами читал его статью, она переведена на русский язык, не помню, где она у нас напечатана, “Уникальность – не универсальность”. Позиция Запада сейчас – позиция обороны, сохранить до новых лучших времен своеобразие своей цивилизации.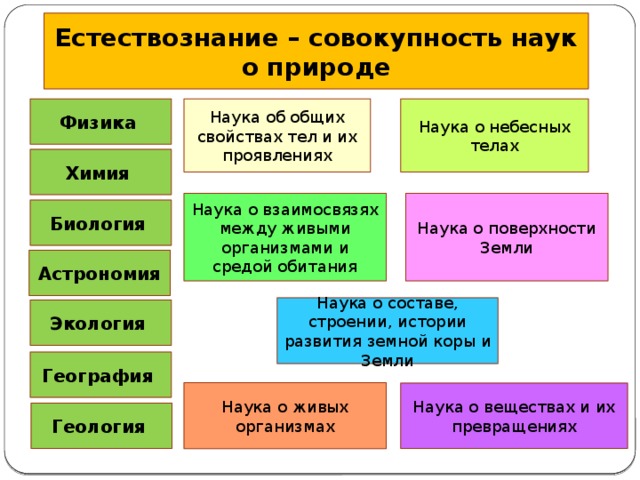 В то время как, скорее, наступать будет Дальний Восток. Что касается арабов, по-моему, это бумажный тигр. Арабы могут пока что пугать нас взрывами, но не обгонять нас в развитии. Вот китайцы, японцы — они могут обогнать, повернуть к большей стабильности и т.п. Словом, от них можно ждать нового. А турки, кажется, собираются вместе с немцами оборонять ту же старую Европу.
В то время как, скорее, наступать будет Дальний Восток. Что касается арабов, по-моему, это бумажный тигр. Арабы могут пока что пугать нас взрывами, но не обгонять нас в развитии. Вот китайцы, японцы — они могут обогнать, повернуть к большей стабильности и т.п. Словом, от них можно ждать нового. А турки, кажется, собираются вместе с немцами оборонять ту же старую Европу.
Сухов: У меня такой вопрос. С вашей точки зрения, есть, все-таки, в России самобытное культурное будущее?
Померанц: Есть, если мы сумеем вернуться к тому моменту, на котором мы стояли до 1917 г., когда были сделаны очень важные шаги, чтобы возродить то, что мы с XVII в. потеряли, сумеем возродить понимание огромного духовного богатства, заложенного в иконах Рублева и других иконописцев, понять это умозрение в красках, которое относится, по-моему, к одному из высших достижений мировой культуры. К сожалению, греки были талантливы в искусстве и довольно слабоваты в политике, поэтому они и проиграли, а римляне в некоторой степени выиграли.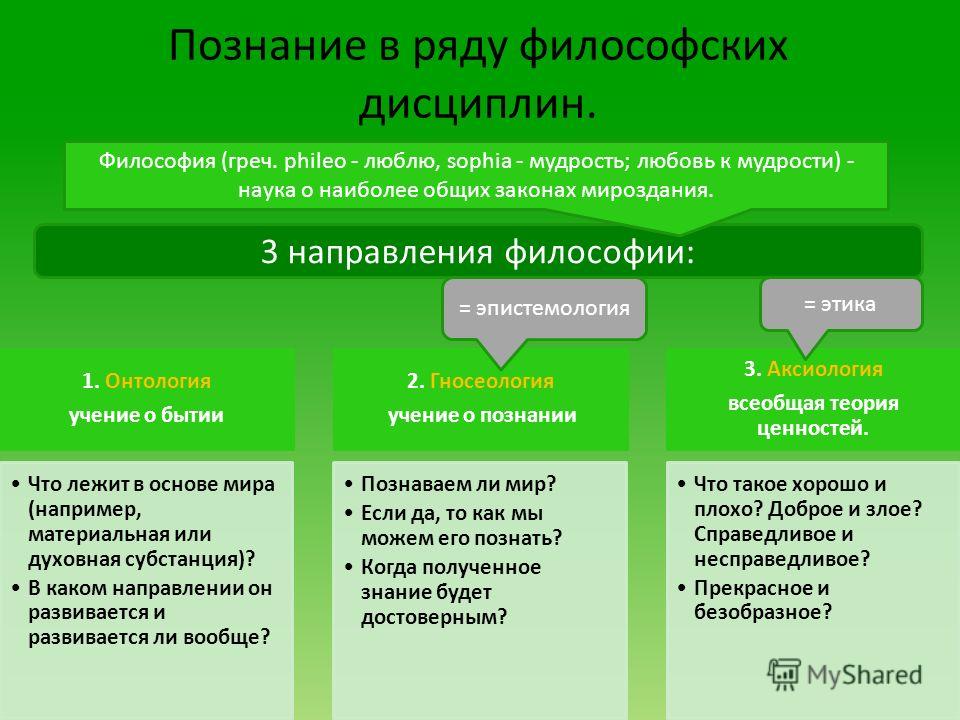 К сожалению, в истории чаще всего выигрывают хорошие политики.
К сожалению, в истории чаще всего выигрывают хорошие политики.
Но, во всяком случае, то, что уже вошло в нашу культуру, что мы можем понять, во что вдуматься, это требует вдумчивого диалога с той струей, которую в нашу культуру внес Запад. Мне кажется, это очень интересная задача. Меня, например, это увлекло с тех пор, когда я понял, что эта задача существует. А если есть задача, найдутся и люди, которых эта задача увлекает, которые могут что-то создать в этой области, создать более сложную, но в то же время цветущую культуру. Цветущая сложность – это выше, чем примитивная цельность, так все время было в истории культуры. Но гарантии никакой нет, вообще, в мире никакой гарантии нет.
Сухов: Тогда дополнение. Считаете ли вы, что этот процесс должна возглавить православная церковь?
Померанц: Это было бы хорошо, если бы церковь была бы другой. Например, при выходе из тоталитаризма Германии и Италии очень помогло формирование христианско-демократической партии. Сразу же очень быстро после поражения у них сложился нормальный парламентский механизм, где один фланг заняла христианская демократия, а на другом – возрожденная социал-демократия. К сожалению, попытки нашей молодежи (я их помню в начале Перестройки) создать христианско-демократическую партию натолкнулись на то, что патриархия и демократия – две вещи несовместимые, несмотря на то что некоторые отшельники православия написали хорошие книги, что это возможно. В частности, обращаю ваше внимание на книгу игумена Новика “Православие, христианство, демократия”, где он пародирует лозунг Уварова “Православие, самодержавие, народность”. Хорошая книга, умная.
Сразу же очень быстро после поражения у них сложился нормальный парламентский механизм, где один фланг заняла христианская демократия, а на другом – возрожденная социал-демократия. К сожалению, попытки нашей молодежи (я их помню в начале Перестройки) создать христианско-демократическую партию натолкнулись на то, что патриархия и демократия – две вещи несовместимые, несмотря на то что некоторые отшельники православия написали хорошие книги, что это возможно. В частности, обращаю ваше внимание на книгу игумена Новика “Православие, христианство, демократия”, где он пародирует лозунг Уварова “Православие, самодержавие, народность”. Хорошая книга, умная.
Затем, вы, вероятно, не знаете своего рода духовное завещание Антония Сурожского, которое я пытался протолкнуть в эфир, когда меня пригласили участвовать в оплакивании папы. В конце каждый из нас мог более подробно развить свои взгляды, я посвятил эти 2-3 минуты тому, чтобы рассказать о споре, который возник между Антонием и Аверинцевым. Это стоит того, чтобы коротко рассказать.
Это стоит того, чтобы коротко рассказать.
В своей речи 8 июня 2000 г. Антоний говорил: “Не теряем ли мы шанс превратиться из церковной организации в церковь? Нам нужны люди, пережившие встречу”. Встречей он называл живое чувство присутствия Бога в мире. “Конечно, не у каждого может быть встреча такая, как у апостола Павла, но какая-то встреча должна быть у каждого. Нам нужны люди, которые пережили встречу, а потом живут, мыслят и действуют свободно”. Дальше он повторил мнение одного богослова, Зернова, что трагедия церкви началась с Вселенских соборов, которые слишком жестко ограничили разницу между истиной и ложью, больше должно быть предоставлено личным поискам человека.
На это в устной форме, в разговоре со мной, возражал Аверинцев. Он считал, что это мистический анархизм, идущий от ранних славянофилов, разрушающих церковь и т.д. Потом он тоже умер, что позволяет мне публиковать и его мнение, так бы я не стал его подводить. Он тоже был сторонником реформ. Он говорил, что православие или погибнет, или изменится.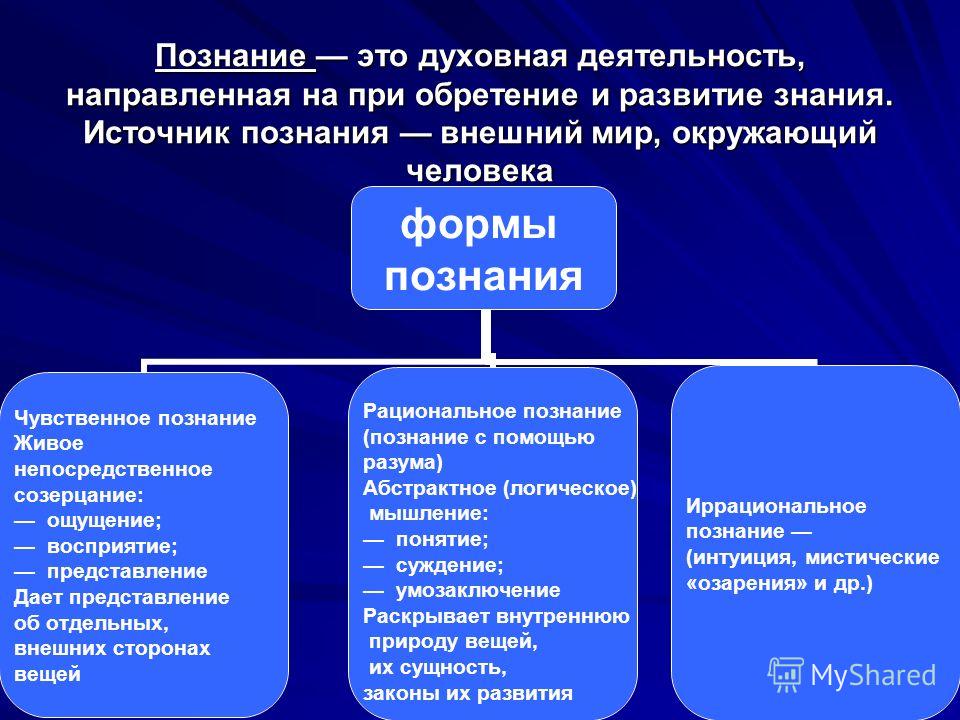 Но он хотел реформы других параметров, сохраняя больше из традиции.
Но он хотел реформы других параметров, сохраняя больше из традиции.
С моей точки зрения, Антоний стоял на эсхатологической позиции, т.е. он выдвигал требования, которые могло удовлетворить только незначительное меньшинство. Чтобы осуществить это по всей России, надо по Антонию — на каждую епархию, таких нет. Поэтому речь идет о другом, о возможности диалога между теми, которые способны откликнуться на призыв этого, несомненно, замечательного человека, Антония. И теми, которые стоят на исторической почве, имея дело не с одиночками, вышедшими вперед, а с массой. В общем, у меня все вырезали, кроме последней фразы, которую повторила Светлана Сорокина: “И нужен диалог внутри церкви”. Этими словами я кончил, только эти слова и пошли в эфир, а все остальное выбросили.
Если говорят, что церковь могла бы много сделать, я должен добавить: “Смотря какая и смотря что с этой церковью случится дальше”. Пока что существуют отдельные люди, которые могли сказать здесь свое слово. С несколькими я познакомился случайно, когда попал в делегацию, посещавшую Израиль, тоже по какому-то поводу. Там было несколько священников, в частности, я с Новиком там познакомился, с некоторыми другими. Кроме того, я считаю очень интересными брошюры, которые издает Г.Чистяков, он пишет очень интересные книги. Так что есть отдельные люди в церкви, к которым стоит прислушаться. Но пока все, что там есть живое, блокируется патриархией, от которой я ничего хорошего не жду.
Там было несколько священников, в частности, я с Новиком там познакомился, с некоторыми другими. Кроме того, я считаю очень интересными брошюры, которые издает Г.Чистяков, он пишет очень интересные книги. Так что есть отдельные люди в церкви, к которым стоит прислушаться. Но пока все, что там есть живое, блокируется патриархией, от которой я ничего хорошего не жду.
Лейбин: Я бы сейчас стал принимать более развернутые суждения, не только вопросы на уточнение, чтобы просто успеть. Поскольку вы вначале оттолкнулись от лекции Альфреда Коха, а он, в свою очередь, от целого ряда подобных рассуждений, где вносится в общественно-политический дискурс вопрос о цивилизационной принадлежности России. Во всех этих обсуждениях и тезисах есть прямой практический смысл. Потому что наиболее яркие западники делают всегда такую политическую подмену: если мы цивилизационно Европа, то и политически должны быть там. И, соответственно, Кох тогда моделировал оппонентов, спорил с “а если”.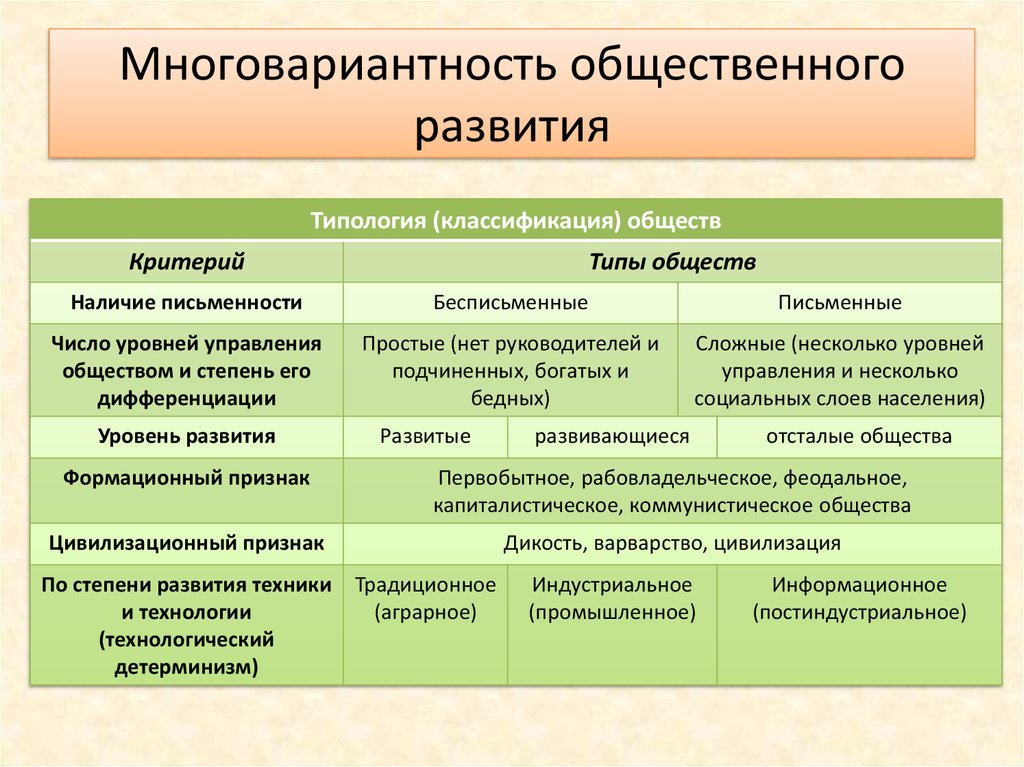
Что нам для этого обсуждения дает инструментарий теории цивилизаций? Как вы сами же отметили одну из наших национальных черт – дефицит политической культуры, про это же был разговор в ряде предыдущих лекций. Можно ли понять последние слова вашей лекции о школах и учениках как политическую программу, в этом смысле, в этой дискуссии или как-то по-другому? Понятно, для чего А.Янову нужно утверждать, что Россия – это Европа, только выпала из нее – для того чтобы сказать, что нужно немедленно вступать в Евросоюз, и много разных других выводов. В каком смысле и для чего можно использовать теорию цивилизаций? Можно ли ее так прямо спроецировать на какое-то политическое утверждение, или это не для этого?
Померанц: Разные ходы развития теории цивилизаций – это не законченное, уже готовое учение вроде марксизма, который был сведен к нескольким формулам, которые надо было выучить наизусть и все. Тут же есть масса споров. Л.Н.Гумилев акцентировал роль этноса, я считаю, что движение идет скорее в сторону глобализации и т. д., есть разные точки зрения. Во всяком случае, знать это надо, чтобы не задавать ненужных вопросов, что такое Россия – Европа или Азия. Россия все-таки всю свою историю была связана с той или другой цивилизацией средиземноморского круга, связанной с монотеизмом и с греческой философией. Это или византийская цивилизация, или западная. Поэтому, мне кажется, России не имеет смысла выбираться из этого круга. К чему? Хайдеггер шутил, что к концу XX в. нам придется учить китайский язык. Не знаю, думал ли он это всерьез, тем более он говорил это про Германию.
д., есть разные точки зрения. Во всяком случае, знать это надо, чтобы не задавать ненужных вопросов, что такое Россия – Европа или Азия. Россия все-таки всю свою историю была связана с той или другой цивилизацией средиземноморского круга, связанной с монотеизмом и с греческой философией. Это или византийская цивилизация, или западная. Поэтому, мне кажется, России не имеет смысла выбираться из этого круга. К чему? Хайдеггер шутил, что к концу XX в. нам придется учить китайский язык. Не знаю, думал ли он это всерьез, тем более он говорил это про Германию.
Но если говорить о конкретных задачах, то при нынешнем состоянии народа, уставшего от неудачных и бестолковых реформ и желающего порядка, каким бы он ни был, попытки создать какие-то массовые политические партии ничего не дадут. Надо заниматься воспитанием молодых людей, которые выйдут из школы, из университета в ближайшие годы, десятилетия. Должен постепенно измениться характер народа, расшириться его кругозор, углубиться его понимание, в чем смысл человеческой жизни, тогда мы можем приобрести и другое правительство.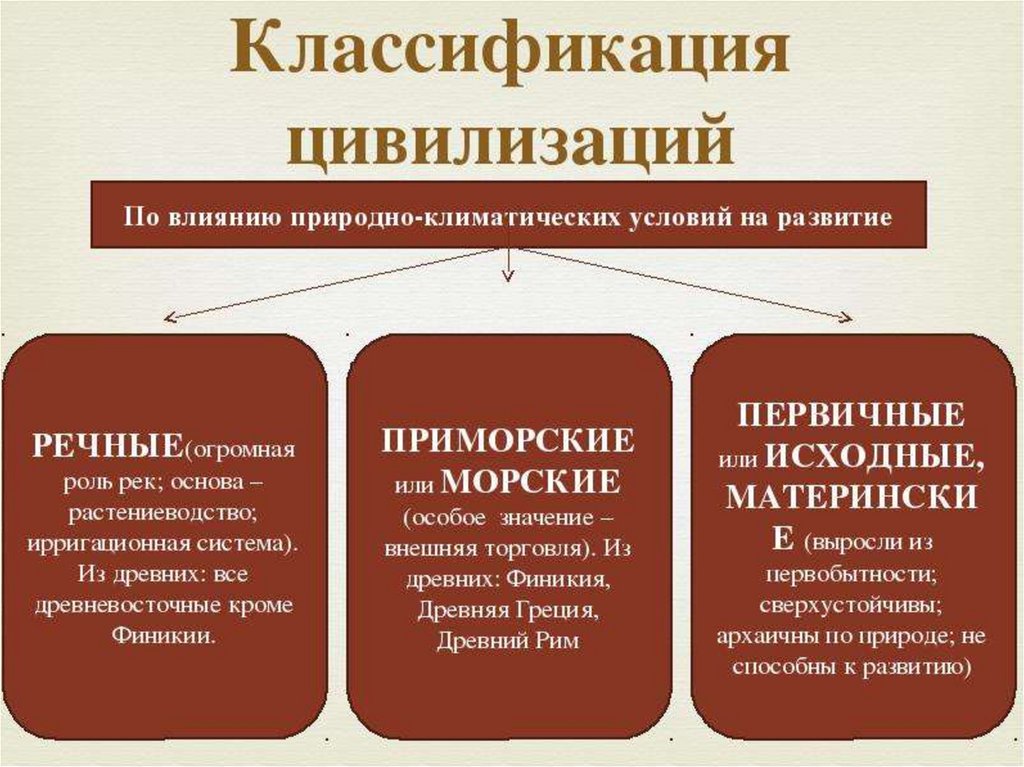
Вопрос из зала: Скажите, пожалуйста, насколько опасно вливание исламской культуры в русскую христианскую культуру в связи с демографической ситуацией в России.
Лейбин: По сравнению с Европой, видимо, да?
Померанц: Ислам гораздо более массово вливается в Западную Европу. У нас резервы этой миграции пока еще не очень большие. Это больше в Москве бросается в глаза, а в глубинке даже не очень заметно. Гораздо больший процент мусульман во Франции, в Германии активнее вошел в жизнь, чем у нас. И последнее мероприятие – принятие Турции в Европейский Союз – мне напоминает (я уже говорил об этом) поселение готов, чтобы они защищали от гуннов. Что касается России, те мусульмане, которые у нас долго жили, так обрусели, что даже утратили свою способность рожать много детей, казанские татары, например, на одном уровне с нами, мало рожают и никак не могут нас затопить. Вот, азербайджанцы разве… Но их не очень много. У нас другие болячки, не это нам страшно.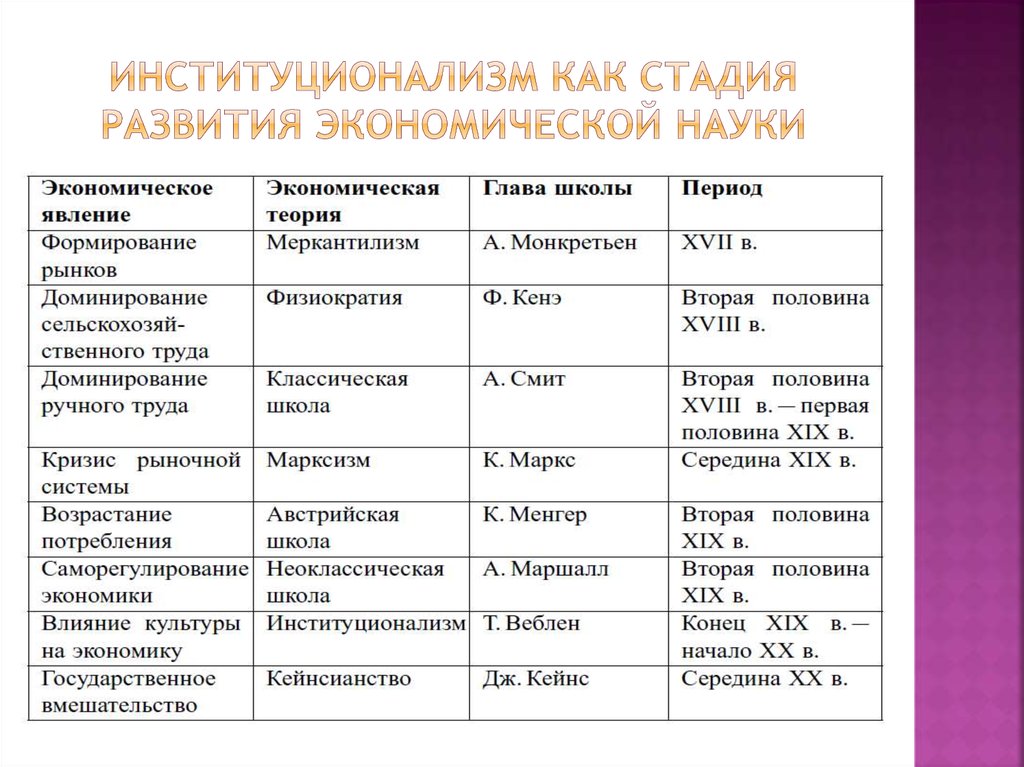
Страшно то, что мы потеряли духовную ориентацию. Церковь в значительной степени не выдержала экзаменов в 1917 г. Если бы она больше влияла на народ, народ стал бы защищать церковь. В Польше никто не разрушал храмы, а у нас разрушали, и народ спокойно это позволил. И в дальнейшем политика в отношении церкви, когда владыками становились только люди, имевшие офицерское звание в системе госбезопасности, майора, полковника – это все очень уменьшает возможности духовного обновления.
История полна рисков, нельзя быть совершенно уверенным. Я во многих местах встречал людей сравнительно молодых, 30-40 лет (для меня они молодые, мне 87, для меня 40-летний человек – это молодой человек), которые думают что-то сходное с тем, что я думаю, которые ищут выходы из нынешнего тупика, ищут духовные ценности. Если бы удалось как-то их объединить и собрать, можно было бы сколотить творческое меньшинство. Я постоянно думаю на эту тему, чтобы как-то сблизить людей, живущих в разных углах, думающих о том, о чем мы все думаем, но разобщенных.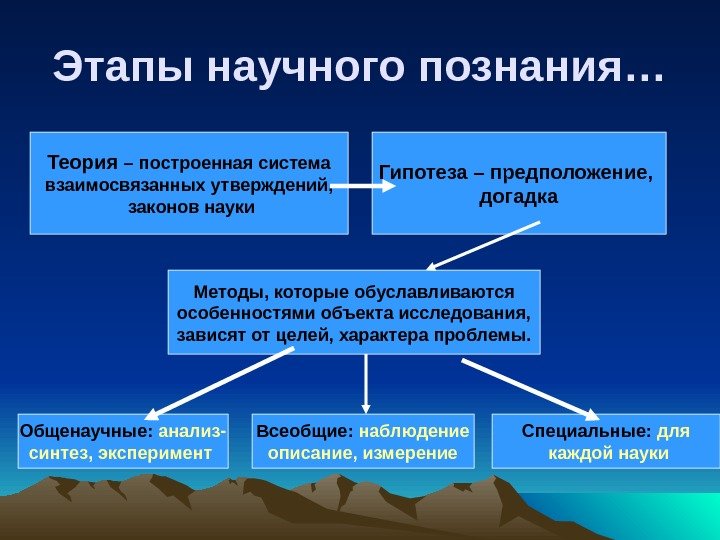 Если это когда удастся, но уже не мне, очевидно, а тем, кто помоложе, то есть шансы. Невозможно, чтобы все достигли высокого уровня, народ всегда делится на людей более духовных, менее духовных, более развитых, менее развитых. Достаточно иметь (я не беру здесь определение численное) авторитетное духовное меньшинство, чтобы повести людей за собой. Создание этого меньшинства мне кажется важнейшей задачей.
Если это когда удастся, но уже не мне, очевидно, а тем, кто помоложе, то есть шансы. Невозможно, чтобы все достигли высокого уровня, народ всегда делится на людей более духовных, менее духовных, более развитых, менее развитых. Достаточно иметь (я не беру здесь определение численное) авторитетное духовное меньшинство, чтобы повести людей за собой. Создание этого меньшинства мне кажется важнейшей задачей.
Вопрос из зала: Меня интересует опасность тенденции браков мусульманских граждан с российскими. Что из этого получится? Не получится ли какой-нибудь деградации?
Лейбин: Так вы не женитесь. Это, конечно, простое решение.
Померанц: Видите ли, тут есть одно обстоятельство. Я не очень уверен, что некоторые обычаи мусульман близки русским вкусам, например, многоженство, т.е. иметь любовниц – это как-то принято, но завести прямо рядом сидящих жен — это, боюсь, для русского было бы очень хлопотливо. Поэтому я не думаю, что такое движение будет массовым и представляет угрозу для нации.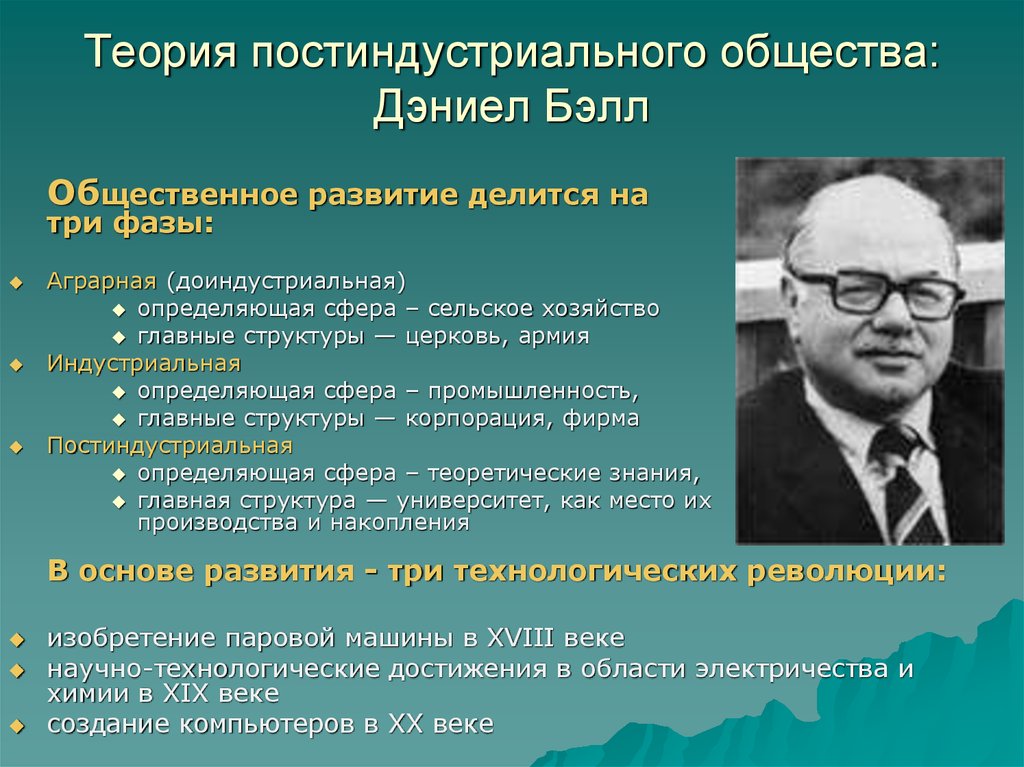
Вопрос из зала: Можно, все-таки, уточнить еще раз. Вы говорили о четырех цивилизациях, которые влияют на Россию, не могли бы вы их еще раз назвать? И, если можно, еще раз воспроизвести те критерии, которые, с вашей точки зрения, важны для определения цивилизации. Вы сказали о том, что физическая география здесь не играет роли, а играют язык, культура, может быть, шрифт, религия. Что, с вашей точки зрения, является более важным, или, может быть, есть несколько критериев?
Померанц: Я отвечу немного шире. Первой группой, обладающей неким общим, хотя не точно определенным духом, можно назвать, пользуясь термином Шпенглера, культурный круг. Вокруг очага высокой культуры возникает какое-то постепенное распространение, обмен информацией и т.д. Но с моей точки зрения, целесообразно выделить из этих многих разнообразных форм и степеней развития понятие субглобальной цивилизации. Я поэтому предложил такие простые параметры, которые определяют и отделяют субглобальную цивилизацию от других групп, тоже обладающих в большей или меньшей мере общим духом.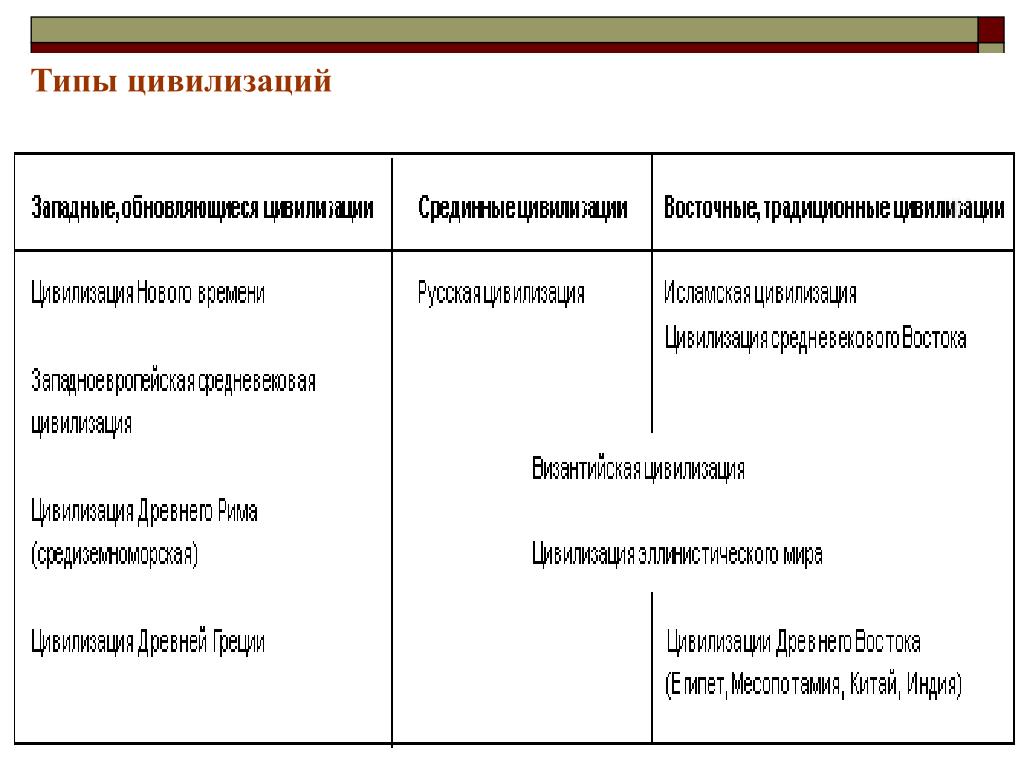
Это вы совершенно правильно перечислили: общую совокупность святынь (это может быть Библия, Коран, Ригведа и Упанишады, сочинения Конфуция, Мэн-Цзы, Лао-Цзы и некоторые буддийские сутры, которые тоже были признаны китайским достоянием), некий общий компендиум текстов, признанный священными. Второе – язык, который становится языком элиты данной группы, и шрифт, который начинает использоваться всеми языками данной группы. Это легко проследить, это просто соответствует фактам. К началу Нового времени очень четко сложились четыре субглобальные цивилизации, четыре мира.
Но всегда есть некоторая запутывающая частность. Разрушение Византийского мира длилось медленно, долго. Византия погибала примерно с VII в., когда начался триумф ислама, и до XV в., когда был взят Константинополь. Все это время шла борьба двух цивилизаций за то, чтобы считаться основной цивилизацией Восточного Средиземноморья и Ближнего Востока. В принципе, возможно, но, боюсь, время уже прошло, возникновение какой-то новой цивилизации, как возник Тибет, но основных цивилизаций, обладающих всем необходимым запасом культурных данных, чтобы ассимилировать все племена, попадающих в зону этих цивилизаций, в последнее время существует только четыре.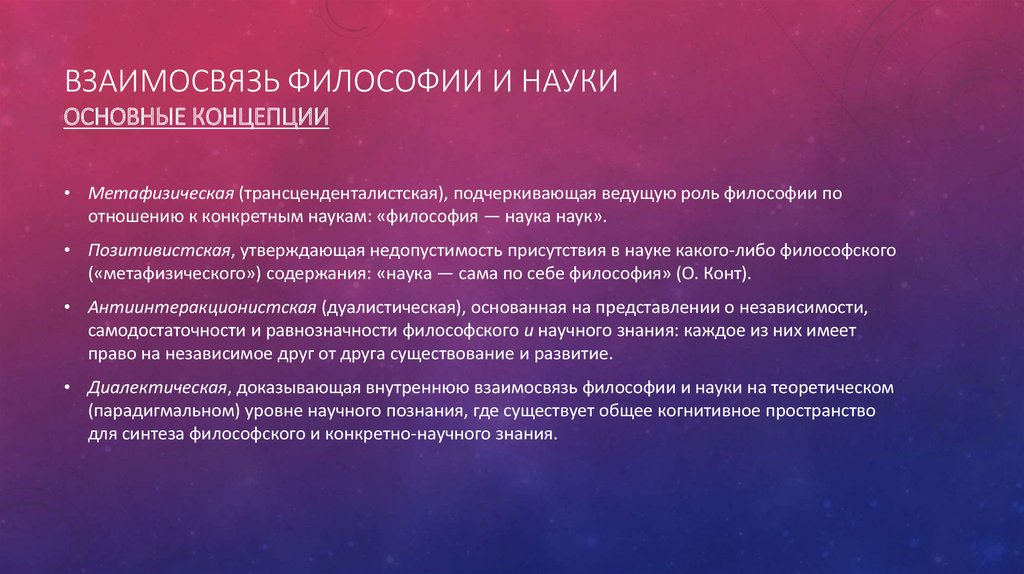
Очень важно то, что субглобальная цивилизация, за редким исключением, полностью поглощает и превращает в своих носителей любое племя, попавшее в ее зону. Венгры были азиатской ордой, ворвавшейся в Европу. Сейчас это цивилизованный европейский народ. Все завоеватели до ислама, попавшие в Индию, приобретали статус еще одной касты — варны кшатриев. За небольшие деньги брахманы писали им родословную, и они становились потомками богатырей Махабхараты.
В Китае любые кочевники или постепенно синизировались, окитаивались, или, как монголы, изгонялись. Субглобальная цивилизация благодаря богатству своей культуры обладает силой подчинять себе, ассимилировать все иноязычные, инокультурные элементы, которые в нее попадают. Забавно, что даже евреи, попавшие в Китай (где их не подвергали никакой дискриминации, а просто предлагали сдавать экзамены, если им хочется становиться чиновниками, шэньши), увидали, что чиновников в Китае уважают больше, чем купцов, и стали сдавать экзамены. Некоторые из них успешно выдерживали, назначались начальником уезда.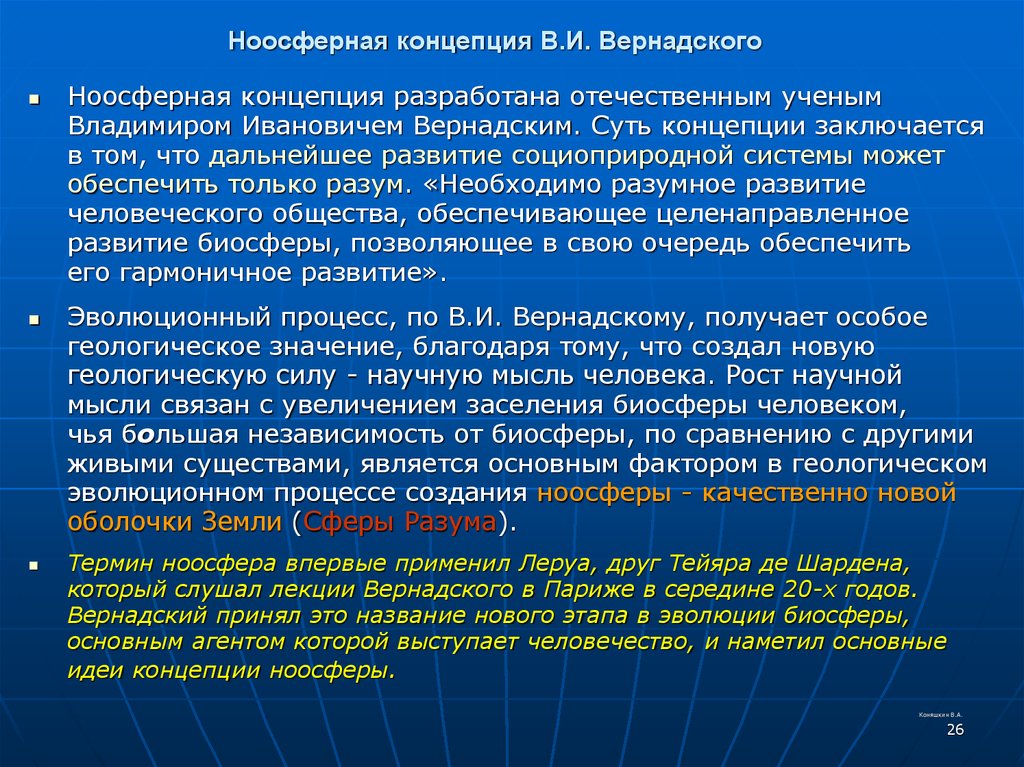 Как принято в Китае, экзаменующийся должен быть холостым, и он посылается куда-нибудь за 500 верст, чтобы не было кумовства, там он женился на китаянке. Поэтому потомки китайских евреев постепенно стали китайцами. Они у себя в кумирне, как правило, имеют статуэтки Авраама, Якова и Моисея, желтых, косоглазых и т.д., другими они их себе не представляют. Это просто показывает, насколько субглобальная культура может поглотить любую иноязычную, инокультурную группу. Еще раз: это западная, ближневосточная, южноазиатская, дальневосточная.
Как принято в Китае, экзаменующийся должен быть холостым, и он посылается куда-нибудь за 500 верст, чтобы не было кумовства, там он женился на китаянке. Поэтому потомки китайских евреев постепенно стали китайцами. Они у себя в кумирне, как правило, имеют статуэтки Авраама, Якова и Моисея, желтых, косоглазых и т.д., другими они их себе не представляют. Это просто показывает, насколько субглобальная культура может поглотить любую иноязычную, инокультурную группу. Еще раз: это западная, ближневосточная, южноазиатская, дальневосточная.
Вопрос из зала: Япония после Второй мировой войны относится к какой цивилизации: к западной или дальневосточной? Потому что английский язык, насколько я знаю, там довольно распространен, частично люди пишут латиницей, кажется, неофициально, но довольно распространенная вещь, и традиционные религии синтоизм и буддизм тоже уступают место.
Померанц: Я вас понял, спасибо. Когда мы говорим о современности, сейчас четвертая стадия глобализации, а не вторая.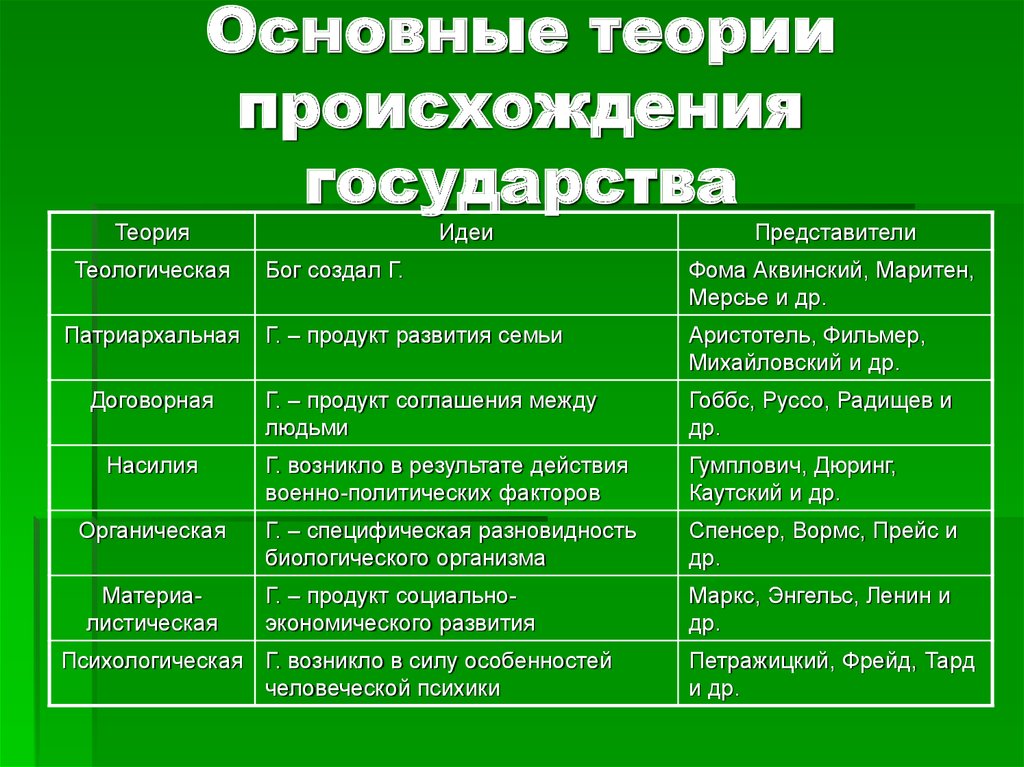 Правда, это уперлось в значительные трудности, а именно, в процесс вымирания носителей западной цивилизации, произошла вестернизация значительной части стран, относящихся к другим субглобальным цивилизациям. Япония оказалась блестящим примером этого. Все же Япония одновременно остается дальневосточной страной. Я недавно смотрел корейский фильм “Весна, лето, осень, зима и снова весна”, от него пахло такой глубиной традиций! Я уверен, что создатели этого фильма говорили по-английски.
Правда, это уперлось в значительные трудности, а именно, в процесс вымирания носителей западной цивилизации, произошла вестернизация значительной части стран, относящихся к другим субглобальным цивилизациям. Япония оказалась блестящим примером этого. Все же Япония одновременно остается дальневосточной страной. Я недавно смотрел корейский фильм “Весна, лето, осень, зима и снова весна”, от него пахло такой глубиной традиций! Я уверен, что создатели этого фильма говорили по-английски.
Но вот вам пример индийцев, где английский язык остается фактически государственным языком, потому что иначе индийцы передерутся, каким языком им надо говорить, потому что там разные языки. Вот я работал библиографом, ко мне приходит индийский журнал: recently, недавно, премьер-министр выступил с речью. Я не могу писать в аннотации “недавно”. Что значит “недавно”? У меня карточка, может, пойдет в работу через полгода, за это время много “недавно” пройдет. Индийцы душой живут вечностью, поэтому обращать внимание на то, было это сегодня или в прошлом году, им почти неинтересно.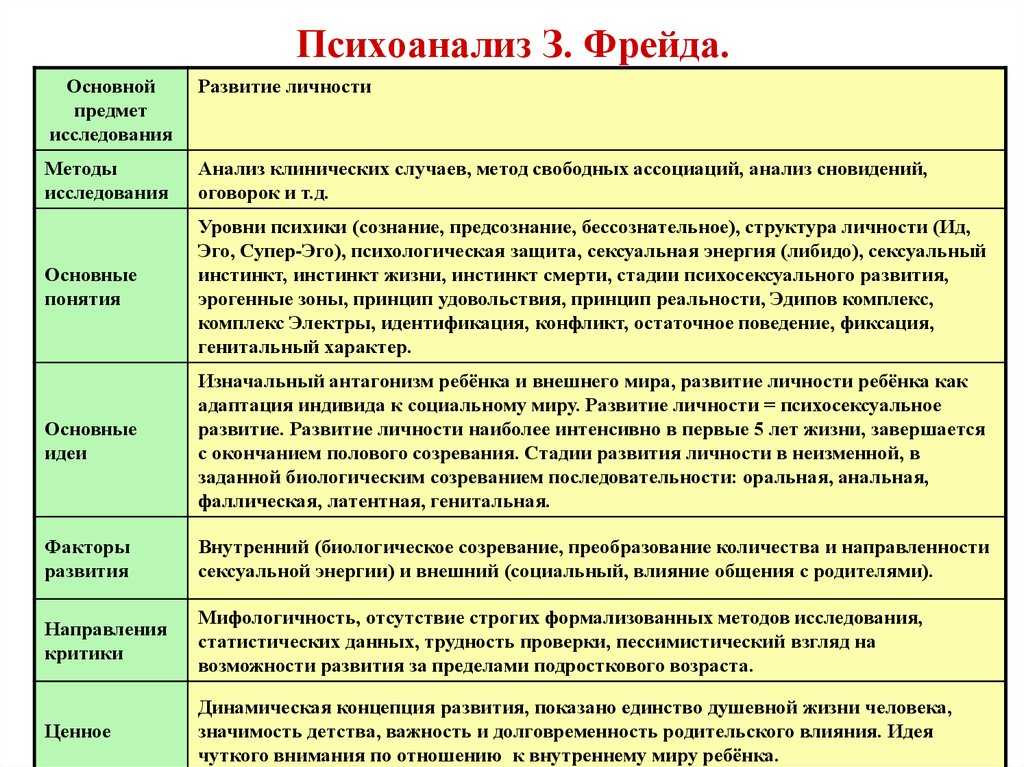 И пока не придет “Economist” и “Newsweek”, я так и не могу пускать карточку в ход, тогда я увижу, что это было, допустим, 8 сентября. А чтобы индиец написал “8 сентября” — это дурной тон.
И пока не придет “Economist” и “Newsweek”, я так и не могу пускать карточку в ход, тогда я увижу, что это было, допустим, 8 сентября. А чтобы индиец написал “8 сентября” — это дурной тон.
Так что, понимаете, эта вестернизация часто является поверхностной и внешней. Япония блестяще воспользовалась прежде победами, потом своим поражением, она пользовалась всем, народ там, конечно, талантливый. Дело в том, что Япония — дочерняя культура. Дочерняя культура привыкает учиться, японцы привыкли учиться у Китая, поэтому им было психологически легче дополнять, она уже привыкла учиться у Индии, усвоив буддизм, они гораздо более буддисты, чем китайцы. Поэтому включить в круг своих учителей Европу и Америку им было не так уж сложно.
Япония, возможно, вырастает в мировую культуру, которая связана сразу с несколькими цивилизациями. И вопреки мнению, что страна, усвоившая элементы разных культур, должна развалиться, я не вижу пока никаких признаков развала Японии. Она достаточно сохраняет свою собственную традицию. Американцы даже решили сохранить императора, который у них ничем не правит, но является очень важным символом единства страны. Так что я все-таки думаю, что Япония – это страна дальневосточной цивилизации. Самостоятельной цивилизацией она не является, но одновременно она является одной из стран складывающейся мировой цивилизации.
Американцы даже решили сохранить императора, который у них ничем не правит, но является очень важным символом единства страны. Так что я все-таки думаю, что Япония – это страна дальневосточной цивилизации. Самостоятельной цивилизацией она не является, но одновременно она является одной из стран складывающейся мировой цивилизации.
Идет процесс складывания мировой цивилизации, и путь России, и путь всех стран, которые хотят иметь свое будущее, – это путь быть национальным выразителем каких-то высот мировой цивилизации. Этот путь не закрыт для России, если, конечно, вся талантливая Россия не уедет.
Вопрос из зала: Очень короткий профанный вопрос. А как быть с нашими братьями-поляками, у которых устный язык близок к братьям-славянам и у которых шрифт латинский. Их ощущение, с одной стороны, европейское, с другой стороны, пограничное. И вся сложность наших отношений с ними…
Померанц: Тут очень много оттенков, и я не берусь вам ответить, тем более — за всех, “я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика”.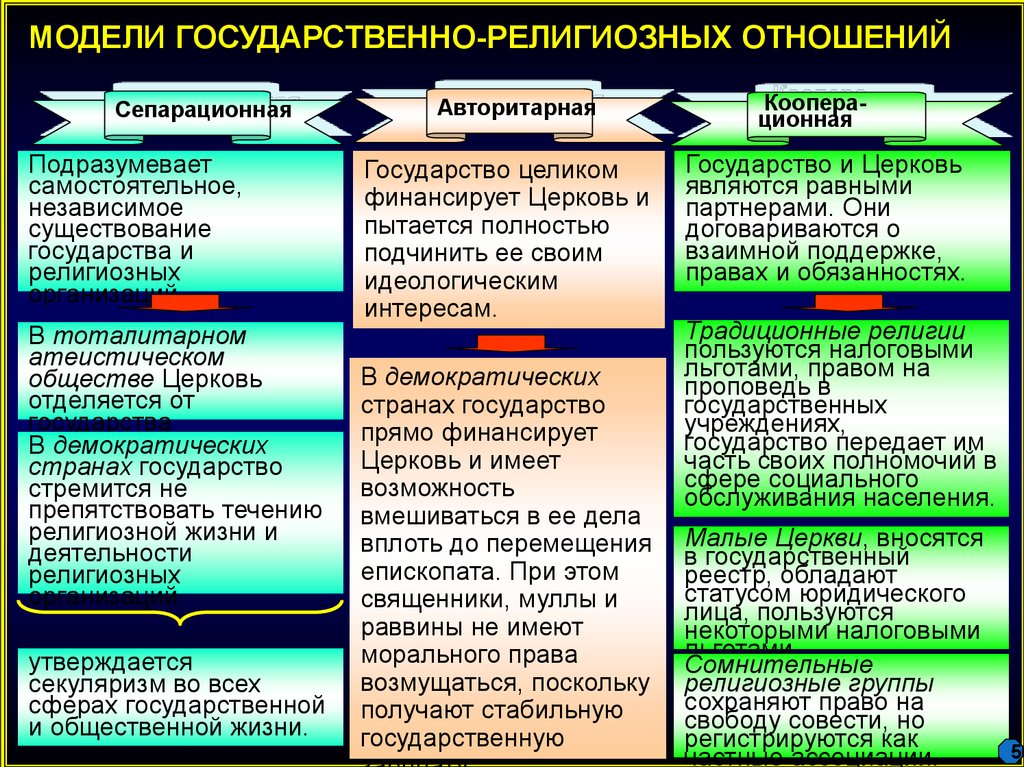 Но когда я бывал в Кенигсберге, увидел, к своему удивлению, я думал, это остался какой-то аппендикс и ничего интересного, отпадет – ничего подобного, там возникла очень своеобразная субкультура в большой дружбе с поляками и совершенно не склонной к евразийству и т.д. И масса мыслящих людей там оказалась. Причем, откуда они там взялись? От своего местоположения, от вдвинутости в Европу, не то, что там были какие-то семьи со старыми традициями – нет. Родители были просто строителями, которые из руин возрождали город, а дети их, находясь в контакте с живой Европой, получились более европейско-ориентированным кусочком России. Так что тут может быть масса оттенково-переходных форм.
Но когда я бывал в Кенигсберге, увидел, к своему удивлению, я думал, это остался какой-то аппендикс и ничего интересного, отпадет – ничего подобного, там возникла очень своеобразная субкультура в большой дружбе с поляками и совершенно не склонной к евразийству и т.д. И масса мыслящих людей там оказалась. Причем, откуда они там взялись? От своего местоположения, от вдвинутости в Европу, не то, что там были какие-то семьи со старыми традициями – нет. Родители были просто строителями, которые из руин возрождали город, а дети их, находясь в контакте с живой Европой, получились более европейско-ориентированным кусочком России. Так что тут может быть масса оттенково-переходных форм.
В том, что я говорил, я акцентировал то, что с такими китами, как эти субглобальные цивилизации, нельзя просто разделаться. Я подробнее об этом писал в №8 “Знамени” за прошлый год, в статье “Живучесть древних основ”. Строительство мировой цивилизации, мирового единства возможно, как мне кажется, путем только медленного формирования диалога.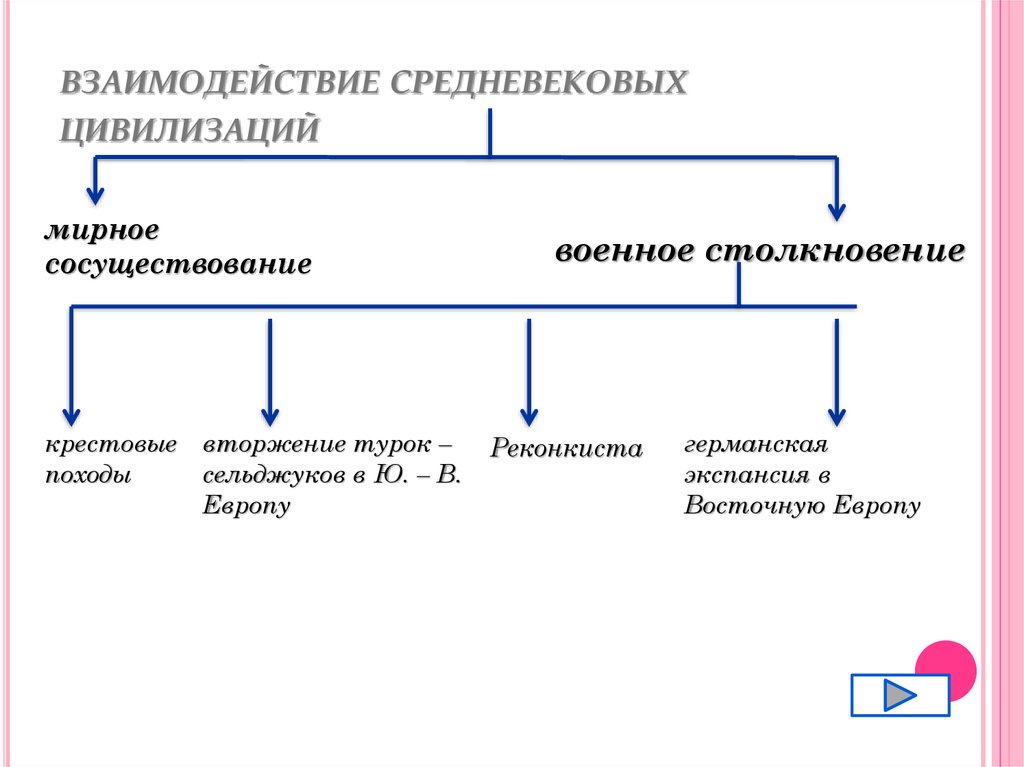 Очень интересным для меня фактом было, что Далай-ламу XIV в 1994 году пригласили на семинар памяти Джона Мейна в Лондоне комментировать Евангелие. Это было очень интересное мероприятие, книга эта была издана, на английском она у меня есть. Правда, только чрез три года издали, потому что было много всяких комментариев и т.д. Диалог был временами очень интересным, даже на самых консервативных религиозных верхах. Но это очень длительный процесс, пока что надо научиться жить в мире и в цивилизованном диалоге, а не выцарапывать друг другу глаза.
Очень интересным для меня фактом было, что Далай-ламу XIV в 1994 году пригласили на семинар памяти Джона Мейна в Лондоне комментировать Евангелие. Это было очень интересное мероприятие, книга эта была издана, на английском она у меня есть. Правда, только чрез три года издали, потому что было много всяких комментариев и т.д. Диалог был временами очень интересным, даже на самых консервативных религиозных верхах. Но это очень длительный процесс, пока что надо научиться жить в мире и в цивилизованном диалоге, а не выцарапывать друг другу глаза.
Вопрос из зала: Прежде всего, два слова по поводу восхищения и благодарности организаторам этого действа, потому что это же нечто чудесное и совершенно небывалое. Как началось с Вяч. Вс. Иванова, а теперь вы – это нечто потрясающее. Честно говоря, мне когда-то удалось слушать Якобсона, мне кажется, что сегодняшнее событие такого же уровня, это нечто совершенно потрясающее.
У меня к вам множество вопросов, но один совершенно определенный.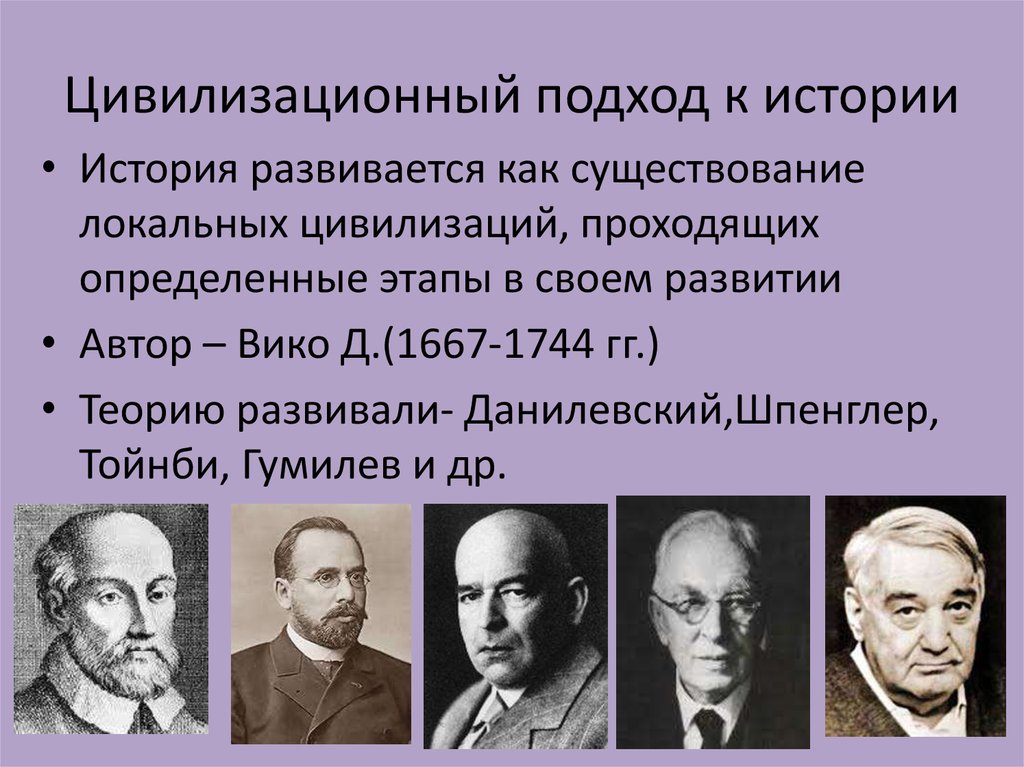 Вы говорили по поводу закрытости и открытости диалога, об опасностях открытости диалога в России. Об этом очень мало говорят, и это очень важно и серьезно, это немного приближает к аудитории, к задачам аудитории. Потому что вы говорили об опасностях открытости диалога, о том, что русская культура не вполне готова к этой открытости диалога и что она очень часто приводит к хаосу. Важен некоторый баланс между открытостью и закрытостью диалога. Есть ли у вас какие-нибудь соображения, может быть, какие-нибудь этапы, каким образом возможно обучить народ или то самое меньшинство к диалогу.
Вы говорили по поводу закрытости и открытости диалога, об опасностях открытости диалога в России. Об этом очень мало говорят, и это очень важно и серьезно, это немного приближает к аудитории, к задачам аудитории. Потому что вы говорили об опасностях открытости диалога, о том, что русская культура не вполне готова к этой открытости диалога и что она очень часто приводит к хаосу. Важен некоторый баланс между открытостью и закрытостью диалога. Есть ли у вас какие-нибудь соображения, может быть, какие-нибудь этапы, каким образом возможно обучить народ или то самое меньшинство к диалогу.
Григорий Померанц (фото Н. Четвериковой)
Померанц: Я понял вас. Видите ли, если говорить практически, то очень много могло бы сделать телевидение, если бы оно было в бескорыстных и благонамеренных руках. Но, как вы понимаете, это так же похоже на действительность, как я похож на Геркулеса. Господствует совершенно другое. Что касается примера Европы, то Поппер (он был вполне западник, автор книги “Открытое общество и его враги”) перед смертью написал статью, что коммерческое телевидение, если его как-то не укоротить, способно погубить западную цивилизацию, столько грязи оно вносит в жизнь.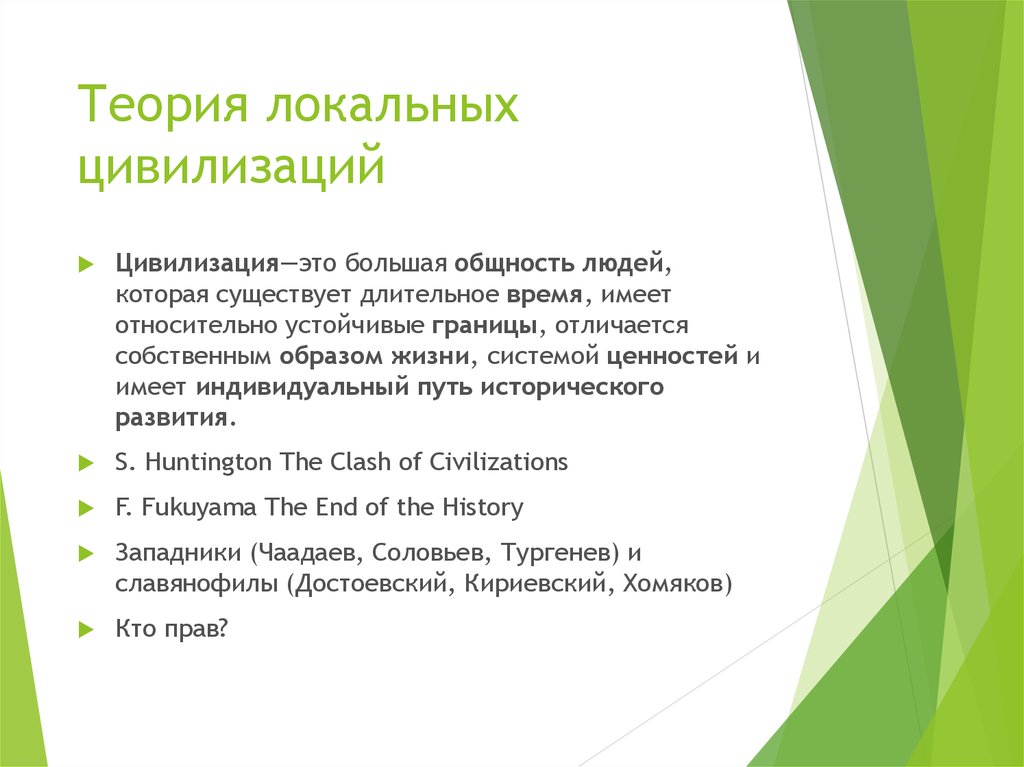
Словом, стремительность технического прогресса (телевидение – только частный случай) вносит в мир такие могучие силы, которые не нашли еще экологической ниши в целостности культуры. Когда развитие двигалось медленно, новое находило себе экологическую нишу и культура как целое развивалась, но сохраняла свою целостность. Потом положение изменилось. Уже в XX в. Сент-Экзюпери выражал это поэтически, веник рассыпался, и надо было суметь связать его волшебным узлом. Так быстро развивались по разным направлениям разные науки и т.д., что современная цивилизация даже с трудом может быть названа целым. Она хаотически развивающееся множество. И связать ее волшебным узлом – мировая задача, очень трудная задача, не только русская. Просто в России это острее выступило, потому что она в самой своей истории нахватала очень много чужого и не все хорошо переварила. Но благодаря современным средствам массовой информации весь мир сейчас очень тесно сдвинулся и нахватал чужого, и переварить все это очень трудно.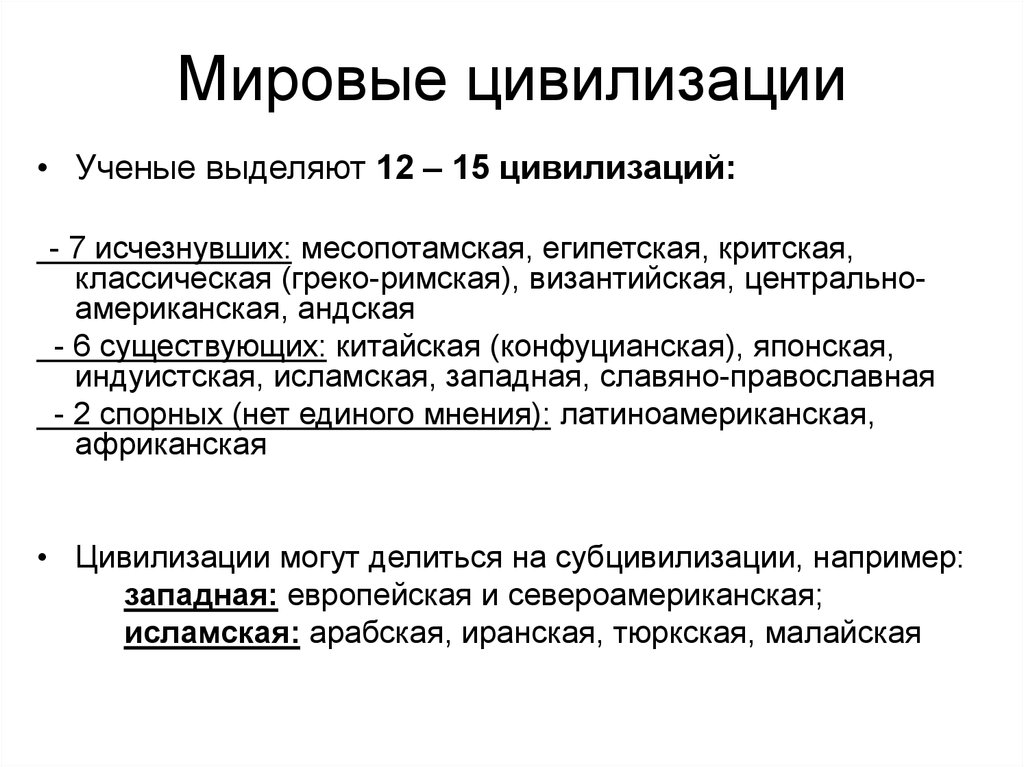
Россия в той мере, в какой это возможно, должна идти вместе с мировыми усилиями в решении этой задачи. Это не чисто национальная задача. Она национальная в том смысле, что нам надо как-то преодолеть броски, которые описал Синявский (я цитату Синявского привел), у него это очень ярко описано, броски от полной открытости к полной закрытости, как-то научиться большей мере и в закрытости, и в открытости.
Япония гораздо удачнее развивалась. Там не брили насильно бород, там не запретили ношение кимоно, национальных одежд, там постепенно переоделись в европейское платье, но там какой-нибудь богатый японский человек ходит в кимоно, как и в старину. Вообще, Япония развивалась, несмотря на ряд срывов в их истории, гораздо лучше уравновешивая традицию и новое, чем Россия. Но и там тоже, как вы знаете, не обошлось без поражения во Вторую мировую войну и т.д. Всюду идет развитие через кризисы, надо просто жить одновременно и в истории, и хоть на полголовы поднимать голову над историей к вечным ценностям, которые могут быть понятны каждому человеку, к какой бы цивилизации он не относился.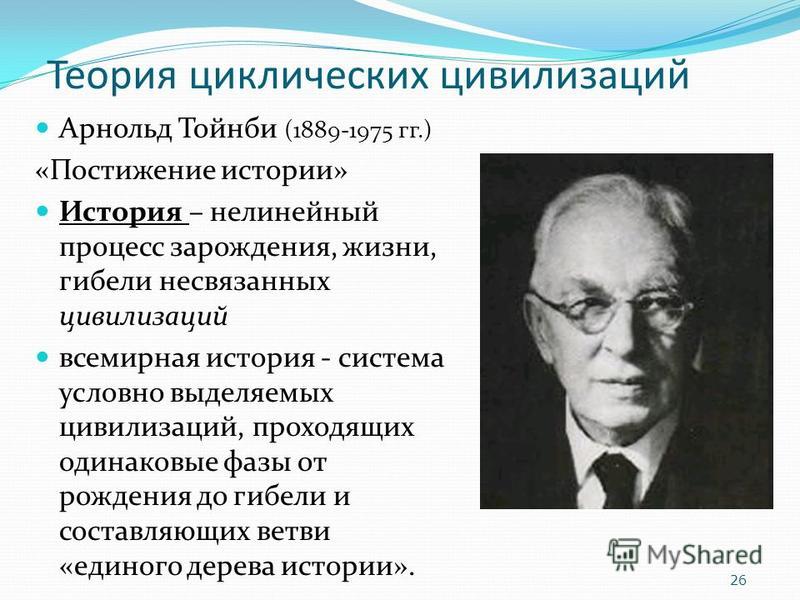 Я не думаю, как Шпенглер, что араб никогда не поймет китайца, просто у араба больше трудностей понять китайца, чем у других. Но все равно все трудности могут быть преодолены.
Я не думаю, как Шпенглер, что араб никогда не поймет китайца, просто у араба больше трудностей понять китайца, чем у других. Но все равно все трудности могут быть преодолены.
Вопрос из зала: Если можно вернуться к тем трем критериям, которые вы предложили в качестве критериев субглобальных цивилизаций. Это святыни, язык и шрифт. Те примеры, которые здесь были приведены, — Япония, Польша, можно привести немало других примеров от Гонконга и Сингапура до Дубая – ваши ответы на эти примеры показывают, что, видимо, значение, по крайней мере, двух последних критериев в настоящее время сильно ослабляется.
Померанц: Да! В настоящее время все комкается, потому что другая ступень, уже начинается сминание границ между субглобальными цивилизациями и становление, но очень хаотическое, глобальной цивилизации, не хватает ей общего духа.
Вопрос из зала: Именно об этом хотелось задать вопрос. Если остается этот общий дух или, может быть, общая совокупность святынь, в качестве кандидатов на такие святыни, если позволите, предложить не Христа, Аллаха, Буду, Конфуция, а такие святыни или вечные ценности, как то, что в Библии именуется богом Мамоной, а сейчас на языке политологов именуется личное благополучие, личный успех, такие ценности, как личная безопасность, свобода, демократические процедуры управления обществом, терпимость, веротерпимость, цивилизационная терпимость и т.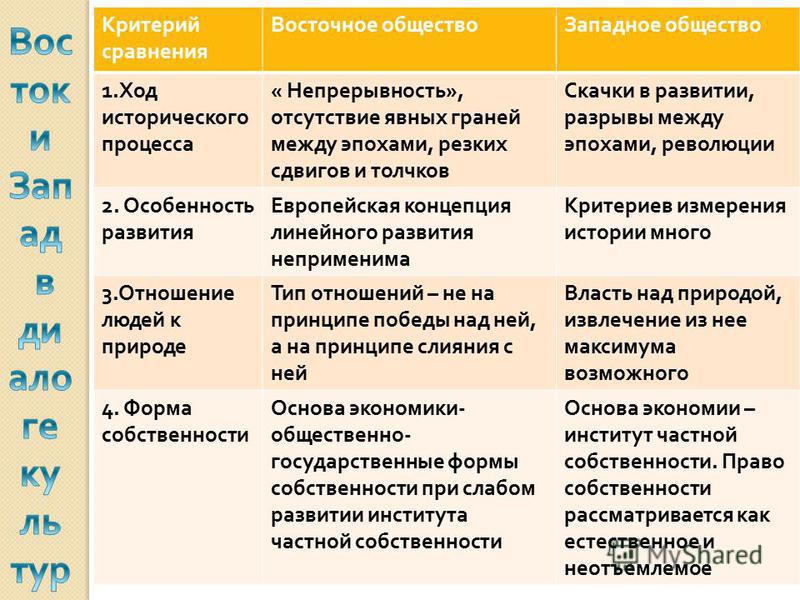 д., – то, что сейчас некоторыми называется ценностями западной цивилизации, но те ценности, которые подхватываются, развиваются, в частности, и в других нациях. Какое ваше отношение к этому? Не являются ли эти ценности или эти святыни (то, о чем и Фукуяма писал) основой для формирования той самой глобальной цивилизации, где успех разных наций в большой степени предопределяется тем, как различные нации и власти предержащие обеспечивают максимально быстро движение по направлению к этим святыням.
д., – то, что сейчас некоторыми называется ценностями западной цивилизации, но те ценности, которые подхватываются, развиваются, в частности, и в других нациях. Какое ваше отношение к этому? Не являются ли эти ценности или эти святыни (то, о чем и Фукуяма писал) основой для формирования той самой глобальной цивилизации, где успех разных наций в большой степени предопределяется тем, как различные нации и власти предержащие обеспечивают максимально быстро движение по направлению к этим святыням.
Померанц: Эти ценности – превеликие ценности, но не святыни. Ибо все-таки у человека, даже если он имеет все те ценности, действительно существенные, о которых вы говорили, остаются еще проблемы вечности, смерти, и, по крайней мере, у некоторых людей не угасла способность как-то чувствовать присутствие некого духа, который можно назвать духом бессмертия в смертном мире. Если вы внимательно слушали (хотя вы достаточно внимательно слушали, просто сложно все сразу уловить, а может, даже я говорил об этом в другом месте), проблема в том, чтобы как-то соединить ту открытость сверхценностям, если вы не хотите несветского языка, и открытость светским ценностям, которые вы перечислили.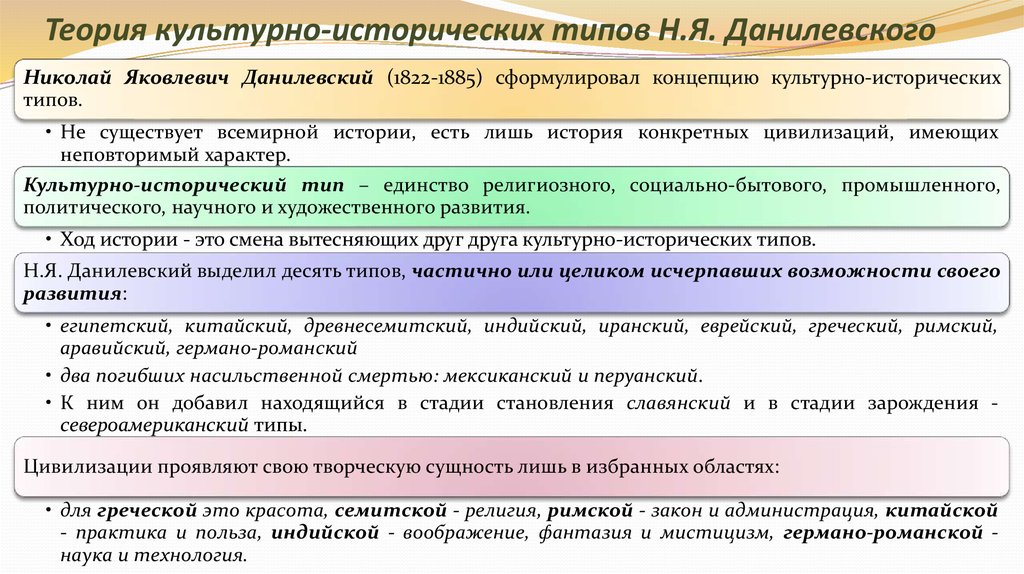 Это разные открытости, и они не должны быть в непримиримом конфликте. Это трудная задача, но она может быть решена.
Это разные открытости, и они не должны быть в непримиримом конфликте. Это трудная задача, но она может быть решена.
Я говорил в условиях нашей страны, что византийская икона учит открытости Богу, а западная культура, усвоенная Россией в XIX в., учит открытости миру и человеку. Дальше вы перечислили ряд ценностей, которые относятся ко второму ряду. Но есть и первый ряд. И тот, кто чувствует реальность этого ряда, он от этого ряда не откажется, будет как-то существовать в жизни, культуре. И проблема отношений этих двух рядов будет сохраняться, не унижая ни того, ни другого.
Что касается возможности глобального ключа к этому, то в нашей книге “Великие религии мира”, которая будет продаваться в 3-м издании на ярмарке 20 ноября, в послесловии говорится, что глубина каждой религии ближе к глубине другой религии, чем к своей собственной поверхности. Ибо в глубине есть нечто, что невербально, несловесно, ибо Бог не говорил ни на иврите, ни на санскрите, ни, тем более, по-русски или по-арабски.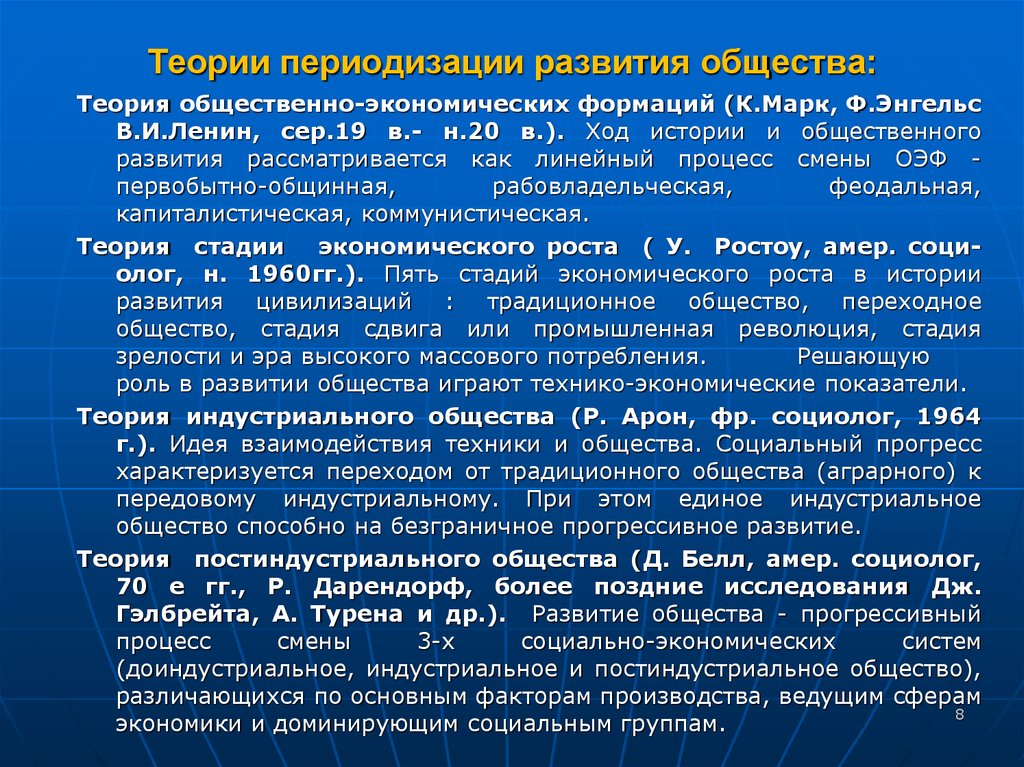 А просто какой-то труднопостижимый свет вдруг освещал изнутри человеческий мозг, и этому человеку становилось что-то яснее, что он раньше всю жизнь не понимал. И он как бы переводил с божеского на человеческое.
А просто какой-то труднопостижимый свет вдруг освещал изнутри человеческий мозг, и этому человеку становилось что-то яснее, что он раньше всю жизнь не понимал. И он как бы переводил с божеского на человеческое.
Все религии – это только переводы с этого импульса, который мы не можем точно определить, на человеческий язык. Если мы это поймем, тогда религия в своем вербальном существовании будет просто формой культуры, как данная культура подходит к вопросу вечности, смерти, бессмертия.
Лейбин: Своими словами, если я правильно понял Григория Соломоновича, то если вдруг какие-то обстоятельства заставят человека отказаться вдруг от сверхценностей, традиции, религии, то это будет все равно плохой гражданин того нового светского глобального мира, он будет плохим предпринимателем, плохим управленцем.
Померанц: Нет, необязательно, я этого не говорил, ничего подобного. Есть люди совершенно нерелигиозные, но очень совестливые, есть люди религиозные, но исходящие из того, что не согрешишь – не покаешься, не покаешься – не спасешься.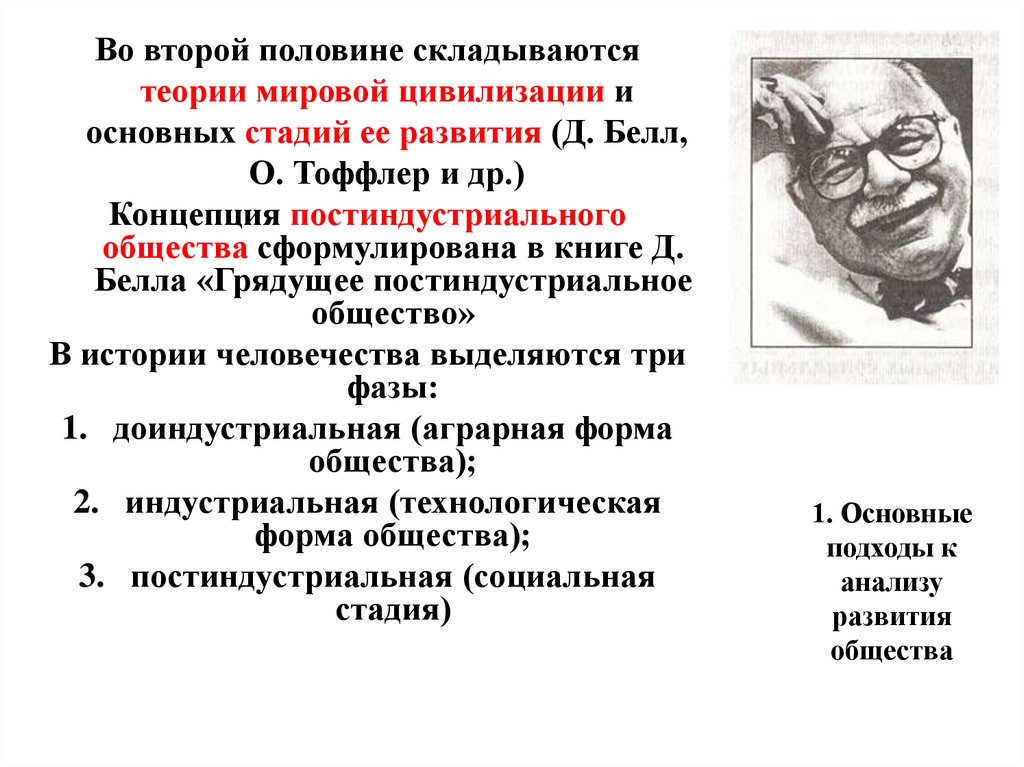 Это все гораздо более сложно и запутанно. Но, если говорить только о преобладающей тенденции, то чувство вечности помогает нравственным отношениям в жизни. Хотя такому простому ходу, как дважды два составит четыре, – тут не получается. Это не математика.
Это все гораздо более сложно и запутанно. Но, если говорить только о преобладающей тенденции, то чувство вечности помогает нравственным отношениям в жизни. Хотя такому простому ходу, как дважды два составит четыре, – тут не получается. Это не математика.
Вопрос из зала: Хотелось бы просто высказать парочку наблюдений, которые приходят в голову, когда слушаешь такие интересные лекции. Мне кажется, существует три крупных дефицита, deficiency, как говорят англичане и американцы, русской интеллигенции в целом, недоработки, недопонимание. Первое – это вера в диалог. На самом деле, эта мировая цивилизация развивается методом многоголосого монолога, никто никого не слышит и не хочет слышать. Складывается она усилиями того, кто орет громче всех.
Второе – это то, что русская интеллигенция никогда не понимает свои собственные силы. Эта идея маленького человека, униженного, оскорбленного не имеет ничего общего с реальной силой русской культуры. Русская культура – это гигантское явление, ее невозможно сравнивать ни с какой из отдельно взятых европейских культур.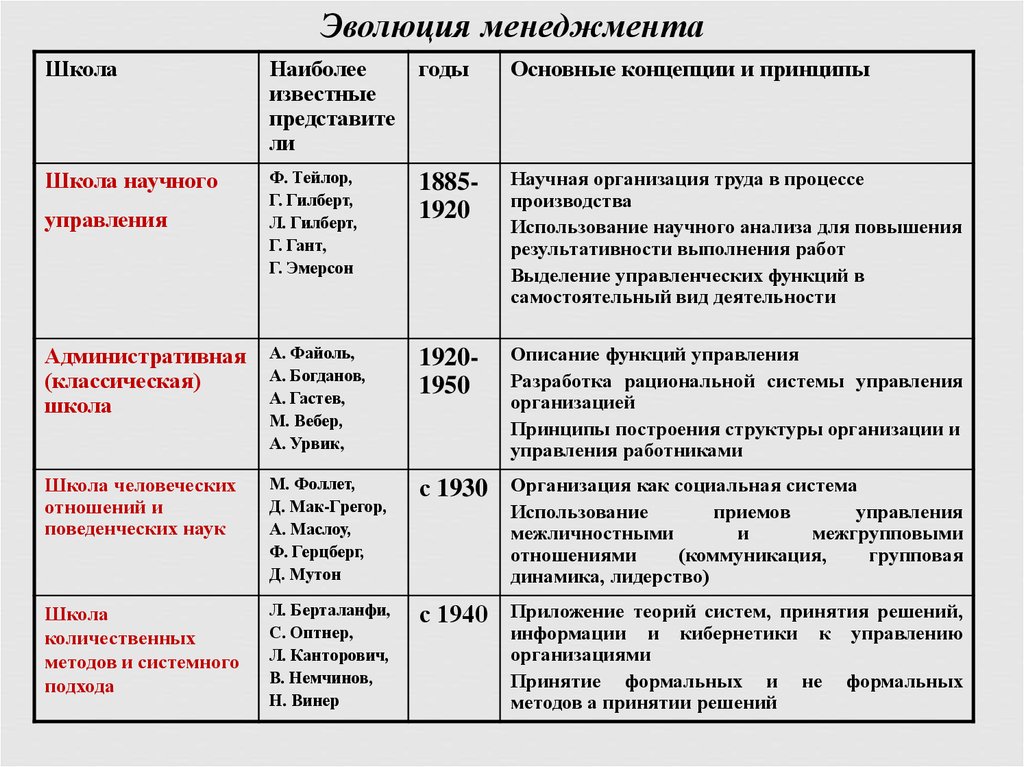 И третье – это непонятное, сейчас наступившее обожествление материальных ценностей. Материальные ценности, по-моему, сродни какой-то языческой тенденции – верить в великую ценность телевизора или унитаза и еще чего-нибудь. По-моему, если удастся преодолеть эти три дефицита, все встанет на свои места. Как вы думаете?
И третье – это непонятное, сейчас наступившее обожествление материальных ценностей. Материальные ценности, по-моему, сродни какой-то языческой тенденции – верить в великую ценность телевизора или унитаза и еще чего-нибудь. По-моему, если удастся преодолеть эти три дефицита, все встанет на свои места. Как вы думаете?
Померанц: Ну, что я думаю… Относительно манеры кричать и не слушать собеседника – это просто стоять на уровне новгородского веча, на котором кричали-кричали, кто громче кричит…
Реплика из зала: Джордж Буш…
Померанц: Джордж Буш и стоит, я бы сказал, на уровне новгородского веча, только вооруженного электронной техникой. Американцы умеют покупать умы, но средний уровень Америки не ахти какой высокий, и президента у них выбирают тоже не очень культурного, по-разному бывает. Например, Франклин Делано Рузвельт – человек вполне интеллигентный, ну, а Джордж Буш даже не умеет выговаривать названия некоторых стран, что об этом говорить.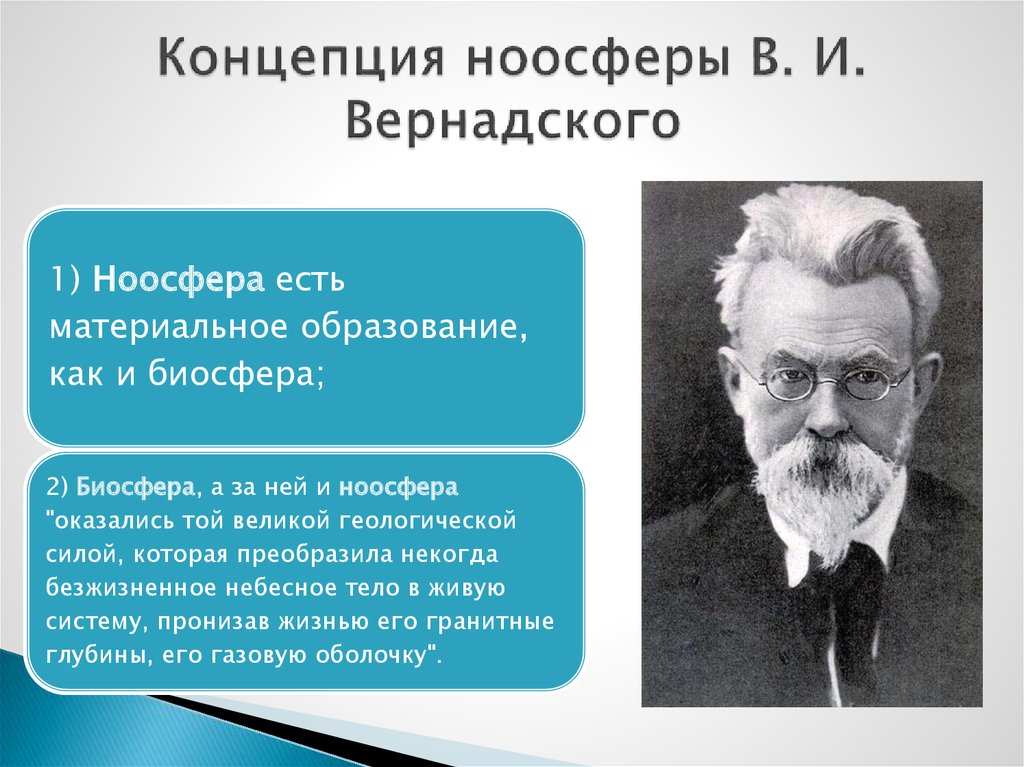 Так же как, впрочем, наши руководители, почти никто не умел говорить по-русски. Я об этом заговорил на восточно-европейском семинаре Франкфуртского университета, а они все начали хохотать: Коль тоже не умеет говорить по-немецки и т.д. (дело происходило в 1990 г., при Коле).
Так же как, впрочем, наши руководители, почти никто не умел говорить по-русски. Я об этом заговорил на восточно-европейском семинаре Франкфуртского университета, а они все начали хохотать: Коль тоже не умеет говорить по-немецки и т.д. (дело происходило в 1990 г., при Коле).
Вообще, политика – это не область большой культуры, массы влиятельны, да. Знаете, что сказал Черчилль? Что демократия – худший вид управления, не считая всех остальных. Она, действительно, худший вид управления, потому что втягивает в управление массы, которые мало что смыслят. Но что поделать, деспотизм еще хуже.
Вопрос из зала: Прошу прощения, к этим трем недостаткам и к диалогу. Вы упомянули Поппера, но во всех его произведениях есть маленькая хитрость, он говорит о том, что необходима демократия, но только в одном предложении-опровержении говорит о том, что демократии не может быть без развитой аргументирующей функции языка. Аргументирующая функция языка – это именно развитость диалога в обществе.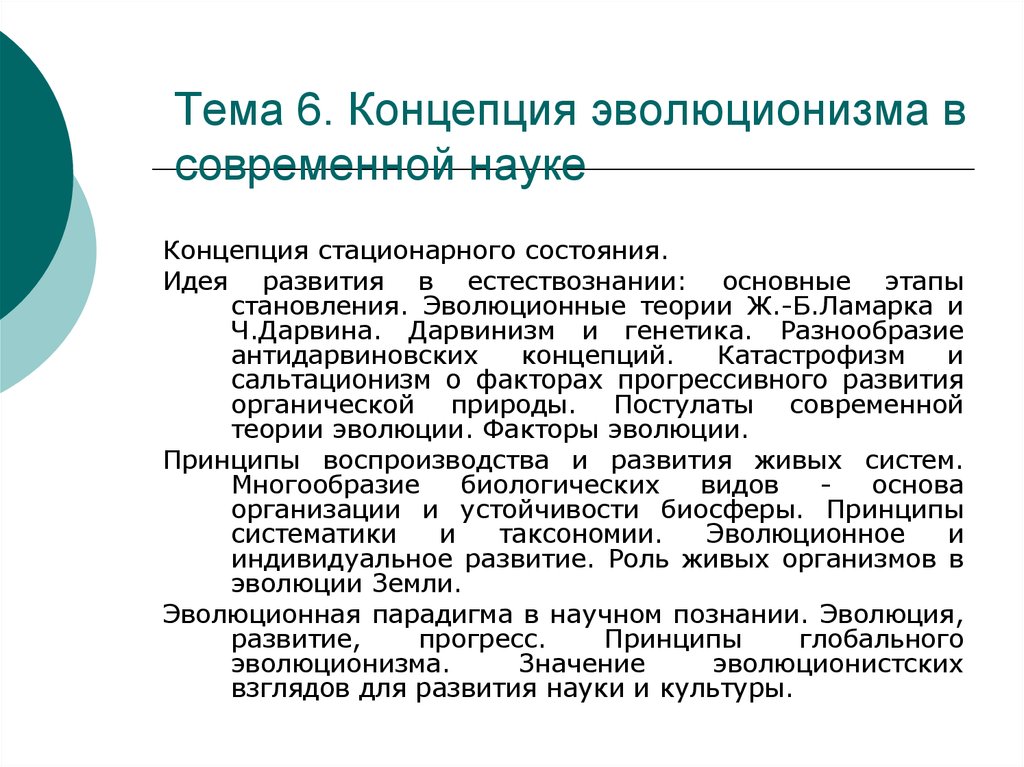 Правда, он не знает, как развивается диалог в обществе, каким образом это получилось на Западе. Мы можем строить предположения о схоластике, о других принципах аргументации, о воспитании искусства выбора и искусства выбора аргументов и т.д. Но, в любом случае, взаимосвязь между аргументирующей функцией языка и эффективностью демократии, на мой взгляд, достаточно убедительна у Поппера.
Правда, он не знает, как развивается диалог в обществе, каким образом это получилось на Западе. Мы можем строить предположения о схоластике, о других принципах аргументации, о воспитании искусства выбора и искусства выбора аргументов и т.д. Но, в любом случае, взаимосвязь между аргументирующей функцией языка и эффективностью демократии, на мой взгляд, достаточно убедительна у Поппера.
Померанц: Подождите, пожалуйста. Я с вами согласен, вы очень подробно это рассказываете. Конечно, было бы лучше двигаться, как в Японии, была диктатура Мэйдзи, но она постепенно наращивала элементы демократии. Кстати, исходный пункт у нее был получше нашего. К началу переворота Мэйдзи 50% японцев были грамотны, а у нас даже Октябрьскую революцию наши начали при меньшем уровне грамотности. Словом, к парламенту японцы пришли не торопясь, постепенно, а у нас было всего несколько лет парламентской жизни между двумя революциями, а потом, вообще, была только пародия на представителей, и сразу бабах – выбирай.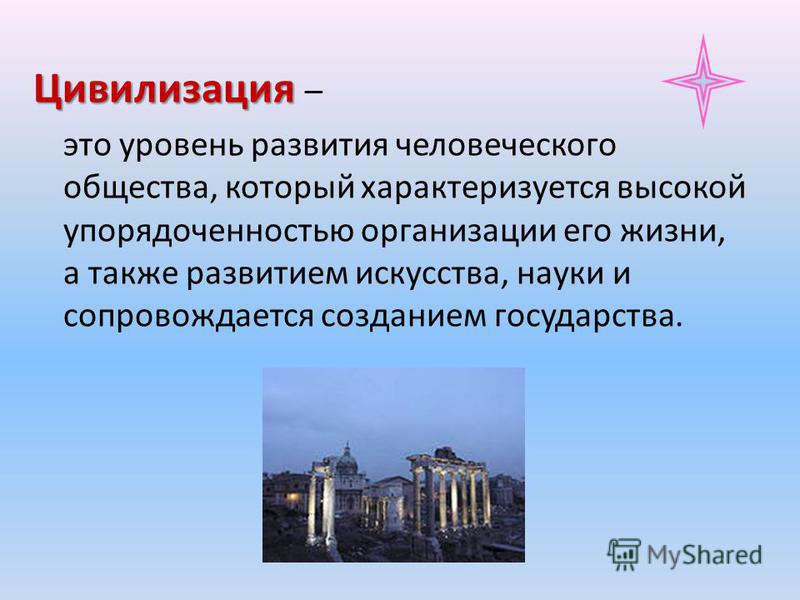 Ну, выбирай, а я не умею выбирать. Выбираю, у кого симпатичнее лицо. Начались рейтинги. Вдруг нравится генерал Лебедь, такой душка, здоровый, острит хорошо. Ну, Примаков даже не очень красивый был, но на какое-то время и Примаков залетел. Все время это совершенное неумение вести гражданскую жизнь сказалось в колоссальных рейтингах то одного, то другого политика. Народ искал себе хозяина.
Ну, выбирай, а я не умею выбирать. Выбираю, у кого симпатичнее лицо. Начались рейтинги. Вдруг нравится генерал Лебедь, такой душка, здоровый, острит хорошо. Ну, Примаков даже не очень красивый был, но на какое-то время и Примаков залетел. Все время это совершенное неумение вести гражданскую жизнь сказалось в колоссальных рейтингах то одного, то другого политика. Народ искал себе хозяина.
Вопрос из зала: Несомненно. Но, по-моему, отсюда никак не следует то, что предложил предыдущий вопрошающий, – отказ от диалога, от культа диалога, на мой взгляд, наоборот…
Померанц: Нет, нужно, нужно развивать диалог! Но это очень долгое и трудное искусство. У нас, как правило, действительно, делается криком. У нас очень много задач, я просто не в силах все перечислить, я просто говорю, что приходится исходить из некоторых древних основ, которые всюду в работе. Кроме того, есть требования современности, я о них ничего не говорил, это просто была бы тема другой лекции.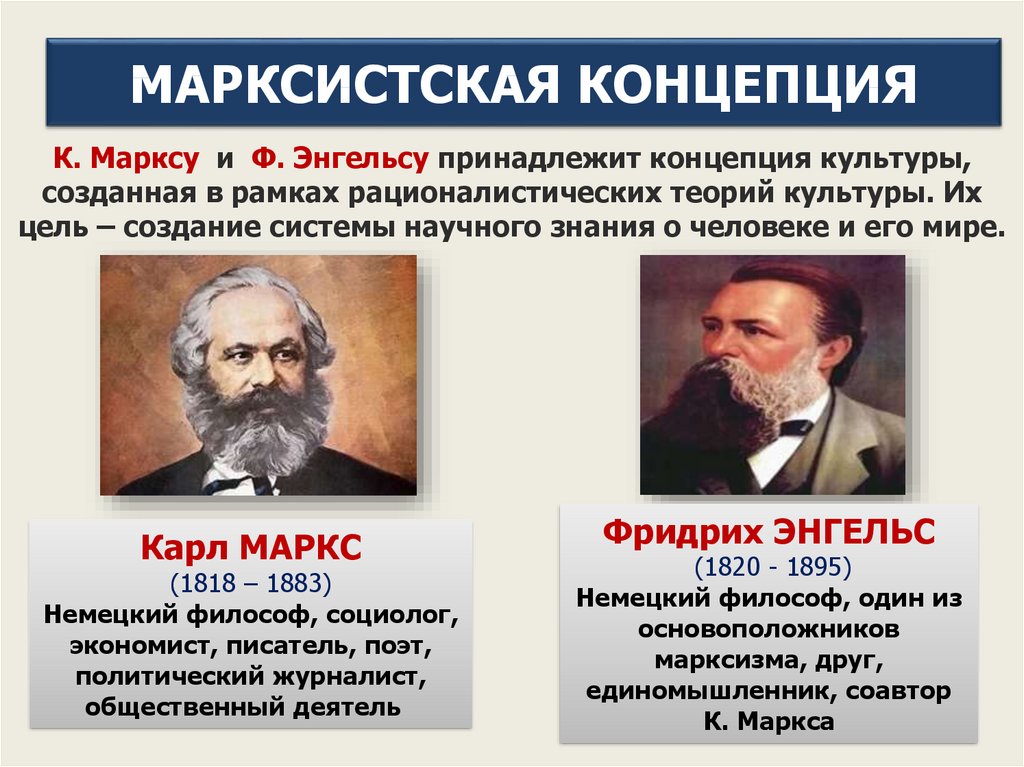
Лейбин: Друзья, как ни жалко, кажется, надо закругляться.
P.S. Григория Померанца.
После яркой дискуссии, состоявшейся здесь, мне кажется нужным прибавить несколько слов: я верю в незаметные действия таких начинаний, как “Солнечный сад” в Калининграде, верю в рост сил творческого меньшинства, способного повести за собой Россию из омута коррупции и смуты. Я верю в медленную работу духа. Я верю в то, что такая Россия понадобится Западу в борьбе с его духовной апатией и упадком творческих сил.
В рамках проекта “Публичные лекции “Полит.ру”, стартовавшего в марте 2004 года, выступали также:
- Александр Каменский. Реформы в России с точки зрения историка
- Олег Мудрак. История языков
- Владимир Клименко. Глобальный климат: вчера, сегодня, завтра
- Евгений Ясин. Приживется ли у нас демократия?
- Татьяна Заславская. Человеческий фактор в трансформации российского общества
- Даниель Кон-Бендит.
 Культурная революция. 1968 год и «Зеленые»
Культурная революция. 1968 год и «Зеленые» - Дмитрий Фурман. От Российской империи до распада СНГ
- Рифат Шайхутдинов. Проблема власти в России
- Александр Зиновьев. Постсоветизм
- Анатолий Вишневский. Демографические альтернативы для России
- Вячеслав Вс. Иванов. Дуальные структуры в обществах
- Яков Паппэ. Конец эры олигархов. Новое лицо российского крупного бизнеса
- Альфред Кох. К полемике о “европейскости” России
- Леонид Григорьев. «Глобус России». Экономическое развитие российских регионов
- Григорий Явлинский. «Дорожная карта» российских реформ
- Леонид Косалс. Бизнес-активность работников правоохранительных органов в современной России
- Александр Аузан. Гражданское общество и гражданская политика
- Владислав Иноземцев. Россия и мировые центры силы
- Гарри Каспаров.
 Зачем быть гражданином (и участвовать в политике)
Зачем быть гражданином (и участвовать в политике) - Андрей Илларионов. Либералы и либерализм
- Ремо Бодеи. Политика и принцип нереальности
- Михаил Дмитриев. Перспективы реформ в России
- Антон Данилов-Данильян. Снижение административного давления как гражданская инициатива
- Алексей Миллер. Нация и империя с точки зрения русского национализма. Взгляд историка
- Валерий Подорога. Философия и литература
- Теодор Шанин. История поколений и поколенческая история России
- Валерий Абрамкин и Людмила Альперн. Тюрьма и Россия
- Александр Неклесcа. Новый интеллектуальный класс
- Сергей Кургинян. Логика политического кризиса в России
- Бруно Гроппо. Как быть с «темным» историческим прошлым
- Глеб Павловский. Оппозиция и власть в России: критерии эффективности
- Виталий Найшуль.
 Реформы в России. Часть вторая
Реформы в России. Часть вторая - Михаил Тарусин. Средний класс и стратификация российского общества
- Жанна Зайончковская. Миграционная ситуация современной России
- Александр Аузан. Общественный договор и гражданское общество
- Юрий Левада. Что может и чего не может социология
- Георгий Сатаров. Социология коррупции (к сожалению, по техническим причинам большая часть записи лекции утеряна)
- Ольга Седакова. Посредственность как социальная опасность
- Алесандр Лившиц. Что ждет бизнес от власти
- Евсей Гурвич. Что тормозит российскую экономику
- Владимир Слипченко. К какой войне должна быть готова Россия
- Владмир Каганский. Россия и регионы — преодоление советского пространства
- Борис Родоман. Россия — административно-территориальный монстр
- Дмитрий Орешкин. Судьба выборов в России
- Даниил Дондурей.
 Террор: Война за смысл
Террор: Война за смысл - Алексей Ханютин, Андрей Зорин “Водка. Национальный продукт № 1”
- Сергей Хоружий. Духовная и культурная традиции России в их конфликтном взаимодействии
- Вячеслав Глазычев “Глубинная Россия наших дней”
- Михаил Блинкин и Александр Сарычев “Российские дороги и европейская цивилизация”
- Андрей Зорин “История эмоций”
- Алексей Левинсон “Биография и социография”
- Юрий Шмидт “Судебная реформа: успехи и неудачи”
- Александр Аузан “Экономические основания гражданских институтов”
- Симон Кордонский “Социальная реальность современной России”
- Сергей Сельянов “Сказки, сюжеты и сценарии современной России”
- Виталий Найшуль “История реформ 90-х и ее уроки”
- Юрий Левада “Человек советский”
- Олег Генисаретский “Проект и традиция в России”
- Махмут Гареев “Россия в войнах ХХ века”
Информатизация общества и переход к устойчивому развитию цивилизации
Информатизация общества и переход к устойчивому развитию цивилизации
___________________________
Урсул А.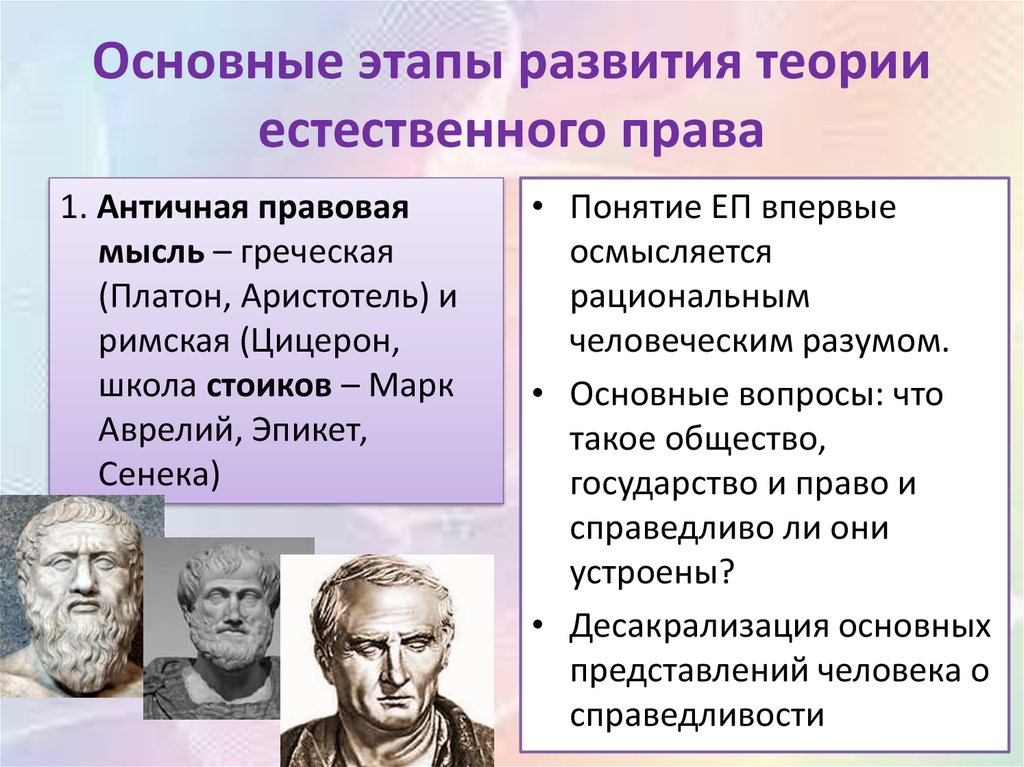 Д.
Д.
Статья затрагивает вопросы информатизации общества в единстве с социальноэкономическими и экологическими проблемами человечества на пути реализации новой модели цивилизационного развития перехода к планетарному управляемому социоразвитию. При этом информатизация общества рассматривается как устойчивый путь в ноосферу. Становление ноосферы это путь выживания цивилизации.
В последние годы в мире происходят кардинальные трансформации, которые не могут не повлиять на дальнейшую судьбу как всей цивилизации, так и России. Эти трансформации связаны с пониманием кризисной ситуации, в которой оказалась наша страна и человечество в целом, и принятием мер по предотвращению глобальной и российской катастрофы. Вполне естественно, это затрагивает и наши представления о роли информатизации в данном процессе и, по сути дела, формирует новое видение перспектив информатики в жизни общества, его долговременной информационной стратегии.
Акцентирование внимания лишь на техникотехнологических проблемах информатизации не позволяет сформировать новую информационную стратегию, которая определит адекватное место информатики в выходе из глубочайшего цивилизационного кризиса, сделает ее реальным средством выживания и дальнейшего устойчивого развития человечества.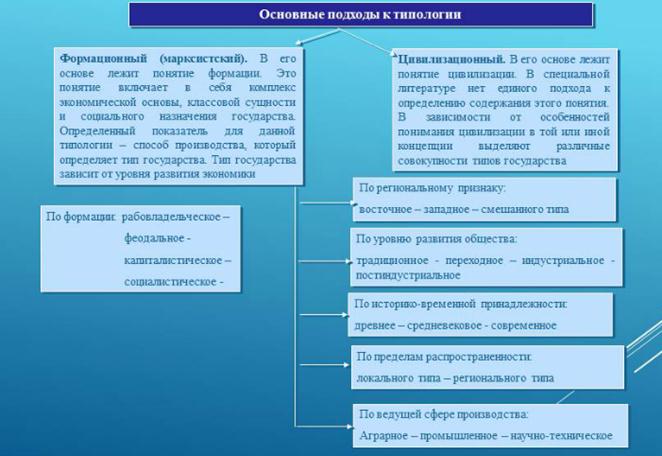 Необходимы выход за пределы информатики в общество и реализация того систем! ого подхода к информатике, начало которого связано с формированием социальной информатики [13]. В этих же работах поставлен вопрос о новом ноосферном синтезе науки и духовности в целом, синтезе, в котором информатика во всех ее разновидностях сможет занять приоритетное место [4,5].
Необходимы выход за пределы информатики в общество и реализация того систем! ого подхода к информатике, начало которого связано с формированием социальной информатики [13]. В этих же работах поставлен вопрос о новом ноосферном синтезе науки и духовности в целом, синтезе, в котором информатика во всех ее разновидностях сможет занять приоритетное место [4,5].
Ниже изложены существо новой переломной ситуации в человеческой истории и новое видение роли информатики в будущем цивилизации, если она сумеет перейти на совершенно новую модель развития, которая ставит беспрецедентную задачу перехода к планетарному управляемому социоэкоразвитию. Именно эта задача может стать основной в становлении того общества, в глобальном масштабе, которое ныне все чаще именуют информационной цивилизацией.
На пути к устойчивому развитию: выбор новой модели будущего Россия, как и все мировое сообщество, находится на переломном этапе своего развития, и пытается найти выход из кризисной ситуации, сложившейся в социальноэкономической и экологической сферах.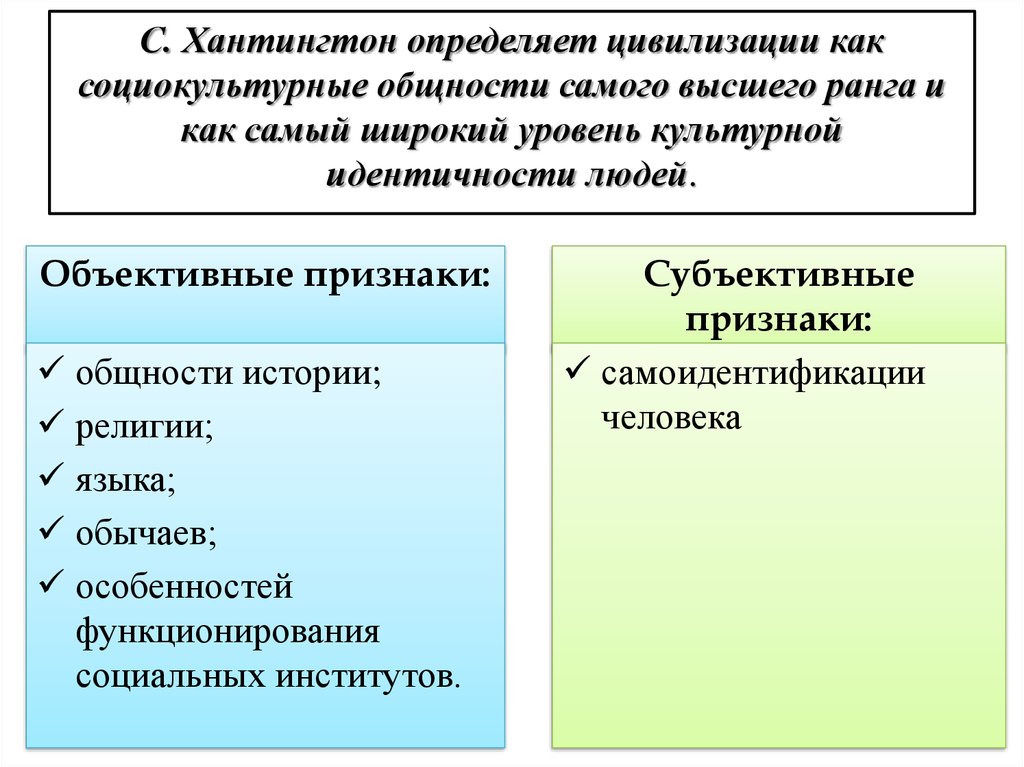 Десятилетиями продолжались снижение эффективности экономики, широкомасштабное разрушение природы и снижение жизненного уровня населения. Начавшиеся в последние годы процессы обновления перестройка, демократизация, переход к рыночным отношениям не привели пока к оздоровлению России. В широком смысле мы сейчас остро нуждаемся в «экологическом страховании» демократических реформ, в противном случае они окажутся бесперспективными. Мы не должны и далее идти по пути не оправдавшей себя модели неустойчивого развития, отвергнутой мировым сообществом в июне 1992 г. в Рио-де-Жанейро.
Десятилетиями продолжались снижение эффективности экономики, широкомасштабное разрушение природы и снижение жизненного уровня населения. Начавшиеся в последние годы процессы обновления перестройка, демократизация, переход к рыночным отношениям не привели пока к оздоровлению России. В широком смысле мы сейчас остро нуждаемся в «экологическом страховании» демократических реформ, в противном случае они окажутся бесперспективными. Мы не должны и далее идти по пути не оправдавшей себя модели неустойчивого развития, отвергнутой мировым сообществом в июне 1992 г. в Рио-де-Жанейро.
Возрождение России, ее включение в мировой процесс, ориентирующийся на модель устойчивого развития, сопряжены с реализацией нового типа движения вперед, когда удовлетворение жизненных потребностей нынешнего поколения людей не будет достигаться за счет лишения такой же возможности наших потомков [68 ]. Стратегия устойчивого (сбалансированного) развития потребует системной оптимизации не только экономических и экологических характеристик, но и всех остальных параметров и тенденций социоприродной системы, достижения гармонии между людьми и между обществом и природой.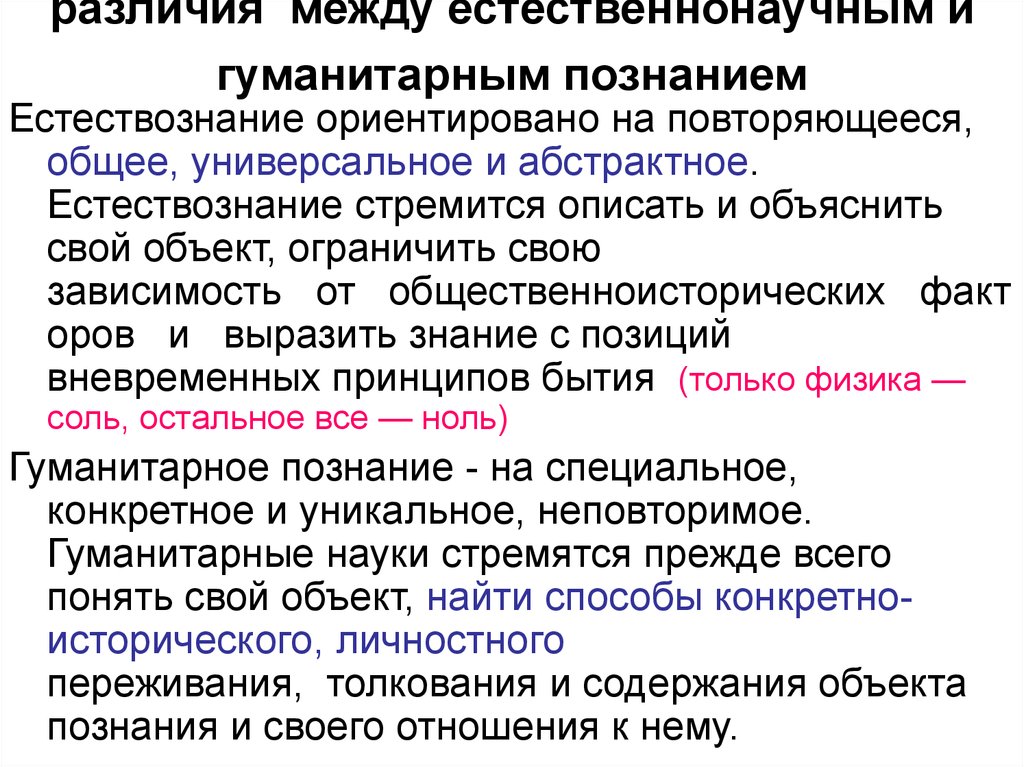 Стабильность экономического роста и социального развития должна будет достигаться без неоправданной деградации природы, сохранением прежде всего биосферы планеты. Такого рода устойчивое социоприродное развитие предполагает движение по пути широко понимаемой всесторонней интенсификации не только производства, но и всех сфер социальной деятельности, когда максимальное вовлечение качественных источников и факторов органически связано с минимизацией количественных параметров (максимин интенсификации).
Стабильность экономического роста и социального развития должна будет достигаться без неоправданной деградации природы, сохранением прежде всего биосферы планеты. Такого рода устойчивое социоприродное развитие предполагает движение по пути широко понимаемой всесторонней интенсификации не только производства, но и всех сфер социальной деятельности, когда максимальное вовлечение качественных источников и факторов органически связано с минимизацией количественных параметров (максимин интенсификации).
Как показал известный ученыйгеолог, профессор Ъ. С. Голубев, энергетический критерий перехода к интенсивному развитию заключается в уменьшении со временем приведенных энергетических затрат на единицу общественного (совокупного) продукта [9 ]. Существуют и другие естественные причины перехода на интенсивный путь развития ограниченность природных ресурсов, их постепенное истощение, загрязнение окружающей среды. Интенсивный путь развития, к которому перешли сейчас наиболее развитые страны, предполагает постепенный переход в глобальном масштабе на путь сбалансированного непрерывного, т.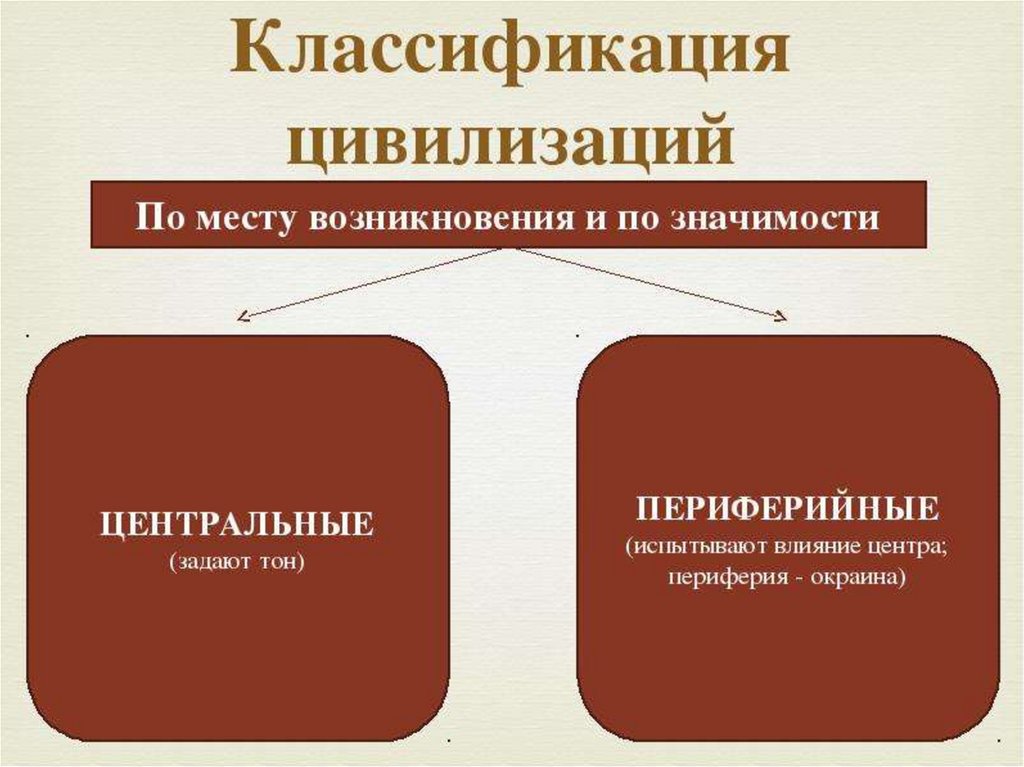 е. устойчивого, развития [10]. Перрход на путь устойчивого социоприродного развития интенсивного типа предполагает реализацию ряда стратегических требований, сформулированных в докладе МКОСР под руководством Г. X. Брутланд [11 ], «Декларации РиодеЖанейро» и «Повестке дня на XXI век» [6 ].
е. устойчивого, развития [10]. Перрход на путь устойчивого социоприродного развития интенсивного типа предполагает реализацию ряда стратегических требований, сформулированных в докладе МКОСР под руководством Г. X. Брутланд [11 ], «Декларации РиодеЖанейро» и «Повестке дня на XXI век» [6 ].
Императивы устойчивого развития не могут быть реализованы стихийно и потребуют формирования новых механизмов управления как в глобальном, так и в национальном (федеральном) и региональном масштабах. Изменятся цели цивилизационного развития, и даже из общечеловеческих ценностей приоритеты будут отданы тем, которые обеспечат движение вперед по устойчивой траектории экогуманистической ориентации. Это повлечет за собой кардинальные демографические, социальноэкономические, культурные, политические и иные трансфермации, не ограничиваемые лишь реформами. Устойчивое развитие обязано пойти по постиндустриальному пути, формируя в ближайшие десятилетия на всей планете информационную цивилизацию, способную к решению экологической и других глобальных проблем.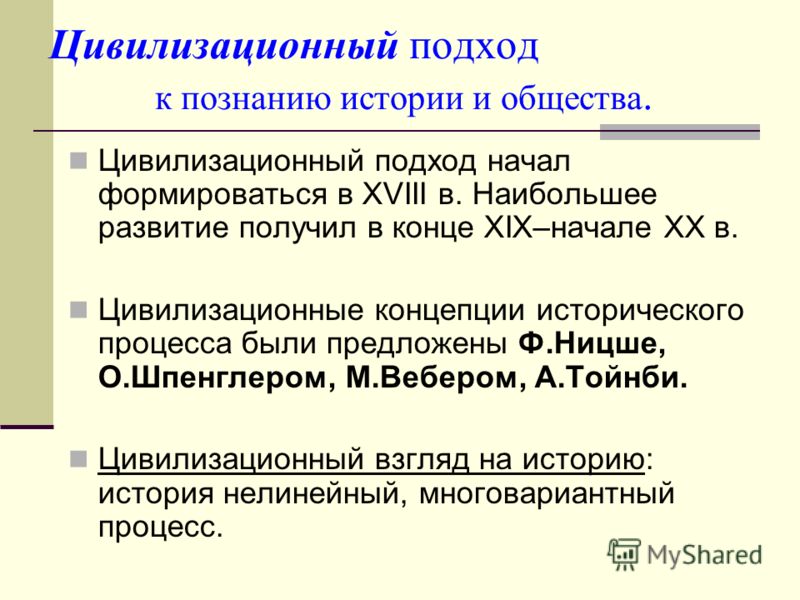 На стадии информационною общества должен появиться новый интегральный интеллект общечеловеческого масштаба, способный эффективно управлять планетарной социоэкосистемой при ее переходе на рельсы устойчивого развития. Это означает, что на данном пути возможна реализация ноосферного варианта такого типа развития, т. е. появление как в отдельных регионах и странах, так и в глобальном масштабе сферы разума, или ноосферной цивилизации. Как будущая сфера совместного проживания человечества без конфронтационноцентробежных и социальнопатологических тенденций, отдающая приоритет идеалам нравственного разума и гуманизма, ноосфера может быть реализована лишь на ненасильственноконсенсусном механизме самоуправления [4,5 ]. Концепция ноосферы, благодаря переходу мирового сообщества на магистраль устойчивого развития, начинает обретать стратегическую и практическую значимость.
На стадии информационною общества должен появиться новый интегральный интеллект общечеловеческого масштаба, способный эффективно управлять планетарной социоэкосистемой при ее переходе на рельсы устойчивого развития. Это означает, что на данном пути возможна реализация ноосферного варианта такого типа развития, т. е. появление как в отдельных регионах и странах, так и в глобальном масштабе сферы разума, или ноосферной цивилизации. Как будущая сфера совместного проживания человечества без конфронтационноцентробежных и социальнопатологических тенденций, отдающая приоритет идеалам нравственного разума и гуманизма, ноосфера может быть реализована лишь на ненасильственноконсенсусном механизме самоуправления [4,5 ]. Концепция ноосферы, благодаря переходу мирового сообщества на магистраль устойчивого развития, начинает обретать стратегическую и практическую значимость.
К сожалению, необходимость перехода к устойчивому развитию и его ноосферной ориентации в России осознается пока весьма узким кругом интеллектуалов и даже не обсуждается на высших уровнях всех властных структур.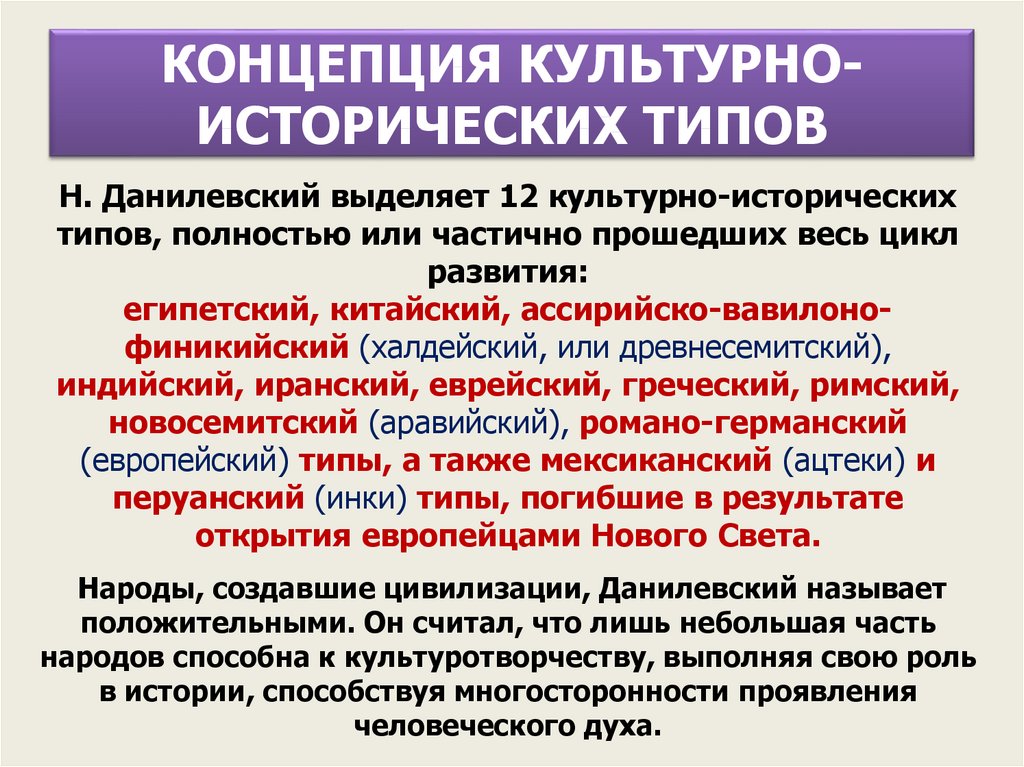 Не говорит об этом и пресса. Складывается впечатление, что, когда весь мир совершает важнейший после сельскохозяйственной и промышленной революций переход на путь устойчивого развития, наша страна продолжает хаотическое движение, уходя все дальше от «реального социализма», но не вперед вместе с мировым сообществом, а, возможно, либо в сторону, либо в далекое прошлое капитализма. И когда передовые индустриальные страны Запада и Востока отвергают это прошлое совместным движением в новое качественное общество как постиндустриальную цивилизацию, пытаясь реализовать новую модель социоприродного развития, вряд ли имеет смысл брать пример с далекого прошлого Запада, особенно сейчас, когда стало ясно, что ни одна из прошлых социальноэкономических формаций (социализм, капитализм) не оказалась перспективной для дальнейшего цивилизационного развития. Сегодня речь идет уже не об улучшении условий существования человечества в будущем, о чем мечталось во всех социальных утопиях, а о возможности выживания, дальнейшем сохранении человеческого рода при удовлетворении далеко не всех, а лишь основных (наиболее естественных) жизненных потребностей.
Не говорит об этом и пресса. Складывается впечатление, что, когда весь мир совершает важнейший после сельскохозяйственной и промышленной революций переход на путь устойчивого развития, наша страна продолжает хаотическое движение, уходя все дальше от «реального социализма», но не вперед вместе с мировым сообществом, а, возможно, либо в сторону, либо в далекое прошлое капитализма. И когда передовые индустриальные страны Запада и Востока отвергают это прошлое совместным движением в новое качественное общество как постиндустриальную цивилизацию, пытаясь реализовать новую модель социоприродного развития, вряд ли имеет смысл брать пример с далекого прошлого Запада, особенно сейчас, когда стало ясно, что ни одна из прошлых социальноэкономических формаций (социализм, капитализм) не оказалась перспективной для дальнейшего цивилизационного развития. Сегодня речь идет уже не об улучшении условий существования человечества в будущем, о чем мечталось во всех социальных утопиях, а о возможности выживания, дальнейшем сохранении человеческого рода при удовлетворении далеко не всех, а лишь основных (наиболее естественных) жизненных потребностей.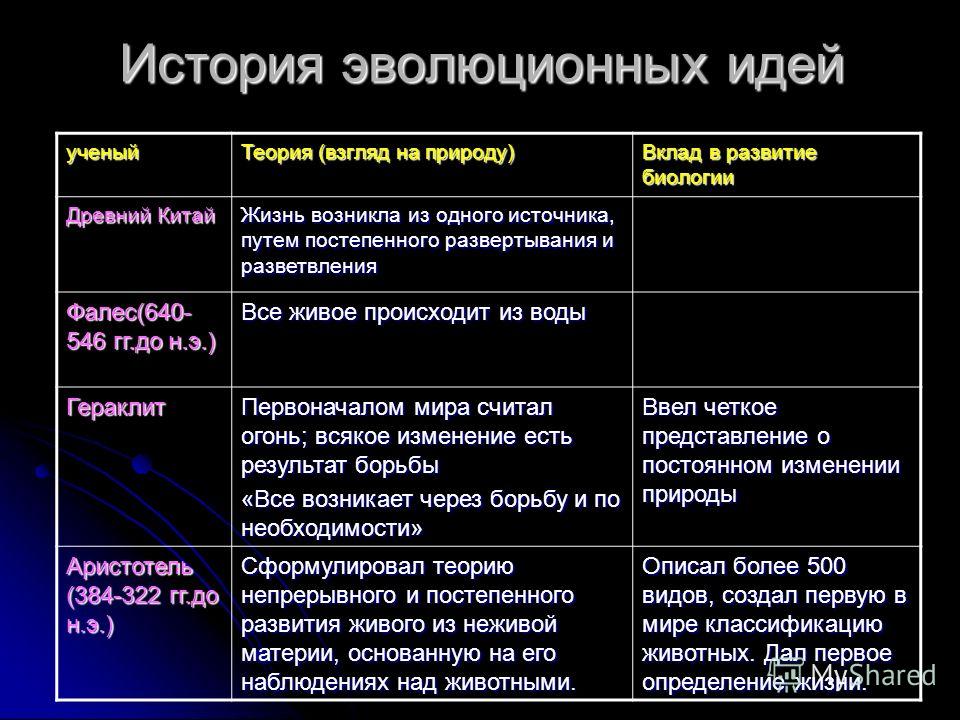 Это совершенно новая постановка вопроса о будущем человечества. Она требует нового мировоззренческого подхода, отвергающего как конфронтацию внутри социума, так и его взаимодействие с природой. Сейчас необходима совершенно новая социальная (точнее, социоприродная) теория цивилизационного процесса, и особенно для России, поскольку при обсуждении этих вопросов не раз выражалось сомнение в возможности перехода России на путь устойчивого развития. Но если мы не перейдем на путь устойчивого развития, то не только не впишемся в мировой процесс, но и окажемся на периферии цивилизационного развития. Нам надо идти вперед вместе со всей цивилизацией, реализуя не одиндва новых для России процесса (скажем, демократизацию и переход к рынку), а весь их комплекс, делая акцент на наиболее перспективные, способствующие переходу к устойчивому развитию.
Это совершенно новая постановка вопроса о будущем человечества. Она требует нового мировоззренческого подхода, отвергающего как конфронтацию внутри социума, так и его взаимодействие с природой. Сейчас необходима совершенно новая социальная (точнее, социоприродная) теория цивилизационного процесса, и особенно для России, поскольку при обсуждении этих вопросов не раз выражалось сомнение в возможности перехода России на путь устойчивого развития. Но если мы не перейдем на путь устойчивого развития, то не только не впишемся в мировой процесс, но и окажемся на периферии цивилизационного развития. Нам надо идти вперед вместе со всей цивилизацией, реализуя не одиндва новых для России процесса (скажем, демократизацию и переход к рынку), а весь их комплекс, делая акцент на наиболее перспективные, способствующие переходу к устойчивому развитию.
Переход на путь устойчивого развития, его последующая ноосферная ориентация не могут произойти стихийно. Стихийное развитие общества не только в России, но и в мире в целом, может привести лишь к катастрофе, и поэтому необходим переход к устойчивому развитию, который является управляемым (с помощью средств информатики) процессом в глобальном, государственном и ином масштабе. Нет нужды говорить, что во всем мире (а тем более в нашей стране) пока нет ни теории, ни даже признанной концепции управления переходом к устойчивому развитию, не развит (и даже не поставлен) вопрос об информационном аспекте такого перехода. К тому же нужно иметь в виду, что чисто социальный или, если угодно, социальноэкономический, т. е. несистемный подход в нашей стране, да и на Западе оказался гносеологической причиной неустойчивого развития. Вот почему появились попытки нового понимания развития с использованием естественнонаучных методов, например пассионарная теория этногенеза, развитая Л. Н. Гумилевым, которая поведение каждого человека и каждого этноса рассматривает как способ адаптации к своей географической и этнической среде [12 ].
Нет нужды говорить, что во всем мире (а тем более в нашей стране) пока нет ни теории, ни даже признанной концепции управления переходом к устойчивому развитию, не развит (и даже не поставлен) вопрос об информационном аспекте такого перехода. К тому же нужно иметь в виду, что чисто социальный или, если угодно, социальноэкономический, т. е. несистемный подход в нашей стране, да и на Западе оказался гносеологической причиной неустойчивого развития. Вот почему появились попытки нового понимания развития с использованием естественнонаучных методов, например пассионарная теория этногенеза, развитая Л. Н. Гумилевым, которая поведение каждого человека и каждого этноса рассматривает как способ адаптации к своей географической и этнической среде [12 ].
Методологический подход к пониманию перехода к устойчивому развитию как социоприродной эволюции развивается и рядом других исследователей, в том числе « и учеными Ноосферноэкологического института Российской академии управления и Академии ноосферы, создавшими оригинальную концепцию становления ноосферы и показавшими, что модель устойчивого развития должна изучать ноосферология [5].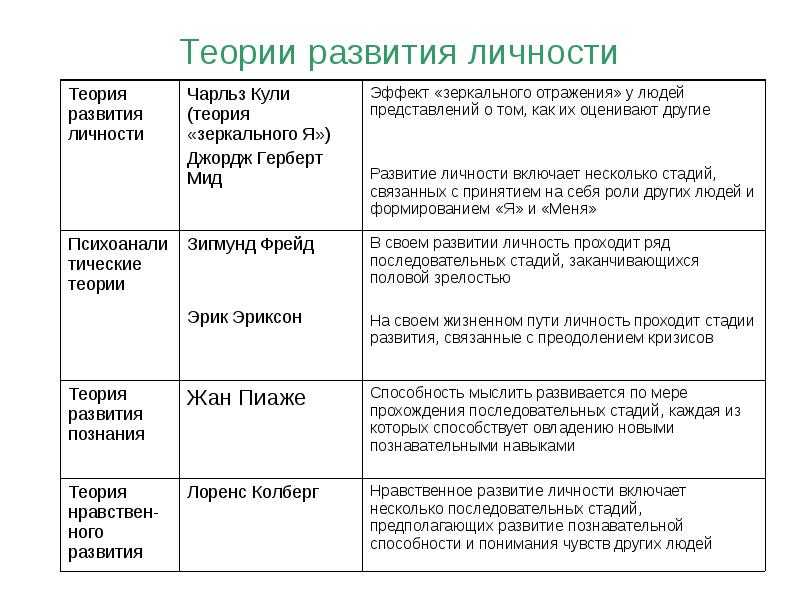
Безальтернативность модели устойчивого развития в планетарном масштабе детерминирует необходимость включения России в этот процесс и определяет возможности российского пути в ноосферу. Содержание процесса возрождения России характеризуется не возвратом к какому бы то ни было варианту прошлого, а переходом вместе с другими странами и регионами планеты к новой социоприродной модели развития и перспективами ноосферного выбора. И, конечно, наряду с общими тенденциями такого типа устойчивого социоэкоразвития, наша страна будет характеризоваться и своими специфическими чертами и тенденциями. Они определяются особенностями российской духовности и менталитета, истории и национальных традиций, пониманием нравственных императивов и экогуманистических ценностей, своеобразием процессов демократизации и перехода к рынку, обеспечением безъядерного мира, демилитаризации и конверсии, реализацией социальной справедливости и защищенности личности, оптимизацией властных структур и механизмов управления, евразийскими культурноэтническими и территориальноприродными реалиями и, конечно же, информатизацией, о чем в ходе полемики и борьбы за власть позабыли лица, ответственные за принятие решений.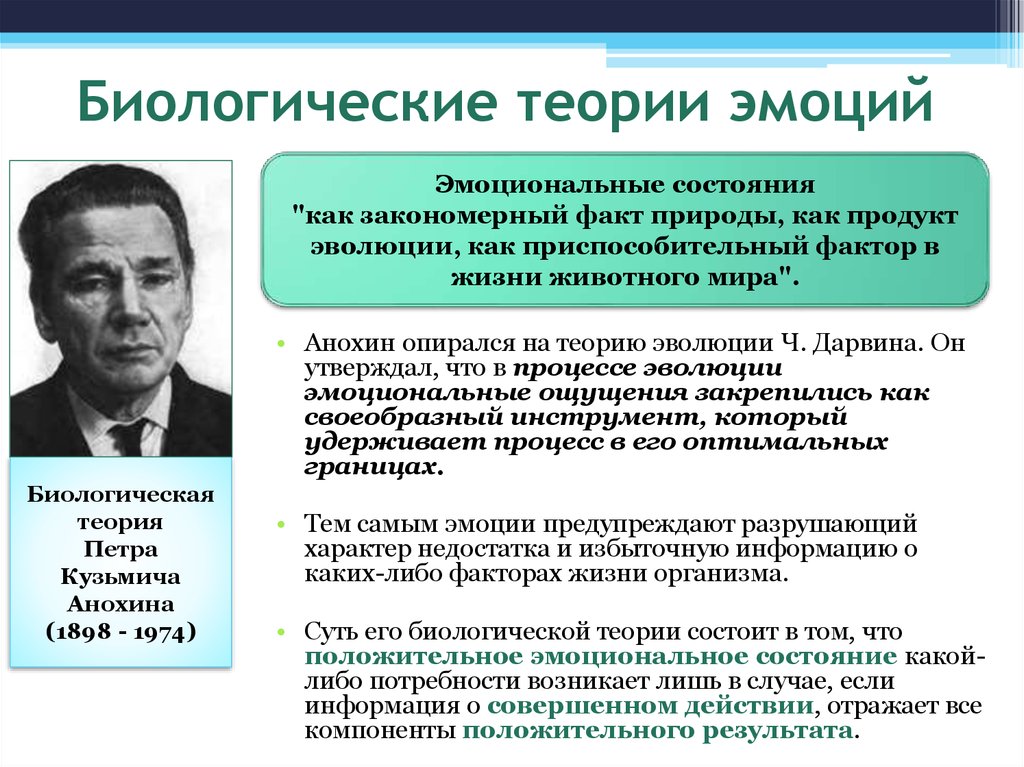
В отличие от западников, отрицающих особый путь развития России, и славянофилов, обращавших внимание лишь на национальную самобытность, мы вслед за В. С. Соловьевым видим национальную, в том числе и русскую идею в той роли (функции), которая возложена на ту или иную нацию в развитии всего человечества («вселенской жизни»). То есть, национальная идея как система взглядов есть мировоззрение, выражающее основные черты национального самосознания, взаимосвязь национальных и общецивилизационных интересов. Особый путь России не должен уводить ее с магистрали глобального перехода к устойчивому развитию.
Очевидно, что на современном этапе русская идея должна быть тесно связана не только (и не столько) с прошлым, но и предстоящим возрождением России и, кроме традиционных русских черт, содержать принципы, отражающие демократизацию, i национальное согласие, открытость и вхождение в мировой процесс, переход к устойчивому развитию в его высшем варианте ноосферной ориентации, объединение человечества на рациональногуманистических, нравственных, экологических началах и др.
В литературе имеется точка зрения, рассматривающая развитие по 400летнему циклу самообновления (русский этноритм): в X веке была завершена норманская перестройка, далее шла византийская «модель» самообновления, затем имел место татарский цикл и начиная с XVII века развертывался западный цикл (вестернизация), который сейчас завершается [13]. Должен был бы начаться новый цикл, который необходимо исследовать.
Его специфика для России Евразии связана со следующими особенностями. Начало нового цикла совпало с глобальной по своим масштабам Чернобыльской ядерноэкологической катастрофой, резким падением духовности и нравственности, крушением социалистических и коммунистических идей и перспектив, глобальной моделью неустойчивого развития и др. Что составит суть нового цикла и последует ли он в своей 400летней длительности, если уже через десятки лет разразится мировая экокатастрофа? Сменится ли вестернизация тенденцией остернизации? Сольется ли в единый суперэтнос (согласно пассионарной теории этногенеза) все человечество, переходя к устойчивому развитию? Ведь появление гиперэтноса единого человечества на пути к устойчивому развитию предполагает переход к единой (общечеловеческой) системе ценностей, которая Л. Н. Гумилевым подвергается сомнению и по сути ведет не к выработке консенсусных решений, а к доминированию гошодствующих систем ценностей нового суперэтноса.
Н. Гумилевым подвергается сомнению и по сути ведет не к выработке консенсусных решений, а к доминированию гошодствующих систем ценностей нового суперэтноса.
На эти вопросы необходимо будет ответить в ходе разработки социоприродной теории устойчивого развития и вариантов движения России по данному пути. Совершенно ясно, что создание такой теории потребует не просто дальнейшего развития социальногуманитарных исследований и особенно акцента на проблемах прогнозирования и управления, но и включения естественных, технических и других подразделений науки, а также иных форм сознания и интеллектуальной деятельности, в том числе религии и искусства, в решение проблем единения й сохранения человечества. Речь идет о формировании принципиально нового мировоззрения ноосферного, в которое будет включено все лучшее, что создано человечеством, в том числе и та часть современного научного мировоззрения, которая ориентирована на выживание цивилизации и ее последующее устойчивое развитие. Новое ноосферногуманистическое мировоззрение должно в полной мере осознать недостаточность многих прежних фундаментальных идей прежнего «научного» мировоззрения, отказаться от сциентизма и техницизма, господства человека над природой, идеи чисто социального и даже научнотехнического (технологического) прогресса, содействовавших созданию общества потребления и сверхпотребления.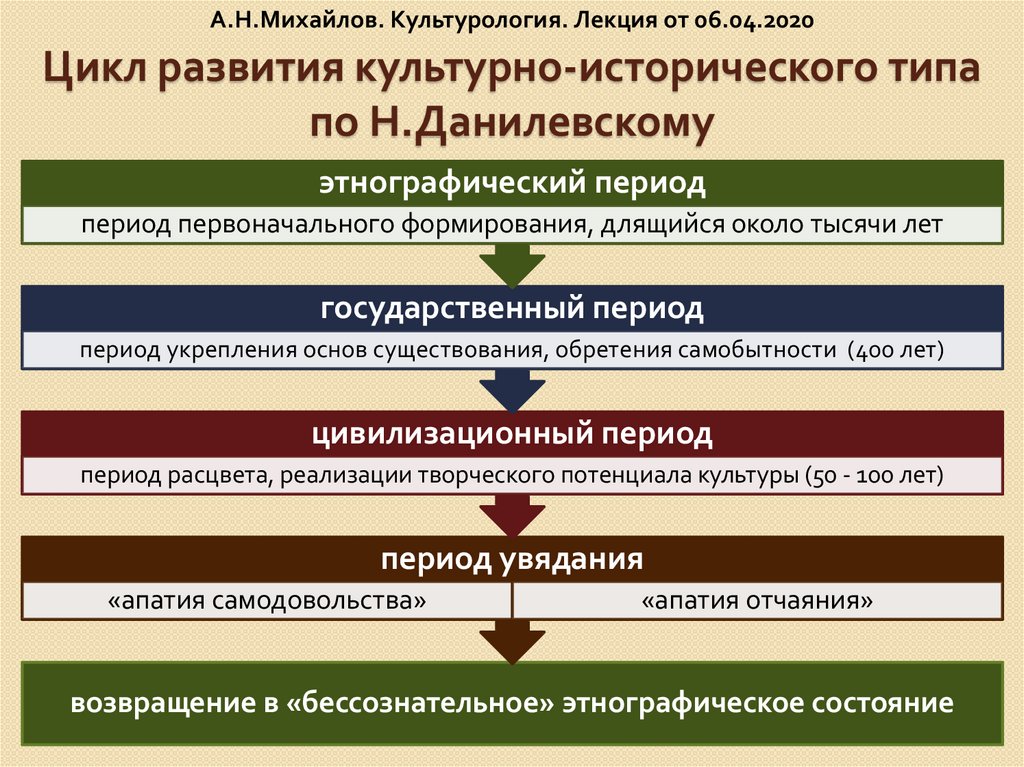 Отказ от многих традиционных ценностей, в том числе и от ценностей потребительскотехнологической цивилизации, до сих пор считающихся общечеловеческими, должен привести к формированию новых поколений людей ноосферной ориентации, сознательно и добровольно участвующих в созидании нового типа цивилизации (ноосферноинформационной), способной реализовать модель устойчивого развития.
Отказ от многих традиционных ценностей, в том числе и от ценностей потребительскотехнологической цивилизации, до сих пор считающихся общечеловеческими, должен привести к формированию новых поколений людей ноосферной ориентации, сознательно и добровольно участвующих в созидании нового типа цивилизации (ноосферноинформационной), способной реализовать модель устойчивого развития.
И уже нынешнее поколение, если оно согласно с новым цивилизационным выбором, должно коренным образом изменить свое сознание и активно содействовать процессу перехода на путь управляемого ноосферогенеза оптимальный путь выживания человечества. Важнейшую роль в этом призван сыграть процесс информатизации общества, который, к сожалению, не нашел должного отражения в документах саммита «РИО92», а между тем путь устойчивого развития цивилизации и ее вхождение в информационную стадию единый процесс ноосферогенеза [5].
Информатизация общества устойчивый путь в ноосферу
Конец второго тысячелетия характеризуется углублением глобального кризиса цивилизации, могущего перейти в ядерную и экологическую катастрофу в ближайшие годы и десятилетия.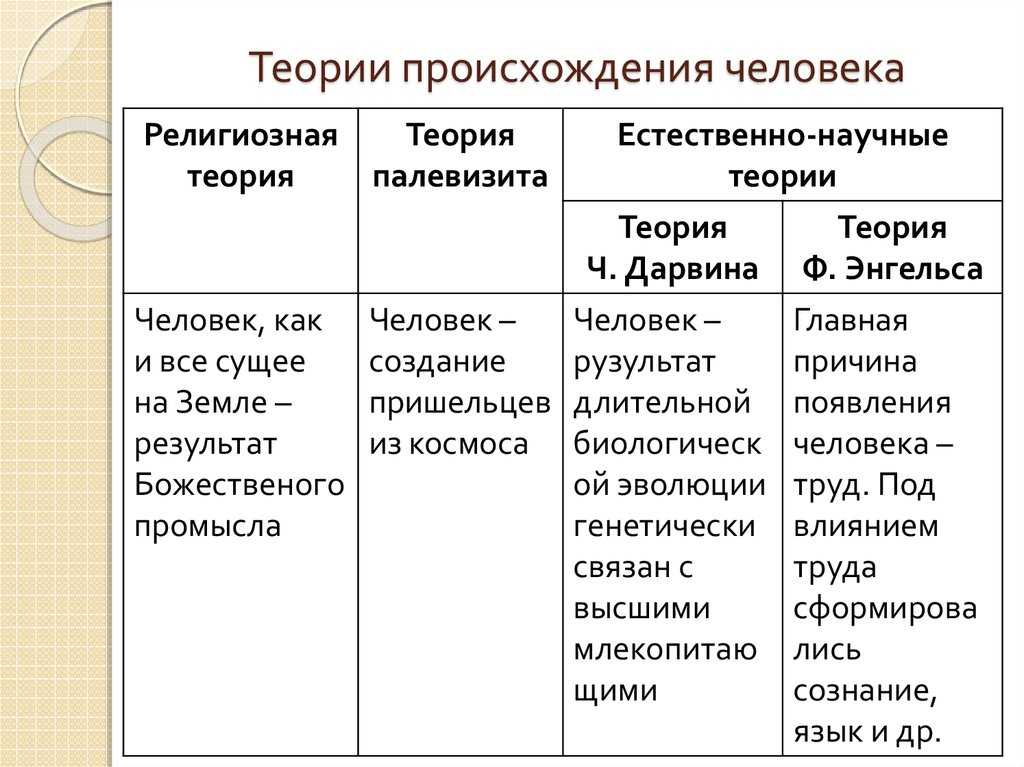 Сумеет ли человечество выжить и перейти к безопасному, устойчивому развитию? Ответа на этот вопрос, несмотря на разнообразие мнений, не существует, и вероятность выживания пока меньше вероятности глобального омницида. Движение по пути устойчивого развития, возможно, и окажется тем реальным направлением, о котором мечтали мыслители, которых мы именуем основателями концепции ноосферы.
Сумеет ли человечество выжить и перейти к безопасному, устойчивому развитию? Ответа на этот вопрос, несмотря на разнообразие мнений, не существует, и вероятность выживания пока меньше вероятности глобального омницида. Движение по пути устойчивого развития, возможно, и окажется тем реальным направлением, о котором мечтали мыслители, которых мы именуем основателями концепции ноосферы.
Дальнейшее совместное развитие всех стран и народов на пути к выживанию должна освещать теория, основу которой может составлять концепция ноосферы (сферы разума), идея которой была высказана французскими мыслителями Э. Леруа и П. Тейяром де Шарденом, а также академиком В. И. Вернадским. К сожалению, эта идея до недавнего времени не была связана с процессом информатизации общества и некоторыми авторами даже противопоставлялась идее становления информационного общества (ИО). Между тем, выживание и устойчивое развитие общества невозможно без информатизации и становления информационной цивилизации в глобальных и даже космических масштабах. Ноосферногуманистическое направление информатизации выступает важнейшим гарантом движения общества по пути устойчивого развития.
Ноосферногуманистическое направление информатизации выступает важнейшим гарантом движения общества по пути устойчивого развития.
Глубинная сущность информатизации общества заключается в интеллектуальногуманистической трансформации всей жизнедеятельности человека и общества на основе все более полной генерации и использования информации как главного ресурса развития с помощью средств информатики, новых информационных технологий в целях созидания ИО, дальнейшего сбалансированного социоэкоразвития и становления сферы разума. Именно с помощью информатизации общества может измениться соотношение сознания и бытия. До сих пор сознание только отражало бытие с отставанием, не предвидя даже возможности глобального кризиса и катастрофы. Для того» чтобы человечество выжило и реализовало модель устойчивого развития, его формирующееся коллективное (интегральное) сознание должно опережать бытие, предвидеть последствия преобразовательной деятельности и направлять ее по ноосферной траектории развития.
На стадии формирования глобального ИО появится новая закономерность развития опережение сознанием бытия, что было нереально в условиях индустриальной цивилизации, так как для этого необходимо существенное повышение как сознания каждого в отдельности человека, так и совокупного интеллекта человечества, не сводящегося к простой сумме интеллектов индивидов.
Конечно, было бы упрощением считать, что интеллектуализация как закономерность социального развития, взятая за основу в нетрадиционной концепции становления ноосферы, тождественна процессу информатизации. Существуют и иные механизмы и факторы повышения уровня индивидуального и общественного сознания, другие виды духовного творчества. Однако с помощью средств информатики, особенно базирующихся на системах искусственного интеллекта, совокупное общественное сознание не просто повышается, а приобретает новое качество, делающее возможным выживание человеческого рода. Происходит глубокая трансформация интеллектуального потенциала социосферы, что может привести к превращению ее в сферу разума. Вот почему существенной чертой постиндустриального общества является не только его экологобезопасное состояние, но и информационный потенциал, безопасность и устойчивость информатизации.
Вот почему существенной чертой постиндустриального общества является не только его экологобезопасное состояние, но и информационный потенциал, безопасность и устойчивость информатизации.
Качественно новый уровень интегрального интеллекта цивилизации, формируемый в результате созидания ИО, необходимость его общей гуманистической t ориентации свидетельствуют о том, что данная ступень социального развития оказывается не только постиндустриальной, но и ноосферной. Повсеместное использование средств информатики и информационного моделирования всех процессов, которые подвергаются изменениям, выбор оптимальных вариантов и путей деятельности окажутся своего рода информационным императивом в ИО. Это должны быть тщательно продуманные «информатизированные» трансформации в отличие от проводимых сейчас, развивающихся не по заранее обоснованному плану, а методом проб и ошибок, скороспелых и малопродуманных решений, в которых, как правило, не учитываются даже очевидные для многих негативные последствия и не просматриваются (в том числе и в компьютерных вариантах) альтернативы проводимым реформам.
Появление ИО два десятилетия назад не предсказывалось мировой наукой, а нашим обществоведением вплоть до недавнего времени просто отрицалось. Основное внимание акцентировалось на социальноэкономических и вещественноэнергетических факторах прогресса, да и тот виделся лишь как смена общественноэкономических формаций, где на первый план выдвигались классовые факторы и насильственные перестройки социальные революции.
Поскольку внимание ученых было отвлечено от общечеловеческих тенденций и ценностей, фундаментальные закономерности социального развития оставались на периферии научного поиска либо игнорировались. Только в последнее время стали исследоваться тенденции, имеющие общецивилизационное значение. К ним могут быть отнесены и закономерности перехода к устойчивому развитию и становлению ноосферы, идущие не по формационному, а по более фундаментальному ряду развития. Он включает в себя следующие ступени: палеолитическое общество (с присваивающим хозяйством) аграрное (начало перехода к производящей экономике) индустриальное информационное экологическое космическое общество.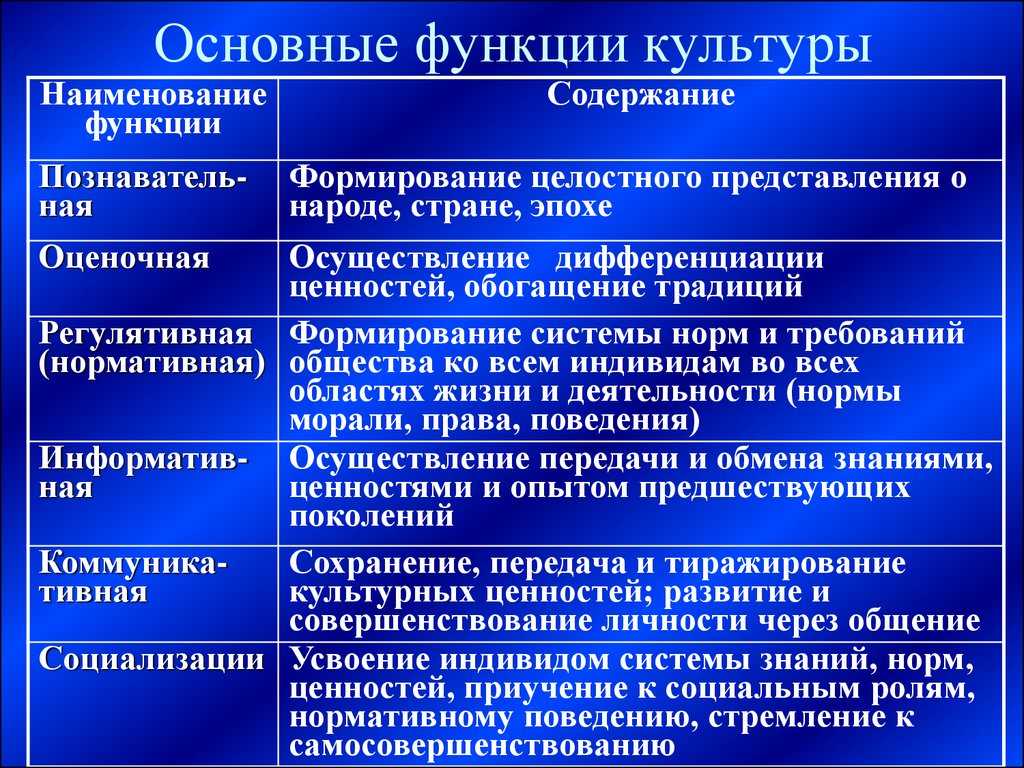 Три последние ступени характеризуют ноосферную стадию цивилизационного процесса [4,5 ].
Три последние ступени характеризуют ноосферную стадию цивилизационного процесса [4,5 ].
Становление ноосферы должно выступать как средство решения всех глобальных проблем цивилизации и выполнять следующие основные задачи: гуманизация общецивилизационного процесса развития, формирование новых социальноэкономических и культурнонравственных императивов выживания и рациональнокоэволюционных потребностей и ценностей, реализация ноосферных сдвигов в самой природе человека; формирование качественно нового интегрального интеллекта всего человечества на пути его информатизации, способного предвидеть будущее и реализовать глобальное управление социоразвитием по созиданию сферы разума; устранение угрозы термоядерной и экологической катастроф и кризисов и осуществление перехода к устойчивому, безопасному во всех отношениях развитию; развертывание все более широкого освоения космоса и использование его ресурсов для блага человека на Земле, экологизированная индустриализация внеземных пространств в целях создания, наряду с геоноосферой, сферы разума в космосе [5 ].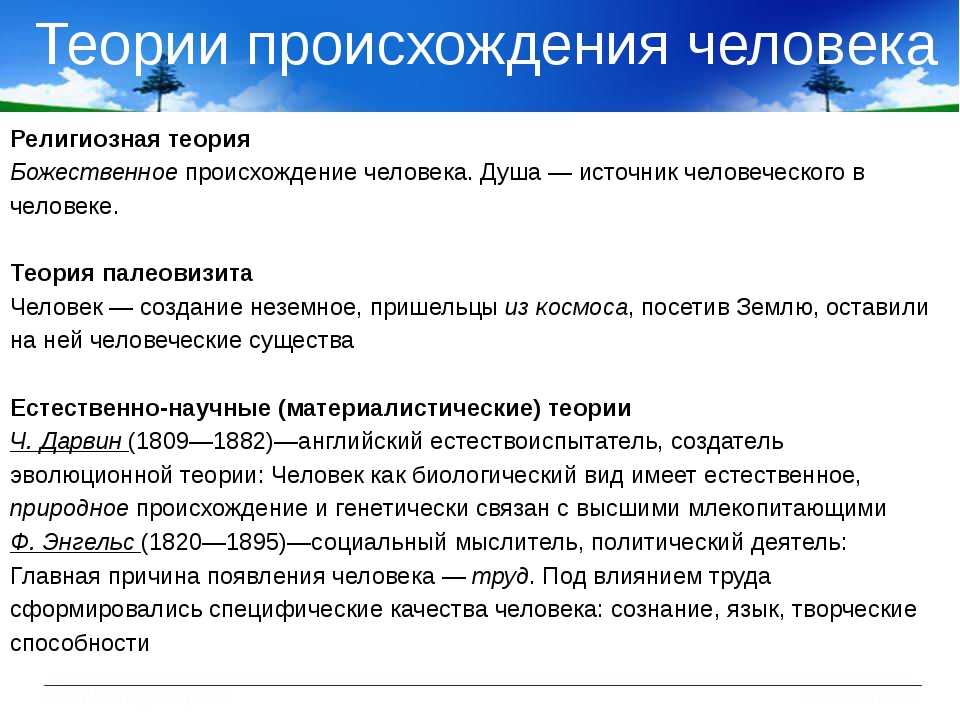
Решение данных задач устойчивого ноосферогенеза может произойти на путях свершения гуманитарной, информационнокомпьютерной, экологической и космических революций, которые в отличие от предшествующих социальных революций будут носить не социальноклассовый, а общецивилизационный и даже социоприродный характер. В своей системности все эти трансформации составят ноосферную революцию (ноосферогенез), реализующую в глобальном масштабе новую модель цивилизационного процесса.
ИО нельзя полностью отождествлять с ноосферой, ИО ее начальная, первая ступень (инфоноосфера). В ходе созидания ИО невозможно решить все важнейшие проблемы социального развития, например экологическую проблему, хотя и закладываются информационные основы решения многих глобальных проблем. Здесь в основном формируются информационные механизмы выживания и качественных трансформаций: создание инфосферы и ее безопасное развитие, выход из информационного кризиса, возможность интенсивной генерации научной и иной социальной информации, реализация свободного доступа каждого человека к информации, возможность активного участия в принятии социальных решений на базе не мажоритарной, а информационноконсенсусной демократии.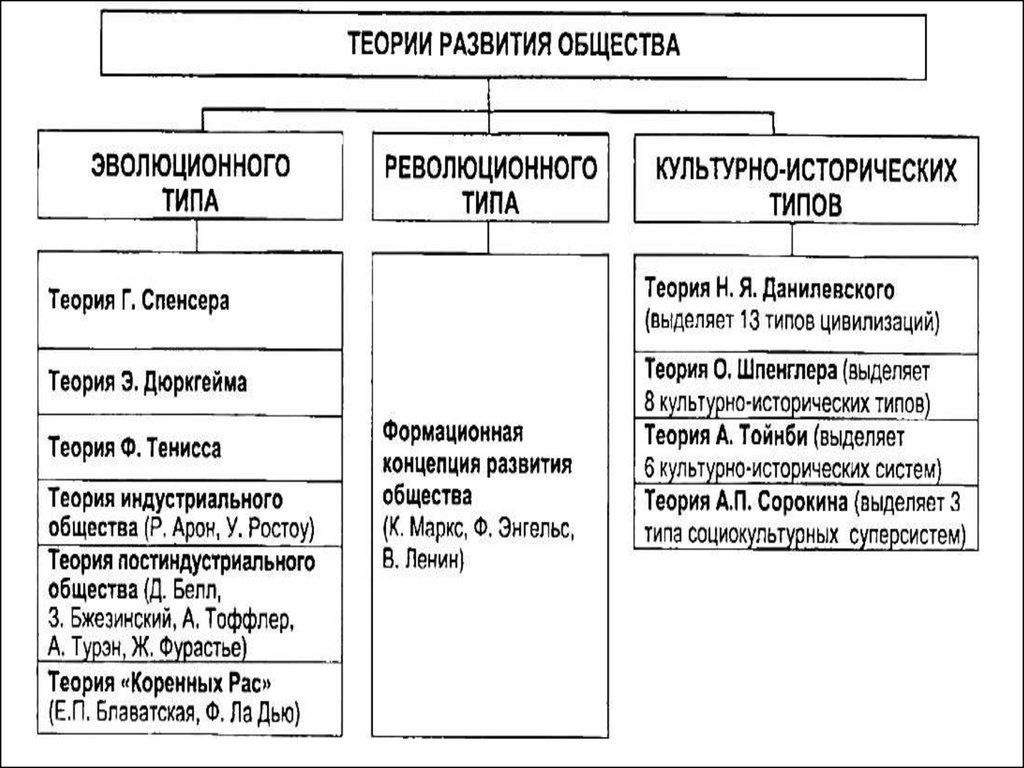 Что касается иных характеристик социального развития, то они, конечно, также изменяются, но информационные параметры оказываются доминирующими, приоритетными.
Что касается иных характеристик социального развития, то они, конечно, также изменяются, но информационные параметры оказываются доминирующими, приоритетными.
Условием и предпосылкой возникновения ИО является полный отход цивилизации от военных и иных форм конфронтации и насилия. Важно обеспечить информационную безопасность и устойчивость развития цивилизации, которая не сводится к компьютерной безопасности, подобно тому как процесс информатизации не сводится к компьютеризации. Информационная устойчивость и безопасность представляет собой свойство социума гарантировать гармоничное развитие информационных процессов, которое бы создавало условия выживания и дальнейшего поступательного сбалансированного движения, придавало процессу информатизации ноосферногуманистическую ориентацию.
Под ноосферногуманистической ориентацией информатизации как устойчивого процесса (закономерности) понимается не только ее направленность на развитие человека и содействие антропоноосферным трансформациям [5 ].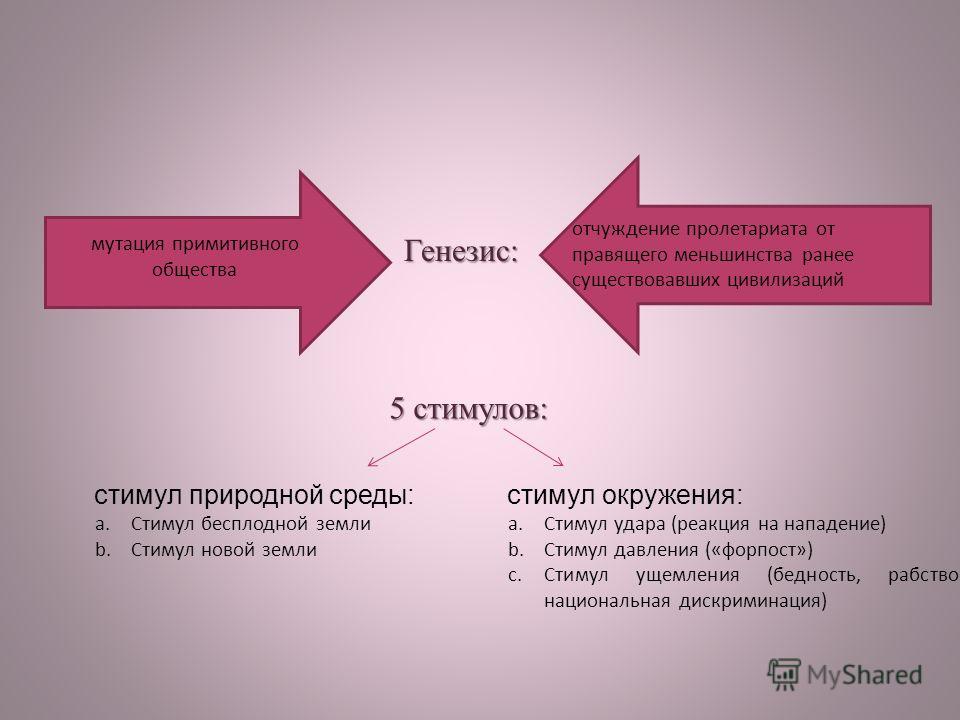 Это также и обеспечение условий для развития всего человечества, его выживания, без чего человек не может реализоваться как личность. Ведь создание ИО, которому суждено погибнуть от экологической или космической катастрофы, вряд ли может служить целью процесса информатизации.
Это также и обеспечение условий для развития всего человечества, его выживания, без чего человек не может реализоваться как личность. Ведь создание ИО, которому суждено погибнуть от экологической или космической катастрофы, вряд ли может служить целью процесса информатизации.
Информационные и неинформационные компоненты ИО функционируют так, что первые в существенной степени детерминируют и перестраивают вторые. В этом заключается смысл наименования информационное общество, иначе оно называлось бы подругому. На стадии ИО информационная наука, техника и технология взаимосвязаны столь тесно, что речь идет уже не просто о связи научнотехнического и социального развития, а о едином процессе социотехнологического устойчивого развития в системе коэволюции «общество информатика». Появляется своего рода информационнотехнологический детерминизм развития, где информационные факторы играют приоритетноопределяющую роль, перестраивая все остальные. Это повлияет на рынок, сделав его вместо вещественноэнергетического информационным.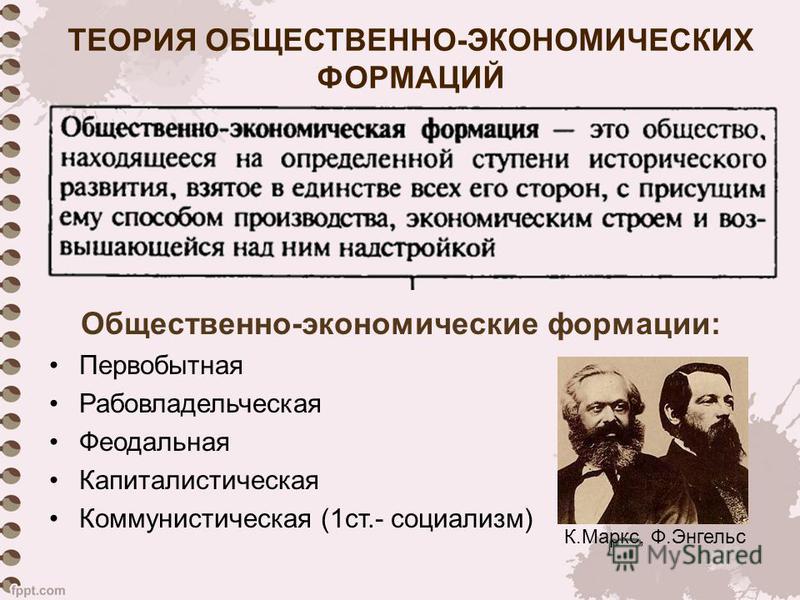 Может произойти замена обращения денег обращением информации о них (банковские карточки), т. е. информационная природа денег получит свое адекватное выражение [7]. Аналогичные информационные трансформации ждут и демократический процесс.
Может произойти замена обращения денег обращением информации о них (банковские карточки), т. е. информационная природа денег получит свое адекватное выражение [7]. Аналогичные информационные трансформации ждут и демократический процесс.
Этот важный методологический вывод применим как для обществоведения, которое до недавнего времени лишь критиковало западные «технологические фальсификации» общественного процесса, так и для информационной науки и технологии. Открывается возможность для более тесного соединения гуманитарных ограслей науки и информатики, проявляющегося в различных формах: гуманизация информатики, появление социально ориентированной информационной технологии, информатизация социальногуманитарного знания. На перекрестке взаимодействия социального знания и информатики возникает и социальная информатика как одна из основополагающих научных дисциплин и областей творческого поиска, входящих в ноосферологический комплекс знания [4 ].
В ходе созидания ИО, особенно по пути экологической информатизации, будет продвигаться решение проблем окружающей среды и природопользования.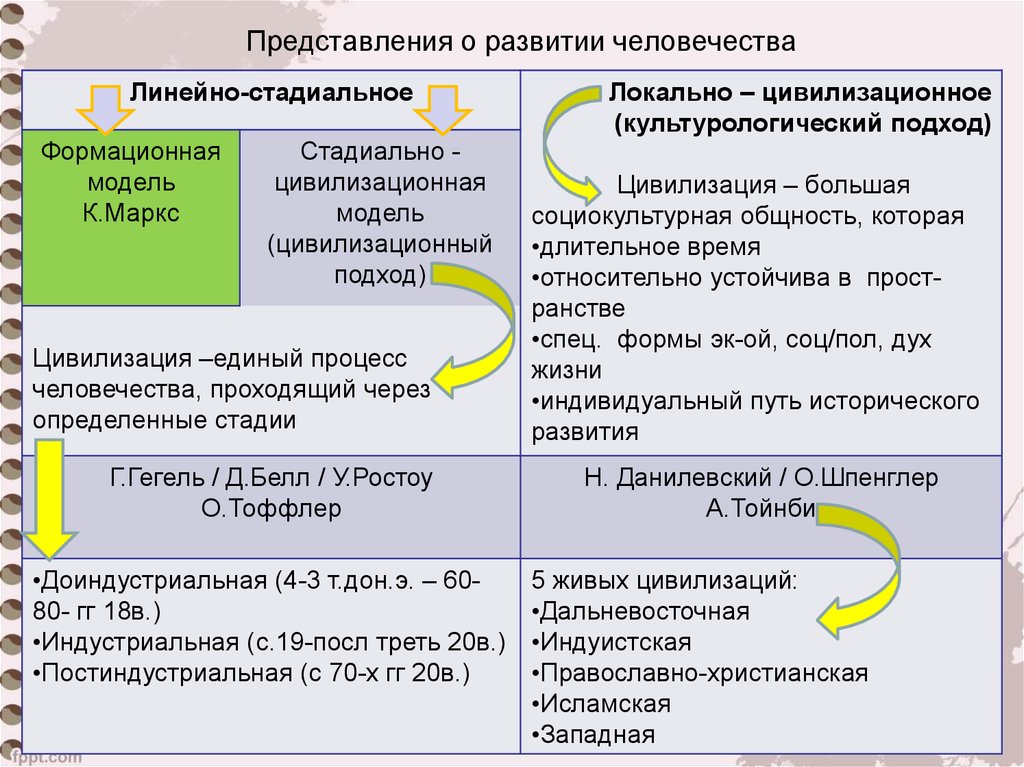 Однако на этом этапе будут устранены лишь очевидная бесхозяйственность, наиболее зримые негативы антропогенной деятельности. Глобальный же переход на интенсивнокоэволюционный (ноосферный, соответствующий модели устойчивого развития) способ природопользования, преимущественно информационную стратегию взаимодействия общества и природы, должен произойти на ступени эконоосферы (экологической цивилизации), которая по своей сути окажется информационноэкологическим обществсм [14]. На этой ступени создаются условия для устойчивого существования и дальнейшего развития ИО. Процесс же информатизации со становлением ИО не прекращается, а развивается далее, причем он все больше ориентируется на решение ноосферноэкологических проблем. Приоритетное место, во всяком случае по сравнению с нынешним этапом, на котором основное внимание уделяется социальной (в узком смысле), производственной и управленческой сферам, займет экологическая информатизация. За эконоосферой следует космическая ступень космоноосфера, под которой, понимается такое состояние общества, материальной основой которого станут автотрофный (внебиосферный) путь развития, широкое развитие экологизированной индустрии за пределами планеты и интенсивноадаптивных технологий в агросфере на планете.
Однако на этом этапе будут устранены лишь очевидная бесхозяйственность, наиболее зримые негативы антропогенной деятельности. Глобальный же переход на интенсивнокоэволюционный (ноосферный, соответствующий модели устойчивого развития) способ природопользования, преимущественно информационную стратегию взаимодействия общества и природы, должен произойти на ступени эконоосферы (экологической цивилизации), которая по своей сути окажется информационноэкологическим обществсм [14]. На этой ступени создаются условия для устойчивого существования и дальнейшего развития ИО. Процесс же информатизации со становлением ИО не прекращается, а развивается далее, причем он все больше ориентируется на решение ноосферноэкологических проблем. Приоритетное место, во всяком случае по сравнению с нынешним этапом, на котором основное внимание уделяется социальной (в узком смысле), производственной и управленческой сферам, займет экологическая информатизация. За эконоосферой следует космическая ступень космоноосфера, под которой, понимается такое состояние общества, материальной основой которого станут автотрофный (внебиосферный) путь развития, широкое развитие экологизированной индустрии за пределами планеты и интенсивноадаптивных технологий в агросфере на планете.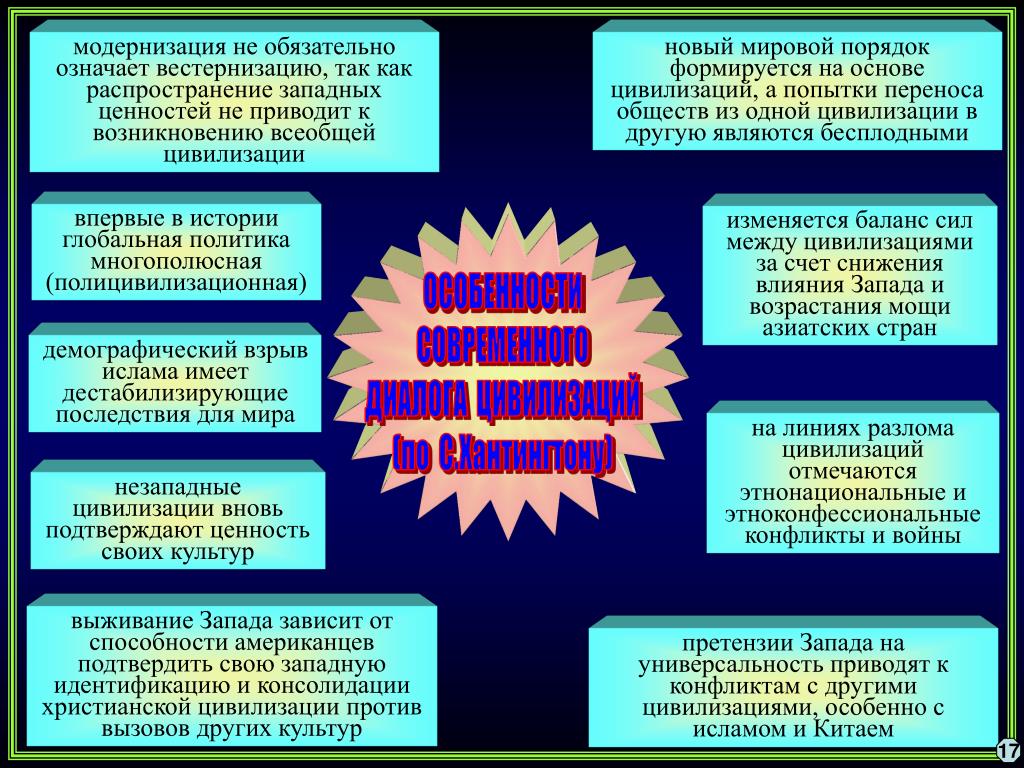 Откроется качественно новый способ решения проблем экологии и экономики, поскольку, в принципе, их невозможно решить, оставаясь в земной системе «координат». Приоритетное место займут проблемы «космической информатизации».
Откроется качественно новый способ решения проблем экологии и экономики, поскольку, в принципе, их невозможно решить, оставаясь в земной системе «координат». Приоритетное место займут проблемы «космической информатизации».
Важно подчеркнуть, что информатизация не заканчивается становлением ИО и не сводится к этому процессу. На этапе инфоноосферы процесс становления ИО во многом совпадает с информатизацией общества. Однако информатизация развертывается и далее, решая задачи дальнейшего повышения устойчивости цивилизации, созидания эконоосферы, космоноосферы, астроноосферы и др. С этих позиций информатизация общества оказывается более фундаментальной закономерностью, чем становление ИО, ибо она является теперь закономерностью перехода к устойчивому развитию ноосферной ориентации.
Казалось бы, рассматривая следующие за ИО ступени ноосферы, мы отходим от приоритета информационных параметров и характеристик социального развития. Это было бы проявлением несистемного подхода. Смысл всех этапов реализации модели непрерывного развития и созидания сферы разума в том и заключается, что, появившись на ступени ИО,.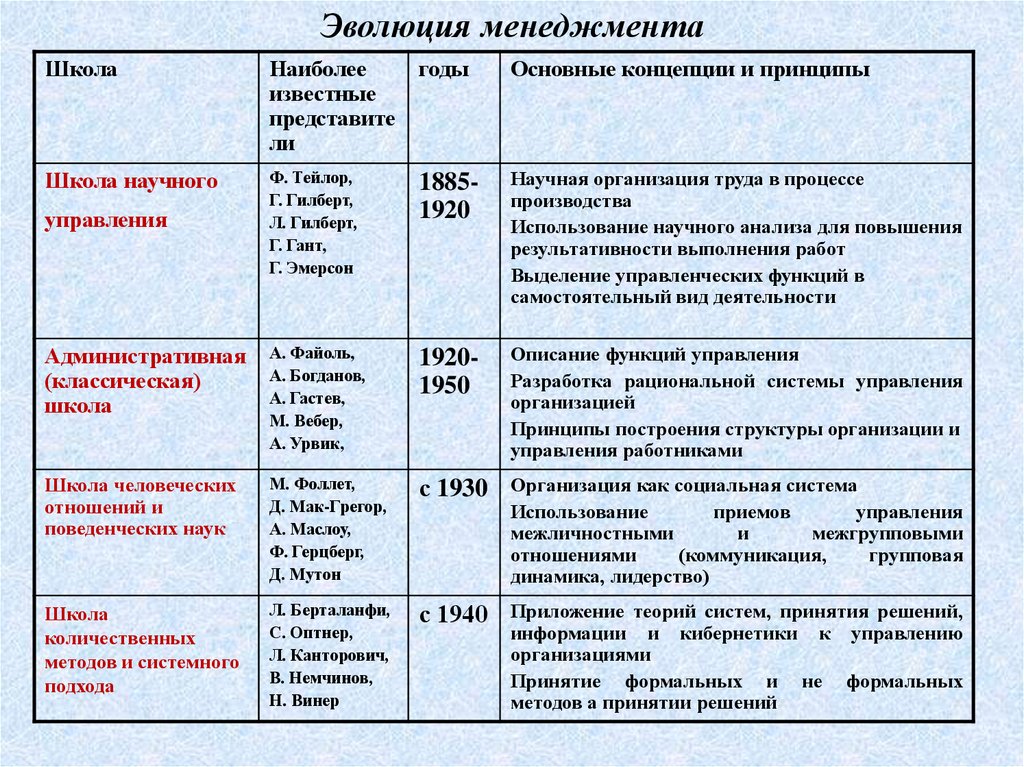 приоритет информационных характеристик по отношению к вещественноэнергетическим не исчезает. Более того, в ходе всех ноосферных трансформаций информационное содержание сферы разума увеличивается. На этапе экологического общества это необходимо для обеспечения устойчивости сформированного ранее ИО, формирования информационноемкой стратегии природопользования, экологической защиты ноосферного процесса и повышения его устойчивости. Созидание космоноосферы и последующие этапы преследуют цель повышения устойчивости развития сферы разума как информационноэкологического общества в масштабах Вселенной.
приоритет информационных характеристик по отношению к вещественноэнергетическим не исчезает. Более того, в ходе всех ноосферных трансформаций информационное содержание сферы разума увеличивается. На этапе экологического общества это необходимо для обеспечения устойчивости сформированного ранее ИО, формирования информационноемкой стратегии природопользования, экологической защиты ноосферного процесса и повышения его устойчивости. Созидание космоноосферы и последующие этапы преследуют цель повышения устойчивости развития сферы разума как информационноэкологического общества в масштабах Вселенной.
В принципе ноосферогенез это непрерывно длящийся социальнодеятельностный процесс, охватывающий материальную и духовную составляющие цивилизационного развития. В результате ноосферных трансформаций социальной деятельности происходит смена приоритетов: на этапе инфоноосферы на приоритетное место вместо вещества и энергии выдвигается информация, на этапе эконоосферы к ней подключаются солнечная радиация и воспроизводимые природные и социальные ресурсы, на этапе космоноосферы космические ресурсы и все внеземные пространства и объекты.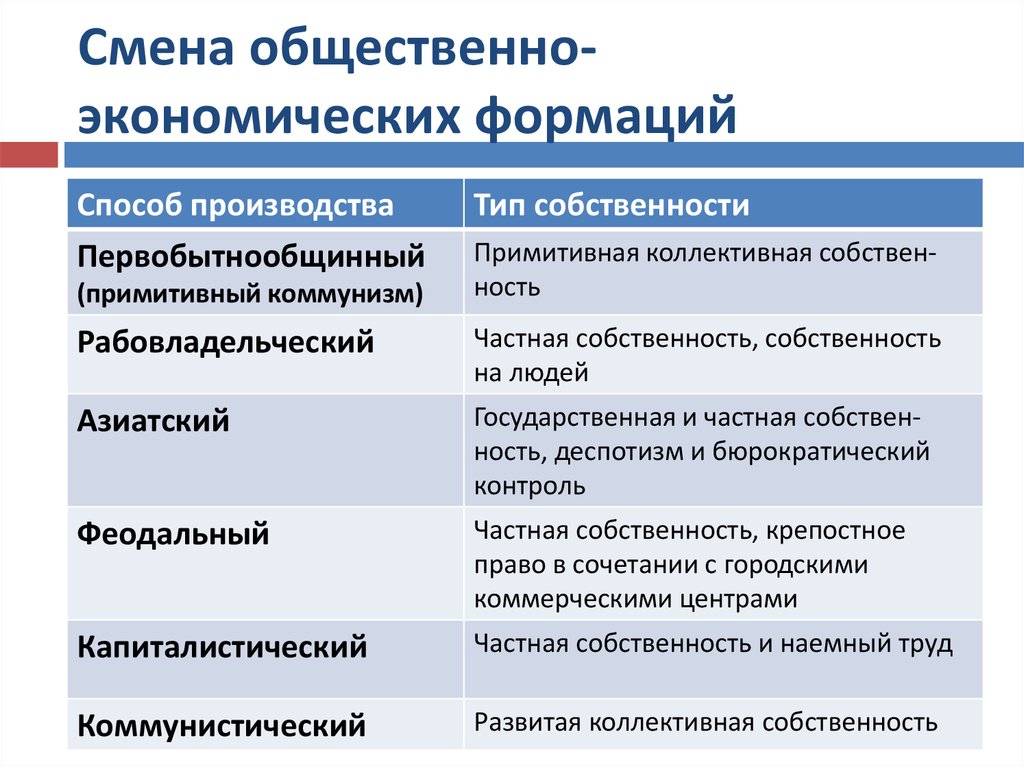 Но, может быть, иной разум и внеземной социум, если они существуют, и способны к межцивилизационному контакту [15]. На всех трех этапах создаются свои специфические средства и технологии: новейшие социальные технологии, средства информатики и информационные технологии, интенсивнокоэволюционные механизмы, мало и безотходные технологии, новые поколения космических средств и высшие космические технологии. Ноосферогенез, таким образом, выступает как системное движение повышения степени устойчивости, включая в себя гуманизацию, переход к цивилизованному рынку, интеллектуализацию, демократизацию, информатизацию, экологизацию, космизацию и все другие позитивные, способствующие выживанию человека и общества тенденции стабильного развития человеческого рода.
Но, может быть, иной разум и внеземной социум, если они существуют, и способны к межцивилизационному контакту [15]. На всех трех этапах создаются свои специфические средства и технологии: новейшие социальные технологии, средства информатики и информационные технологии, интенсивнокоэволюционные механизмы, мало и безотходные технологии, новые поколения космических средств и высшие космические технологии. Ноосферогенез, таким образом, выступает как системное движение повышения степени устойчивости, включая в себя гуманизацию, переход к цивилизованному рынку, интеллектуализацию, демократизацию, информатизацию, экологизацию, космизацию и все другие позитивные, способствующие выживанию человека и общества тенденции стабильного развития человеческого рода.
В совокупности всех своих черт ноосфера мыслится не просто как стихийно формируемая область будущей деятельности человечества, а именно как то пространство разумной деятельности, которое может появиться в результате реализации оптимальной стратегии выживания и дальнейшего устойчивого развития цивилизации, где принципы гуманизма, соединенного с нравственным интеллектом, займут приоритетное место.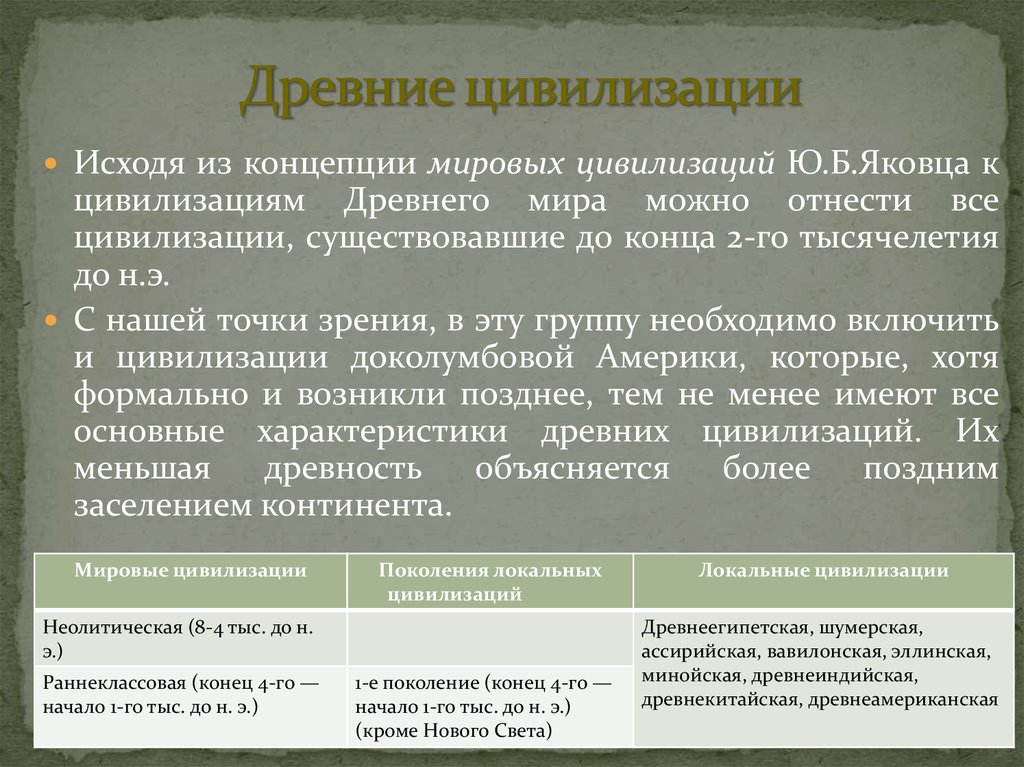 В чем будет проявляться эта оптимальность, предстоит еще выяснить с помощью компьютерного моделирования, ибо это чрезвычайно существенно для формирования и проведения целенаправленного и глобального управления ноосферогенезом. Важно, чтобы появилось качественно новое состояние общества (ноосферная цивилизация), которое на базе гуманизированного интегрального интеллекта и средств информатики перешло бы на интенсивнокоэволюционный способ взаимодействия с природой, гарантирующий в наиболее полной степени выживание и последующее безопасное и сбалансированное во всех отношениях развитие человечества.
В чем будет проявляться эта оптимальность, предстоит еще выяснить с помощью компьютерного моделирования, ибо это чрезвычайно существенно для формирования и проведения целенаправленного и глобального управления ноосферогенезом. Важно, чтобы появилось качественно новое состояние общества (ноосферная цивилизация), которое на базе гуманизированного интегрального интеллекта и средств информатики перешло бы на интенсивнокоэволюционный способ взаимодействия с природой, гарантирующий в наиболее полной степени выживание и последующее безопасное и сбалансированное во всех отношениях развитие человечества.
Ноосфера как наиболее приемлемое для всего человечества будущее может выступать как сверхцель, которая станет ориентировать переход на модель устойчивого поступательного движения по тому пути, который до недавнего времени ассоциировался с социальным прогрессом. «Степень ноосферизации» окажется вместе с тем и критерием выживания человеческого рода, поскольку реальная траектория цивилизационного развития даже в его «устойчивом» варианте скорее всего будет отличаться от теоретически оптимальной, предсказываемой ноосферными исследованиями.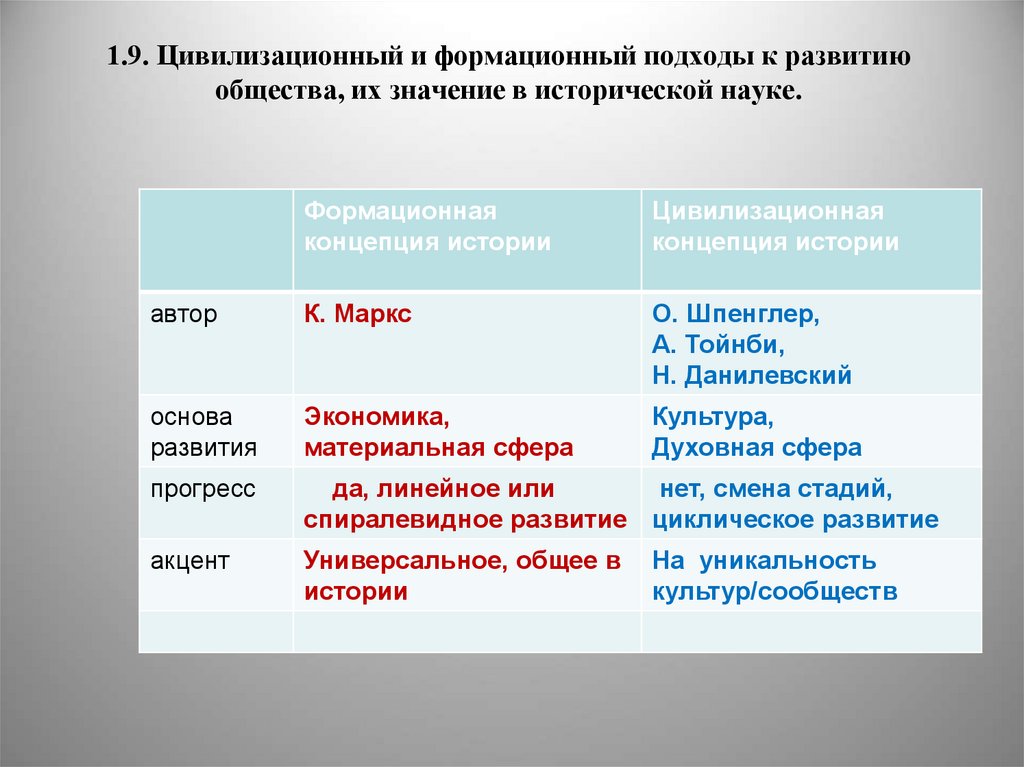
Для того, чтобы выжить, многомиллиардному населению планеты надо действовать как одному разумному организму, предвидеть свои действия, управлять своим развитием. Это возможно только в случае формирования единого интегрального интеллекта человечества, способного реализовать выживание и дальнейшее устойчивое развитие цивилизации. Устойчивое развитие цивилизации после РиодеЖанейро мыслится как непрерывно длящееся социоприродное развитие, дающее возможность развития как нынешнего, так и последующих поколений. И речь, пожалуй, должна идти именно о последующих поколениях, если нынешнее сделает крутой поворот в сторону информатизации и становления информационной цивилизации ноосферной ориентации.
Без выдвижения на приоритетное место нравственного разума, принципов нового гуманизма, без объединения интеллектуальных усилий человечества по глобальному управлению экоразвитием с помощью средств информатики невозможно выживание и становление среды разума. Это совершенно новые приоритеты в самом общецивилизационном процессе, отказ от идеалов потребительского общества и выдвижение совершенно новой модели общества и человека будущего жителя ноосферы, о котором мечтали А.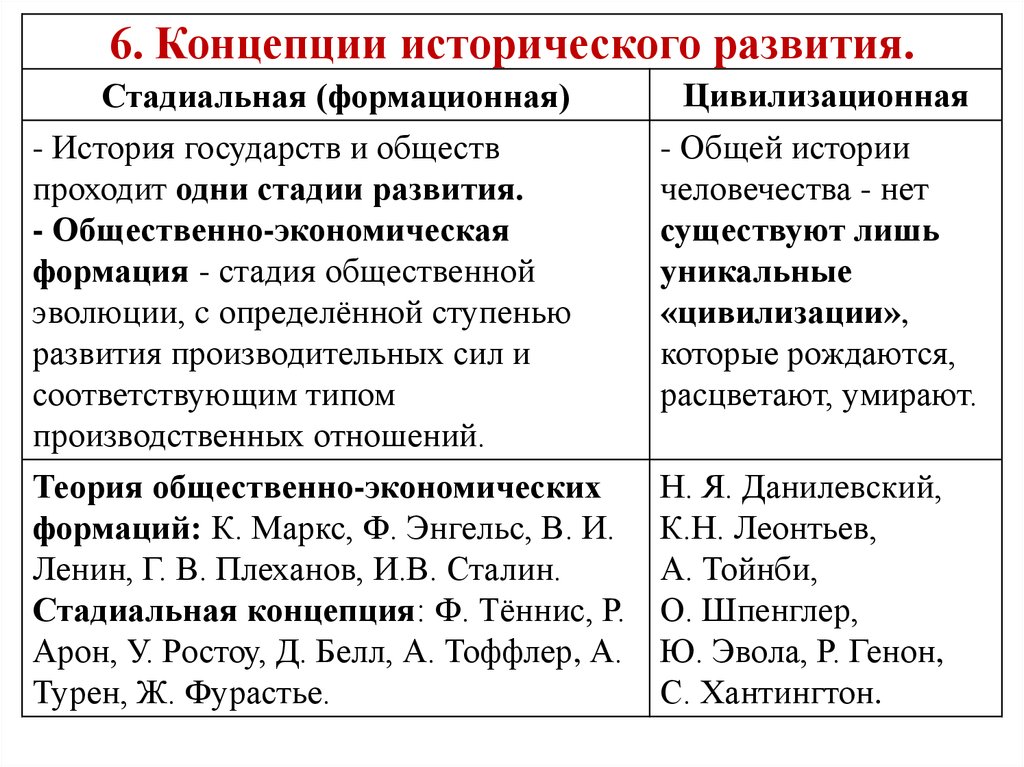 Печчеи, Э. Фромм и другие представители нового гуманизма.
Печчеи, Э. Фромм и другие представители нового гуманизма.
Ноосфера имеет свою информационную сущность, здесь господствуют приоритеты информации как ресурса развития над веществом и энергией и сознания над бытием. Переход к ноосфере возможен лишь в ходе гуманитарногуманистической трансформации, которую можно было бы, преодолевая нашу мировоззренческую аллергию к насильственным изменениям, именовать антропоноосферной революцией, которая должна изменить человеческие качества, ориентировать их и общецивилизационное сознание в ноосферном направлении. Устойчивое развитие должно быть не просто непрерывным движением без цели и изменения качества, а устойчивым движением к ноосфере. Причем повышение устойчивости должно идти от одной ступени ноосферы к другой: от информационного к экологическому обществу, от него к другим ступеням сферы разума. Это приведет и к изменению содержания демократии с помощью средств информатики не по форме, а по существу от мажоритарнонасильственной к информационноконсенсусной в будущем, а также иных механизмов управления.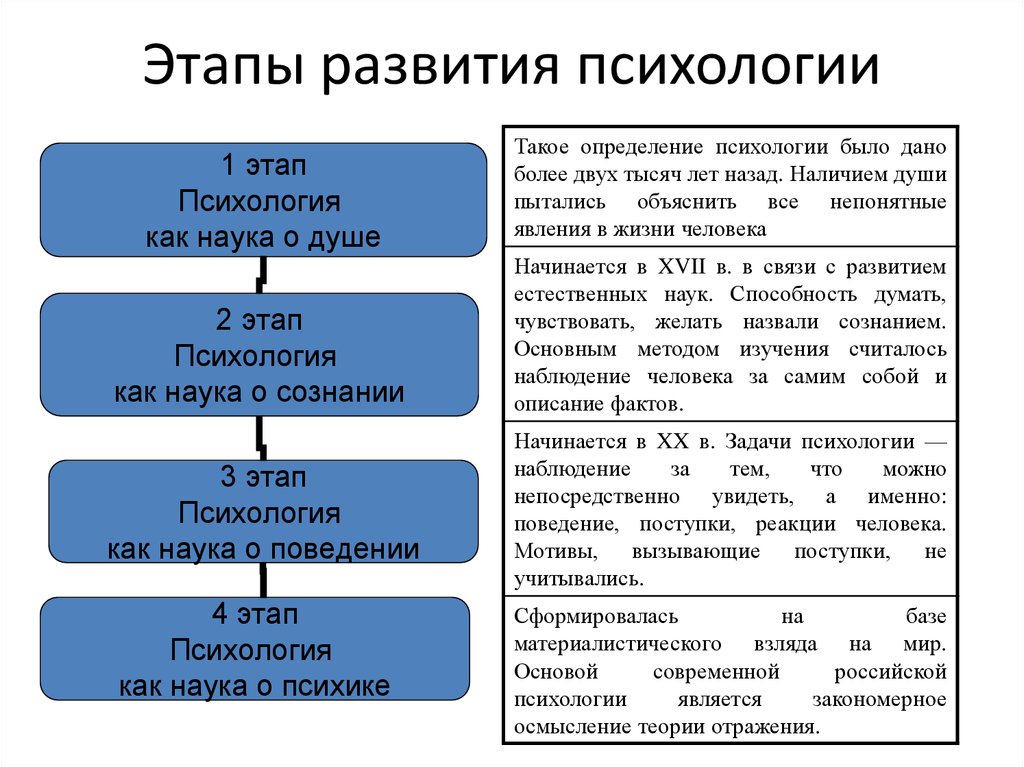
Свой ноосферный выбор человечество может сделать, лишь отказавшись от многих приоритетов, традиций, неестественных потребностей и даже стандарта жизни, ныне характерного для высокоразвитых стран. Но самое главное заключается в изменении природы человека в ноосферном направлении, формировании «ноосферной личности», к чему, как показала конференция ООН по окружающей среде и развитию в РиодеЖанейро, мы еще не готовы. В разрешении этого противоречия между ноосферным (и управляемым) будущим цивилизации и человека и их реальными характеристиками при стихийном (естественном) развитии видится смысл «сверхнового» ноосферного мышления и всего ноосферного движения.
Информатизация общества это не только изменение качества информационных процессов в глобальном масштабе, но и становление ноосферного качества общества, в котором человек окажется в центре устойчивого социоприродного развития, будет реализована коэволюция общества и природы, обеспечено устойчивое, безопасное во всех отношениях цивилизационное развитие. Это цель развития, но ее реализация зависит от нынешнего поколения, которое оказывается тем самым в критическом положении и должно непрерывно изменять свои приоритеты и интересы, отказываясь от традиционного, стихийного, нерационального развития. Информатизация общества и становление ноосферы это путь выживания цивилизации и решения глобальных проблем. Ноосферный поворот развития чрезвычайно труден, ибо знаменует новую, не только постиндустриальную, но даже постнеолитическую эпоху человечества. Это потребует кардинальной переориентации мышления и появления сверхнового ноосферного мышления человека, с помощью которого только и возможно будет реализовать новую модель развития человечества и ноосферный выбор цивилизации и продолжить свой, российский путь в ноосферу.
Это цель развития, но ее реализация зависит от нынешнего поколения, которое оказывается тем самым в критическом положении и должно непрерывно изменять свои приоритеты и интересы, отказываясь от традиционного, стихийного, нерационального развития. Информатизация общества и становление ноосферы это путь выживания цивилизации и решения глобальных проблем. Ноосферный поворот развития чрезвычайно труден, ибо знаменует новую, не только постиндустриальную, но даже постнеолитическую эпоху человечества. Это потребует кардинальной переориентации мышления и появления сверхнового ноосферного мышления человека, с помощью которого только и возможно будет реализовать новую модель развития человечества и ноосферный выбор цивилизации и продолжить свой, российский путь в ноосферу.
ЛИТЕРАТУРА
1. Урсул А. Д. Информатизация общества. Введение в социальную информатику. М., 1990.
2. Социальная информатика91: Сб. науч. тр. М., 1991.
3. Социальная информатика93: Сб. науч. тр. М., 1993.
4. У р с у л А. Д. Становление ноосферы и перспективы информатики// НТИ. 1990. Сер. 2. № 10.
5. У р с у л А. Д. Путь в ноосферу (концепция выживания и устойчивого развития цивилизации). М., 1993.
6. К о п т ю г В. А. Конференция ООН по окружающей среде и развитию: Информационный обзор. Новосибирск, 1992.
7. К опт юг В. А. На пути к устойчивому развитию цивилизации// Свободная мысль. 1992. № 14.
8. Голубев В., Шаповалова Н. Что же такое устойчивое развитие?// Свободная мысль.
1993. №5.
9. Голубев B.C. Модель эволюции геосфер. М., 1990.
10. У р с у л А. Д. Перспективы экоразвития. М., 1990.
11. Наше общее будущее: Доклад МКОСР.М.: Прогресс, 1989.
12. Г у м и л е в Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. Л., 1982.
13. А й з а т у л и н Т. А. Судьба России судьба ноосферы (к естественнонаучной теории динамики России в контексте гео и этнодинамики)// Alma mater (Вестник высшей школы). 1992. N8 79.
14. У р с у л А. Д.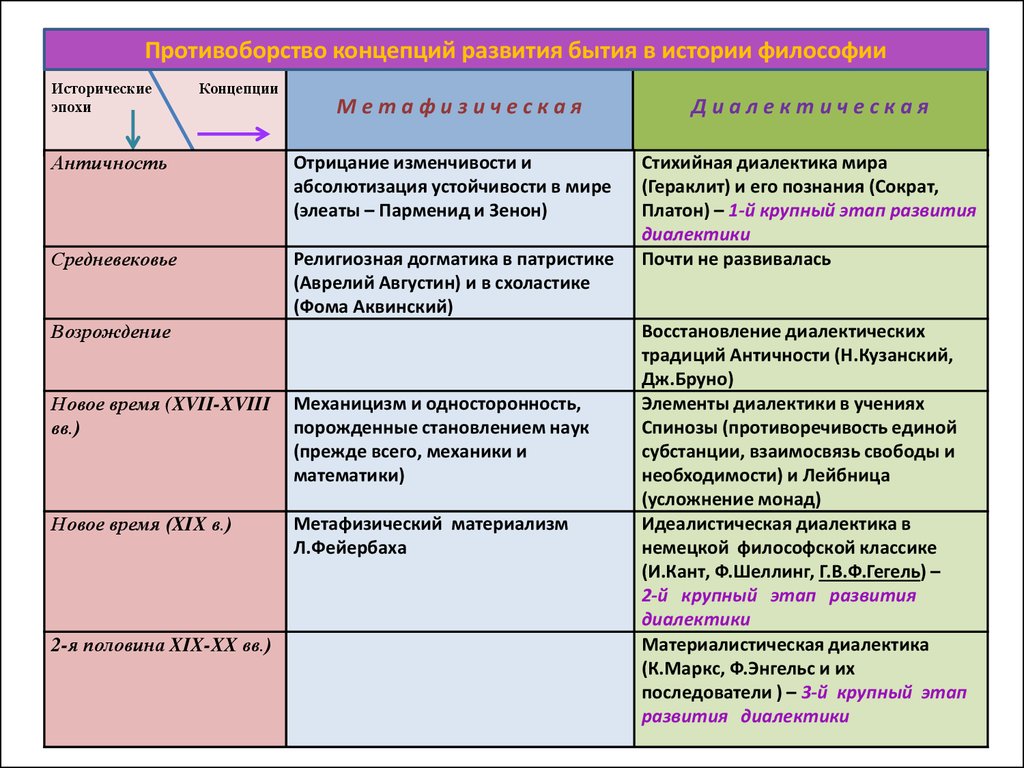 На пути к информационноэкологическому обществу// Философские науки. 1991. №5.
На пути к информационноэкологическому обществу// Философские науки. 1991. №5.
15. Рубцов В. В., Урсул А. Д. Проблема внеземных цивилизаций. 2е изд. Кишинев, 1987.
Статья поступила в редакцию в мае 1993 г.
Ноосферноэкологический институт Российской академии управления
_________________________________
А. Д. Урсул — академик АН Молдовы
© Информационное общество, 1993, вып. 1-2, с.35-45.
Глава 1. Краткий обзор теорий цивилизации и государства. Основы логистической теории цивилизации
Глава 1.
Краткий обзор теорий цивилизации и государства
Откуда взялась цивилизация? Вплоть до 20 века всё было достаточно просто: в научных кругах господствовал моноцентрический (диффузионный) подход, который предполагал, что цивилизация когда-то образовалась как явление в каком-то одном месте и в дальнейшем распространялась (=диффузия) по всему миру, включая в сферу своего влияния всё новые народы, что привело к образованию локальных цивилизаций, сохранивших присущие первоначальной цивилизации общие черты, но из-за разных местных условий они приобретали множество чисто внешних различий. И это вполне совпадало с реальными событиями тотальной колонизации мира.
И это вполне совпадало с реальными событиями тотальной колонизации мира.
Термин «цивилизация» появился в научном обороте во второй половине 18 века с подачи философа Адама Фергюсона, который подразумевал под этим такую стадию в развитии человеческого общества, для которой характерны расслоение общества (стратификация), а также наличие городов, письменности и других подобных явлений. Упомянутая им стадиальная периодизация мировой истории «дикость — варварство — цивилизация» пользовалась поддержкой в научных кругах вплоть до конца 19 века.
Не обнаружено никаких вразумительных объяснений, почему в 20 веке вдруг научная мысль сместилась в сторону полицентрического подхода, который предполагает независимое, самостоятельное возникновение цивилизаций в разное время и в разных местах мира. Обычно приходится видеть либо простую констатацию этого факта, либо пассажи вроде такого: «С ростом популярности в конце XIX — начале XX века плюральноциклического подхода к истории под общим понятием «цивилизации» всё больше стали подразумеваться «локальные цивилизации».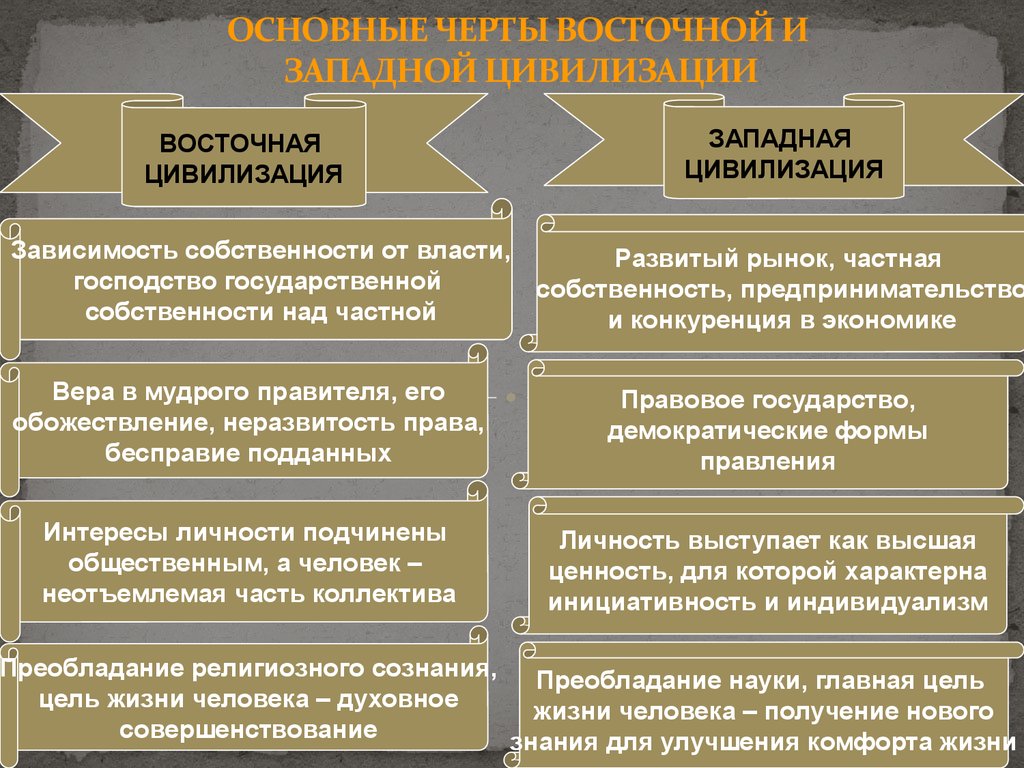 Может быть, это и есть причина — «роста популярности»?
Может быть, это и есть причина — «роста популярности»?
Интересно всё-таки устроены гуманитарные науки: не разобравшись с возникновением всего лишь одной цивилизации«праматери», они легко перешли на идею возникновения сразу многих цивилизаций. В какой-то степени такой стиль мышления напоминает некоторые африканские племена, которые не видели причинной связи полового акта с последующей беременностью. Вроде как исповедовали «самозарождение жизни» или, там, «ветром надуло». На доводы европейцев ими было приведено убийственное, по их мнению, возражение: «Но дети рождаются даже у тех страшных женщин, с которыми никто не захочет совершать половой акт». Это — логика гуманитариев в чистом виде.
И тем не менее учёные долгое время пытались ответить на вопрос: «Если предположить, что в первобытном обществе у всех людей был более-менее одинаковый образ жизни, которому соответствовала единая духовная и материальная среда, почему не все эти общества развились в цивилизации?» Несмотря на то что объектов для изучения было вполне достаточно, — очень многие общества так и не смогли преодолеть цивилизационный порог и остались на стадии первобытнообщинного строя — учёные так и не пришли к однозначному выводу.
В качестве примера провальной попытки ответа на этот вопрос можно привести мнение Арнольда Тойнби, который считал, что цивилизации рождаются, эволюционируют и адаптируются в ответ на различные «вызовы» географической среды. По его мнению, те общества, которые оказались в стабильных природных условиях, старались приспособиться к ним, ничего не изменяя, и, наоборот, социум, который испытывал регулярные или внезапные изменения окружающей среды, неизбежно должен был осознать свою зависимость от природной среды и для ослабления этой зависимости противопоставить ей динамичный преобразовательный процесс.
Ну вот и попробуйте, руководствуясь такими общими рассуждениями, объяснить, почему находившиеся в экстремальных природных условиях с большим количеством «вызовов» природы жители Крайнего Севера или африканских пустынь не создали цивилизацию, а оказавшиеся в гораздо более стабильных природных условиях Средиземного моря предки древних греков, римлян и прочих финикийцев, наоборот, очень даже удачно цивилизовались?
Цивилизационные концепции Тойнби и близких к нему Шпенглера и Данилевского были крайне неоднозначно встречены научным сообществом.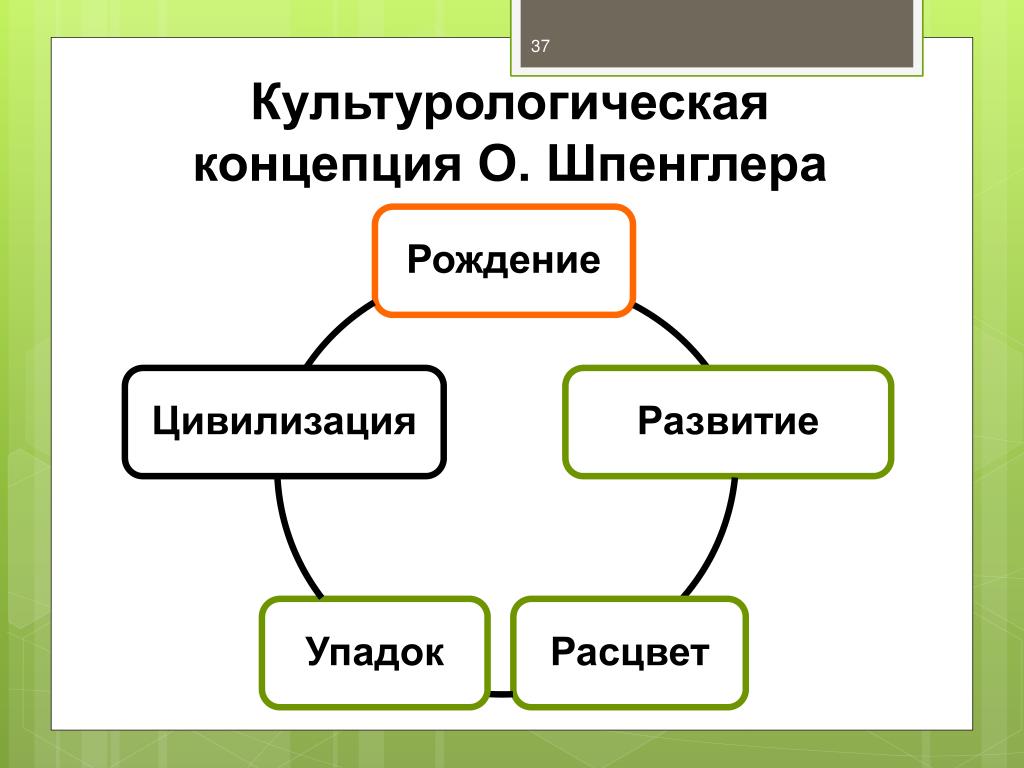 Хотя сейчас их труды почему-то считаются фундаментальными работами в области изучения истории цивилизаций, поначалу их теоретические разработки встретили серьёзную критику. Одним из наиболее последовательных критиков цивилизационной теории выступил известный философ и социолог Питирим Сорокин, который указал, что «самая серьезная ошибка этих теорий состоит в смешении культурных систем с социальными системами (группами), в том, что название «цивилизация» дается существенно различным социальным группам и их общим культурам — то этническим, то религиозным, то государственным, то территориальным, то различным многофакторным группам, а то даже конгломерату различных обществ с присущими им совокупными культурами», в результате чего ни Тойнби, ни его предшественники так и не смогли назвать главные критерии вычленения цивилизаций, равно как и их точное количество.
Хотя сейчас их труды почему-то считаются фундаментальными работами в области изучения истории цивилизаций, поначалу их теоретические разработки встретили серьёзную критику. Одним из наиболее последовательных критиков цивилизационной теории выступил известный философ и социолог Питирим Сорокин, который указал, что «самая серьезная ошибка этих теорий состоит в смешении культурных систем с социальными системами (группами), в том, что название «цивилизация» дается существенно различным социальным группам и их общим культурам — то этническим, то религиозным, то государственным, то территориальным, то различным многофакторным группам, а то даже конгломерату различных обществ с присущими им совокупными культурами», в результате чего ни Тойнби, ни его предшественники так и не смогли назвать главные критерии вычленения цивилизаций, равно как и их точное количество.
Другие теории не лучше. Появившаяся во второй половине 20 века теория этногенеза Н. Гумилева основана на некоей «пассионарности».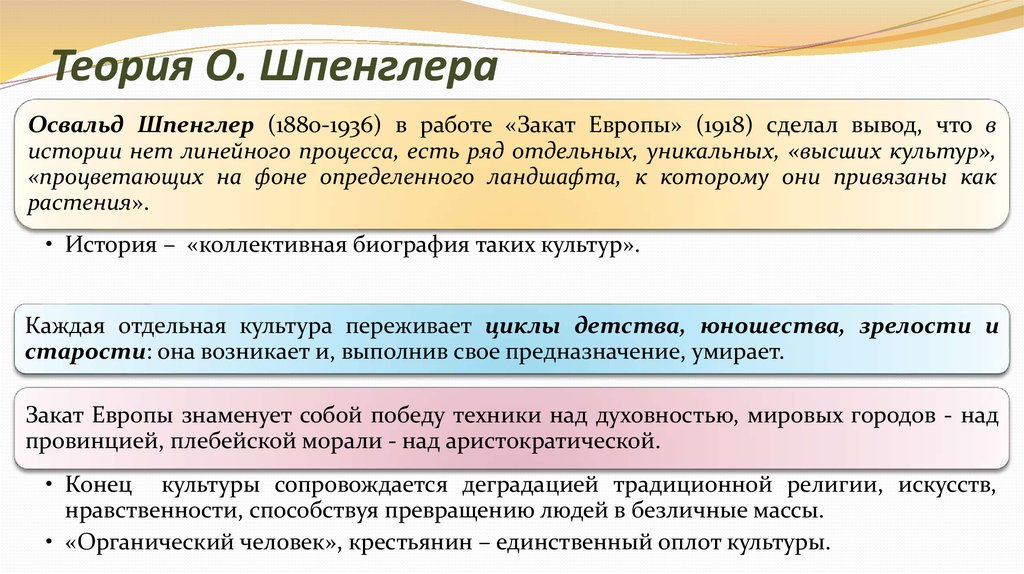 Например, гунны или кто там еще приобрели «пассионарность» и всех завоевали. А потом потеряли эту «пассионарность» и исчезли. И если можно гадать, кто такие гунны и что такое этнос в понимании Гумилева, то «пассионарность» обсуждать бесполезно — остается только верить, будто автору это было точно известным. Видимо, что-то из области пресловутых «пси-фактора», «тонких полей» или магии вуду.
Например, гунны или кто там еще приобрели «пассионарность» и всех завоевали. А потом потеряли эту «пассионарность» и исчезли. И если можно гадать, кто такие гунны и что такое этнос в понимании Гумилева, то «пассионарность» обсуждать бесполезно — остается только верить, будто автору это было точно известным. Видимо, что-то из области пресловутых «пси-фактора», «тонких полей» или магии вуду.
В итоге до сих пор не выработано ни общепринятого определения цивилизации, ни механизма ее происхождения. Ситуация напоминает состояние научной мысли о деньгах: до сих пор нет единого определения, что такое деньги, нет ни одного законодательного определения денег, но все уверенно рассуждают о них, предполагая, что это и так всем известно.
Во второй половине 20 века научная мысль уже воспринимала как должное «самозарождение множества цивилизаций» (наверное, потому, что это много раз повторяли как заклинание) и перешла в сторону предсказаний.
В 1992 году американский ученый Ф. Фукуяма выдвинул мрачную футурологическую теорию в книге «Конец истории и последний человек». В таком же пессимистическом ключе выступил в 1993 году и автор нашумевшей «теории столкновения цивилизаций» С. Хантингтон, который утверждает, что принадлежность к определенной цивилизации является самым важным уровнем самоидентификации личности и что различия между цивилизациями не только реальны, но и фундаментальны; цивилизации отличаются друг от друга историческим прошлым, культурой, обычаями и, самое главное, религиозной принадлежностью; в будущем цивилизационная и/или религиозная принадлежность будет играть ключевую роль.
В таком же пессимистическом ключе выступил в 1993 году и автор нашумевшей «теории столкновения цивилизаций» С. Хантингтон, который утверждает, что принадлежность к определенной цивилизации является самым важным уровнем самоидентификации личности и что различия между цивилизациями не только реальны, но и фундаментальны; цивилизации отличаются друг от друга историческим прошлым, культурой, обычаями и, самое главное, религиозной принадлежностью; в будущем цивилизационная и/или религиозная принадлежность будет играть ключевую роль.
Ни больше ни меньше как «принадлежность к определенной цивилизации является самым важным уровнем самоидентификации личности». Тут люди при переписи населения иногда не могут определиться, как записать свою национальность — эльф или гоблин, а Хантингтон с чего-то взял, что все способны понять, к какой цивилизации они принадлежат.
По логике, важнейшим элементом цивилизационных теорий должны быть теории происхождения государства, но както так получается, что они существуют сами по себе. Не претендуя на полноту, сделаем краткий обзор некоторых теорий возникновения государства.
Не претендуя на полноту, сделаем краткий обзор некоторых теорий возникновения государства.
Патриархальная (Р. Филмер) теория трактует процесс возникновения государства как результат последовательного объединения семей, родов, племен в общности, государства. Государство рассматривается как большая семья, в которой отношения монарха и его подданных отождествляются с отношениями главы и членов семьи.
Теократическая (Аврелий Августин, Фома Аквинский) концепция связывает возникновение государства с волей Бога. Государство — часть порядка, установленного Богом, результат божественного промысла. Теократическая концепция безраздельно господствовала в эпоху Средневековья.
Органическая (Герберт Спенсер). Государство есть некий общественный организм, состоящий из отдельных людей, подобно тому, как живой организм состоит из клеток, то есть он утверждал, что государство образуется одновременно со своими составными частями — людьми — и будет существовать, пока существует человеческое общество.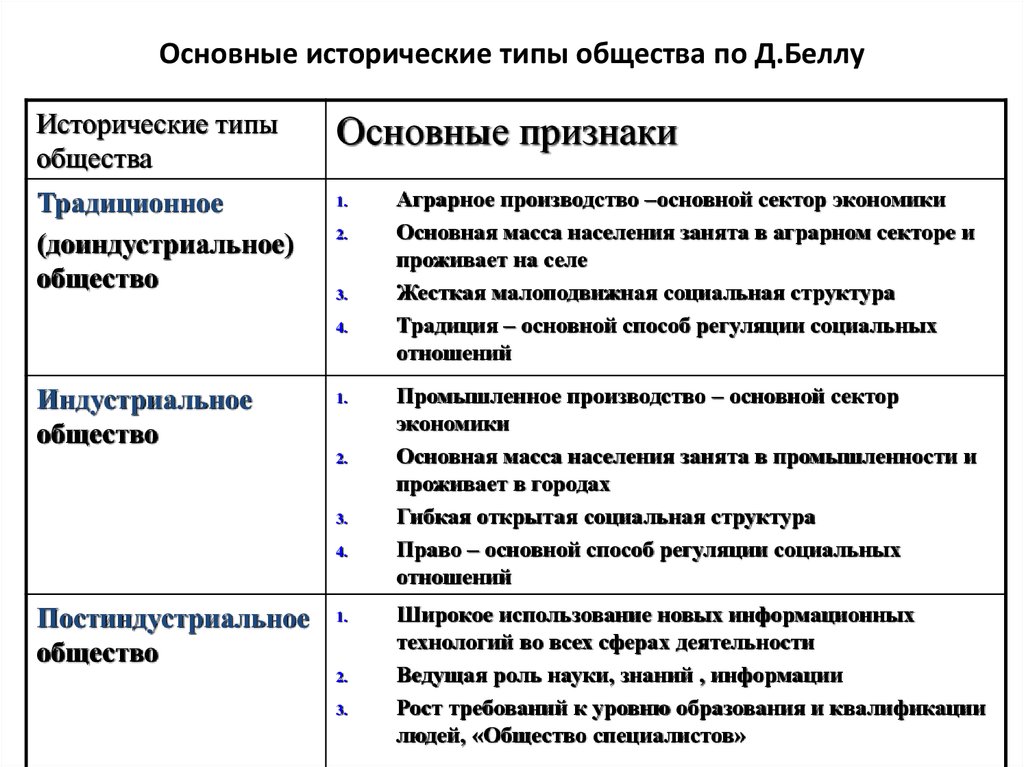 Государственная власть — это господство целого над своими составными частями, выражающееся в обеспечении государством благополучия своего народа.
Государственная власть — это господство целого над своими составными частями, выражающееся в обеспечении государством благополучия своего народа.
Психологическая (Г. Тард, Л. Петражицкий, Ж. Бюрдо). Основа государства — психологическая потребность человека жить в рамках организованного сообщества. Общество и государство есть сумма психологических взаимодействий людей и их различных объединений и следствие психологических закономерностей человека.
Договорная теория (Т. Гоббс, Дж. Локк, Д. Дидро, Ж.-Ж. Руссо). В соответствии с этой теорией, государство возникло в результате добровольного соглашения людей в целях обеспечения своих основных прав и свобод.
Патримониальная (Р. Галлер) теория считает первоосновой государства возникновение права собственности на землю.
Расовая (Ж. Гобино, Ф. Ницше) теория предполагает что государство создают высшие расы, господствующие над низшими.
Теория завоевания, или насилия (Л. Гумплович, К. Каутский, Е. Дюринг), объясняет процесс возникновения государства необходимостью закрепления господства более сильных социальных групп над слабыми.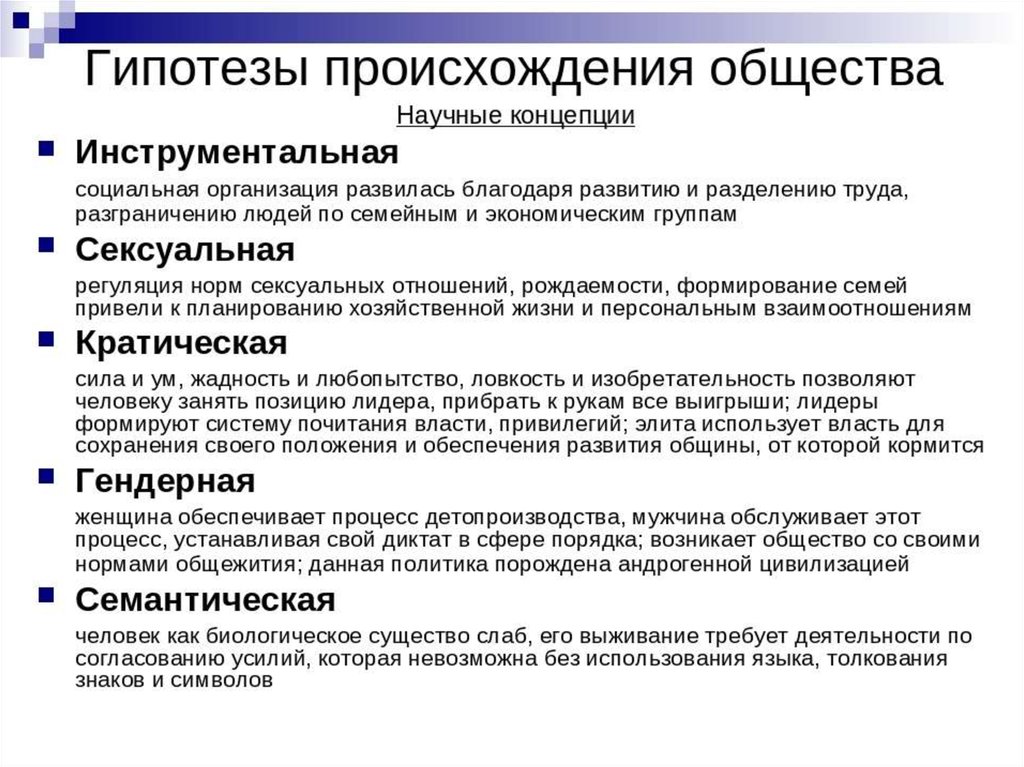 Государство возникает как следствие завоевания одних групп другими.
Государство возникает как следствие завоевания одних групп другими.
Классовая (К. Маркс, Ф. Энгельс) теория в качестве основных факторов образования государства выделяет развитие общественного разделения труда, возникновение частной собственности, классов и эксплуатации одних классов другими. Государство создается экономически господствующими группами для подчинения себе неимущих слоев населения.
Диффузионная (Ф. Гребнер). Государство возникает в результате передачи опыта управления от одних народов к другим.
Ирригационная (К. Виттфогель) теория. В процессе строительства крупных ирригационных сооружений формировались группы людей, организующих строительные работы. Именно они стали основой государственного аппарата. Абсолютизируется роль географического фактора.
Инцестная (половая) (К. Леви-Стросс). Введение запрета кровосмешения (близкородственного скрещивания) привело к выделению человека из природы и возникновению государства.
Спортивная (Х. Ортега-и-Гассет). Возникновение государства обусловлено происхождением игр, физических упражнений и спорта. Родовая и военная аристократия возникли как результат проведения соревнований.
Возникновение государства обусловлено происхождением игр, физических упражнений и спорта. Родовая и военная аристократия возникли как результат проведения соревнований.
Кроме, пожалуй, совсем курьезных «половой» и «спортивной» теорий, все остальные имеют рациональное зерно и здравый смысл. Так и хочется высказать парадоксальное на первый взгляд суждение «все упомянутые теории правильны».
Справедливость сразу многих из перечисленных теорий государства можно показать на хорошо всем известном примере колонизации англосаксами территорий индейцев Северной Америки и создания США:
Расовая теория: англосаксы, которые индейцев за людей не считали, завоевали их земли, на которых раньше не было государственности, и создали своё государство США.Патримониальная: только прибывшие в Северную Америку европейцы ввели четкое право собственности на землю, огораживание и документальную фиксацию прав, а индейцы, в общем-то, понимали территории как занятые племенем в данный момент.Диффузионная теория: так называемые «пять цивилизованных племен» индейцев переняли у англосаксов принципы цивилизации — они создали собственные населенные пункты, занялись производством хлопка, применяли рабский труд негров, выпускали газеты на своем языке, создали школы и т.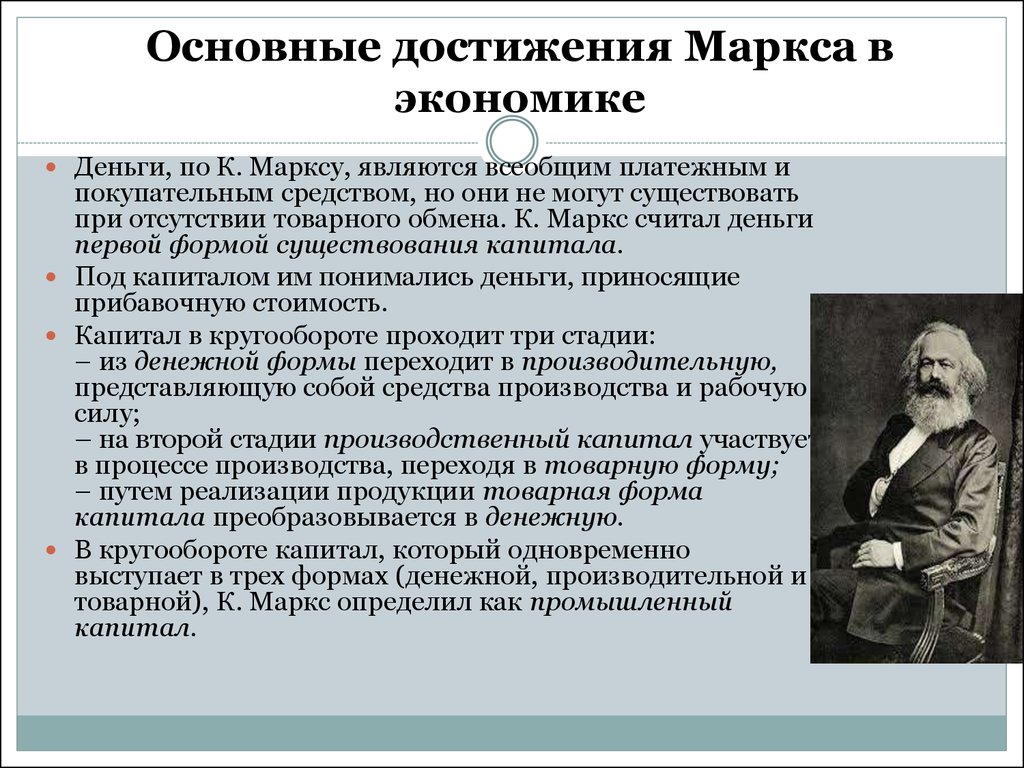 п.Договорная теория: государство США возникло на основе договора между английскими колониями «в результате добровольного соглашения людей в целях обеспечения своих основных прав и свобод». Сюда же можно добавить «психологическую» теорию: колонисты создали государство в том числе и для своего психологического комфорта — и «теократическую»: на долларах США до сих пор есть надпись «In God we trust» — «В Бога мы веруем».Теория завоевания (насилия): более сильная социальная группа англосаксов подчинила себе более слабую социальную группу индейцев и закрепила свое господство над ними.
п.Договорная теория: государство США возникло на основе договора между английскими колониями «в результате добровольного соглашения людей в целях обеспечения своих основных прав и свобод». Сюда же можно добавить «психологическую» теорию: колонисты создали государство в том числе и для своего психологического комфорта — и «теократическую»: на долларах США до сих пор есть надпись «In God we trust» — «В Бога мы веруем».Теория завоевания (насилия): более сильная социальная группа англосаксов подчинила себе более слабую социальную группу индейцев и закрепила свое господство над ними.
Мы видим, что совершенно различные теории государства достаточно неплохо соответствуют реальным общественным событиям, но с разных точек зрения, как в знаменитой притче о трех слепых мудрецах, которые отправились изучать слона. Один исследовал хобот, другой — ногу, третий — хвост, а затем они собрались и начали спорить, чьё описание правильнее, но каждый так и остался при своем мнении. Хорошо хоть объект исследования был им известен. Гораздо хуже ситуация «слона то я и не приметил»…
Гораздо хуже ситуация «слона то я и не приметил»…
Имея на вооружении такие теории цивилизации и государства, которые представляют из себя по сути идеологию или описательные рассуждения, а не точную науку, историки толкуют события по своему разумению, социальному заказу и пишут кто во что горазд. В результате ученый диспут превращается в спор о терминах на уровне мнений, и все получают «непредсказуемое прошлое».
В 19 веке знаменитый и тонкий английский историк Томас Бокль в своей «Истории английской цивилизации», оплакивая судьбу исторической науки, сожалеет, что «историю писали люди, вовсе не способные к решению своей великой задачи, что до сих пор мало собрано нужных материалов. Вместо того чтоб говорить нам о предметах, которые одни имеют значение, вместо того чтобы излагать нам успехи знаний и путь, на который вступает человечество при распространении знаний, — вместо этого большая часть историков наполняют свои сочинения самыми пустыми подробностями, анекдотами о государях, о дворах, бесконечными известиями о том, что было сказано одним министром, что думал другой, и, что всего хуже, длинными известиями о войнах, сражениях, осадах, вовсе бесполезными для нас, потому что они не сообщают новых истин и не дают средств к открытию их».
В конце 19 века Лев Мечников в оставшейся незавершенной работе «Цивилизация и великие исторические реки» писал: «Всегда и всюду история заносит на свои скрижали лишь тяжкий, очень часто кровавый труд, который существующее в данный момент поколение выполняет ради пользы неизвестного будущего.
Задача, к разрешению которой я стремлюсь, может быть сформулирована в следующих словах: какая таинственная сила налагает на некоторые народы то ярмо истории, которое остается неизвестным для значительного количества племен?»[1]
Таким образом Томас Бокль фактически поставил диагноз исторической науке: «…вовсе бесполезных для нас, потому что они не сообщают новых истин и не дают средств к открытию их». А Лев Мечников поставил задачу выявить, «какая таинственная сила налагает на некоторые народы то ярмо истории». С тех пор диагноз исторической науки не изменился, а задача выявления «таинственной силы» так и не получила удовлетворительного ответа.
Если сравнить государства с огромными многопрофильными предприятиями (а они по сути таковыми и являются), то вместо истории предприятия нам подсовывают историю жизни директоров и их междоусобных разборок путём использования трудовых коллективов.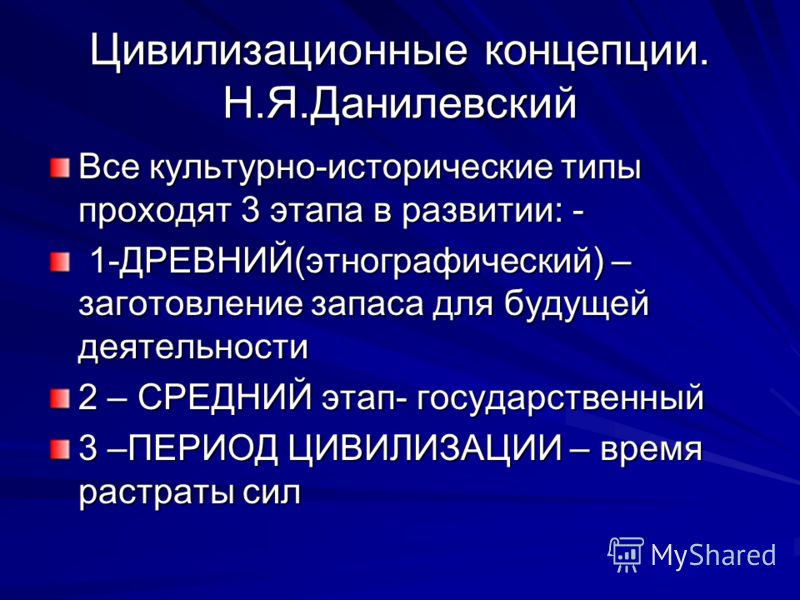
Очень бегло прикинем, что историческая наука говорит по следующим вопросам. Каковы критерии величия цивилизации? Каково современное состояние территорий и народов бывших великих цивилизаций? В чем заключаются уроки предыдущих цивилизаций, то есть причины их возвышения и разрушения?
В истории первыми называются многотысячелетней давности цивилизации Ассиро-Вавилонии (Месопотамии), Египта, Индии, Китая и Америки. На каком основании делается вывод об их величии? В первую очередь — на основании сохранившихся остатков городов, больших сооружений. Это верно с той точки зрения, что в те времена все делалось в первую очередь силой рук человека и в меньшей степени — животных. Для больших сооружений требуется собрать много рабов, нужны строительные материалы, инструменты, архитектурные познания и пр. Кроме того, вывод о мощи цивилизации делается на основании данных о металлообработке, кораблестроении, земледельческой культуре, письменности, состоянии науки и прочая, и прочая. И это тоже верно, поскольку развитые ремесленные и научные навыки свидетельствуют о возможности не только удовлетворить насущные потребности в питании, одежде и жилище, но и заняться другими задачами.
И это тоже верно, поскольку развитые ремесленные и научные навыки свидетельствуют о возможности не только удовлетворить насущные потребности в питании, одежде и жилище, но и заняться другими задачами.
Таким образом, можно сделать промежуточный вывод о том, что цивилизация характеризуется способностью концентрировать человеческие и прочие ресурсы и активно использовать для создания перечисленных признаков цивилизации.
Практика — критерий истины. Но почему-то с этой точки зрения древнейшие цивилизационные процессы (как их описывают учебники) не дают нам никаких положительных примеров. Несмотря на былое могущество, все эти цивилизации рухнули и ничего в тех же местах у тех же самых народов не получило дальнейшего развития, хотя, казалось бы, — фора перед остальным миром была даже не в столетия, а в тысячелетия!
Смотрим, что осталось от цивилизации древнего Египта. Ну и где ее следы в обозримом прошлом? Где ее достижения? В 19–20 веках в основном нищие феллахи и замызганные бедуины, голодающая и несамодостаточная страна, да и сейчас, несмотря на успехи нефтедобычи и туризма, Египет себя продовольствием не может обеспечить.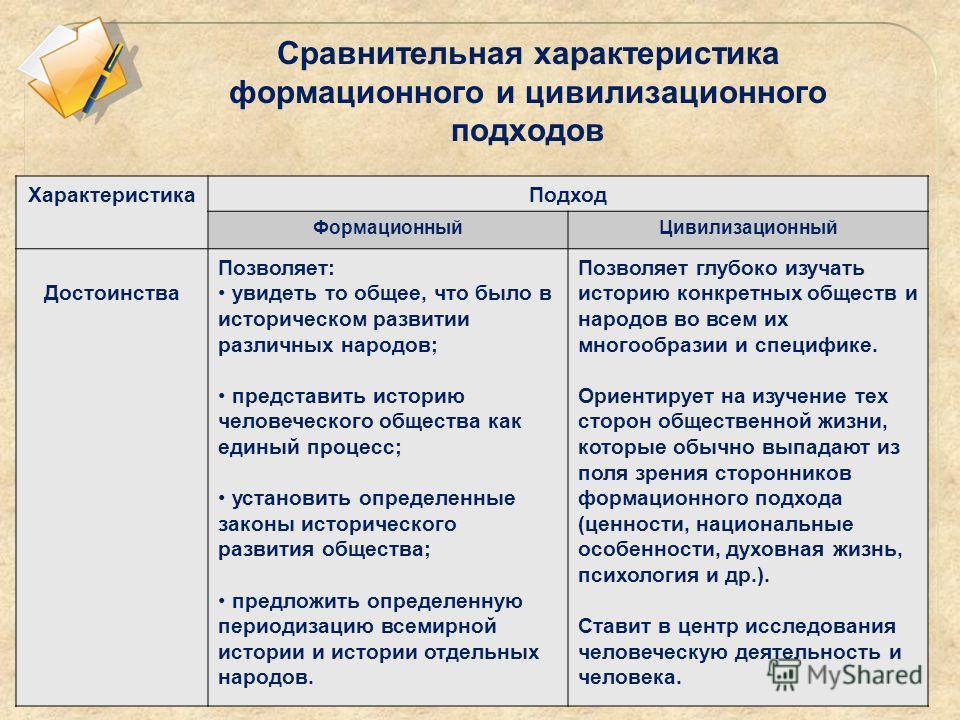
Ассиро-Вавилония (Месопотамия, Междуречье, Вавилон), т. е. территория современного Ирака. Современная ситуация аналогичная, только нефть немного спасает.
Китай, Индия и прочие «древнейшие цивилизации» при ближайшем рассмотрении по состоянию на конец 19 века, оказывается, недалеко ушли от уровня Монголии! Византийская империя, а потом Великая Порта, она же Оттоманская империя (теперь это территории Турции, Болгарии, Греции и проч.) рухнула в 19 веке. И что оставила в наследство, кроме некоторого количества руин? Сельскохозяйственную территорию с бедным населением.
Великие морские державы Испания с Португалией — та же картина в 19 веке. Что случилось с великими морскими державами Венецией с Генуей?
Всё, что открывалось в средние века в Европе, оказывается, уже тысячелетия было известно в Китае или Индии, но почему-то вдруг там напрочь было забыто.
И ведь часто так — то запустение, то процветание. То придумают, то забудут. Классическая история на эти вопросы ответа не даст.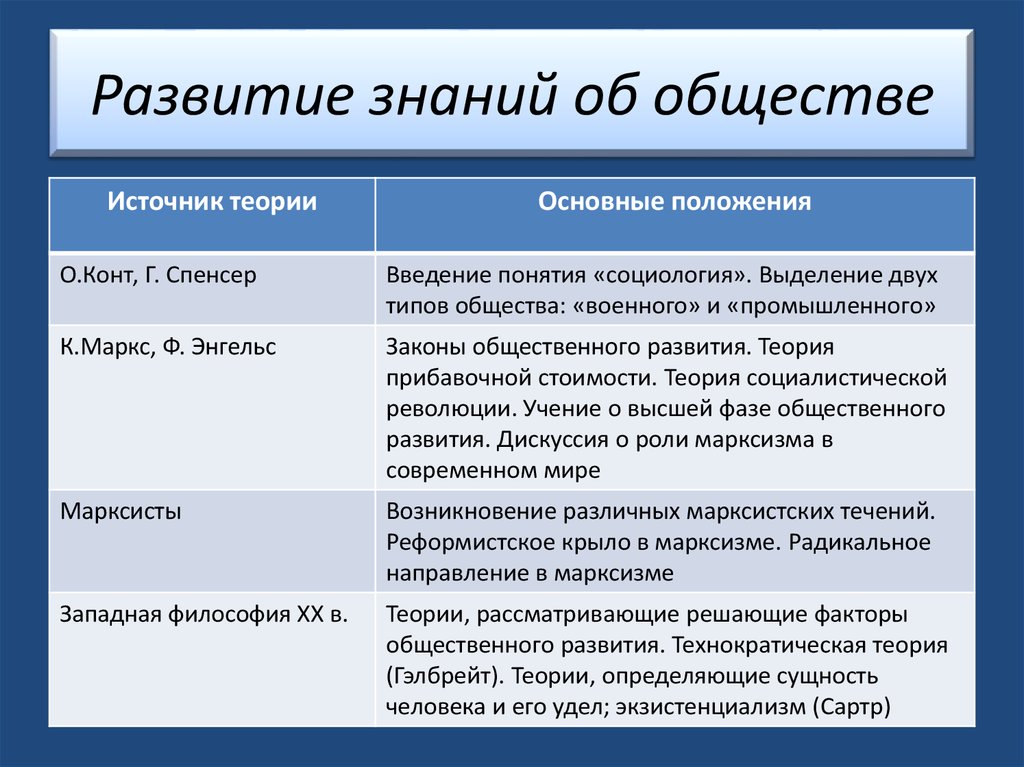 Только невнятные бормотания о том, что кто-то разграбил, вытеснил, потерял пассионарность, и прочий бред. А потом почему-то вдруг опять «страна процветает»? А потом опять упадок… То вдруг научатся кирпичи делать, то опять забудут…
Только невнятные бормотания о том, что кто-то разграбил, вытеснил, потерял пассионарность, и прочий бред. А потом почему-то вдруг опять «страна процветает»? А потом опять упадок… То вдруг научатся кирпичи делать, то опять забудут…
Как будто вся история построена по детскому анекдоту: «Шел ёжик, забыл, как дышать, — и умер. А потом вспомнил — и дальше пошел».
Создаётся впечатление, что цивилизация может похвастаться только результатами древних Греции и Рима. Вот от них много чего осталось, и современная западная цивилизация считается прямой их наследницей. Но и в этом случае многое неясно. То древний Рим в 4 веке исчез, то вдруг на рубеже 18–19 веков, более чем через тысячу лет, все государства Европы, находившиеся тогда практически на древнеримском техническом уровне, затеяли модные сейчас игры в стиле «историческая реконструкция древнего Рима». Снова «чудеса ёжика»?
И на все эти вопросы ни теории цивилизации, ни теории государства не дают ни готовых ответов, ни методологии поиска ответов и доказательств их истинности.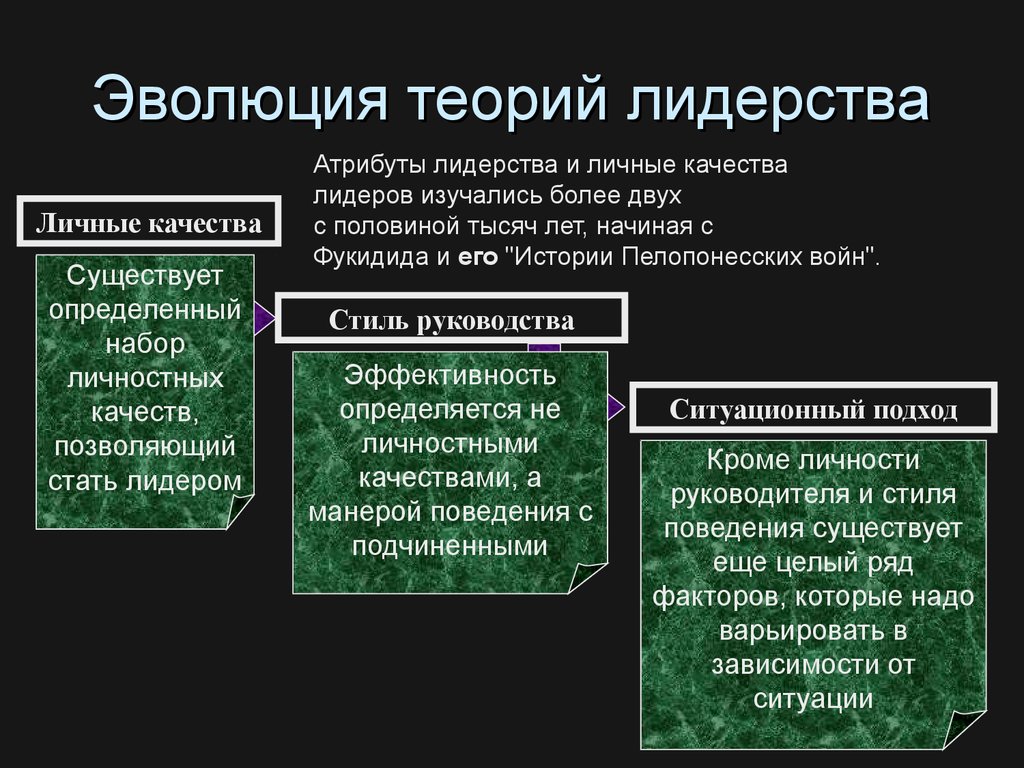 Уже сколько раз издавались фундаментальные книги, в которых торжественно излагалось «ничто», выдаваемое за «нечто», эти книги надолго становились маяками, ведущими в тупик науку, ибо «учёные — как шутил Анатоль Франс — весьма часто отличаются от нормальных смертных способностью восхищаться многословными и сложными заблуждениями».
Уже сколько раз издавались фундаментальные книги, в которых торжественно излагалось «ничто», выдаваемое за «нечто», эти книги надолго становились маяками, ведущими в тупик науку, ибо «учёные — как шутил Анатоль Франс — весьма часто отличаются от нормальных смертных способностью восхищаться многословными и сложными заблуждениями».
Леонардо да Винчи выразился ещё жестче: «Никакой достоверности нет в науках там, где нельзя приложить ни одной из математических наук, и в том, что не имеет связи с математикой».
Чтобы уйти от гуманитарной болтовни на уровне мнения, когда оригинальность вырастает из нового толкования, споры ведутся о терминах и т. п., перед собой была поставлена задача создать теорию, максимально приближенную к критериям, принятым в точных науках (измерение, эксперимент, проверяемость). В идеале теория должна быть свободна от оценочных суждений, потому мы будем максимально дистанцироваться от понятий культурологических, религиозных и прочих идеологизированных явлений.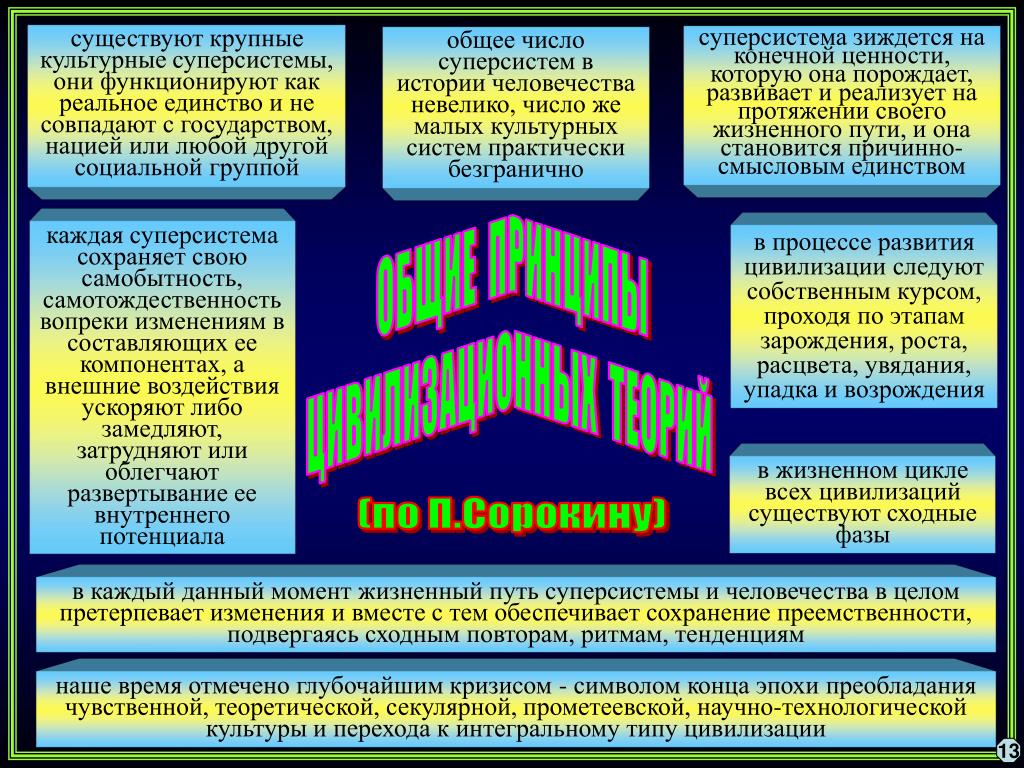
Простота основополагающих аргументов специально сведена к уровню примитивности (= примативности = первичности), чтобы избежать вольного толкования:
— Все люди (и группы людей) для обеспечения своей жизни добывают и потребляют полезные ресурсы (еда, одежда и прочее)? Да.
— Мы можем установить, где добываются ресурсы (изготавливаются товары), как и по каким путям транспортируются к месту потребления? Да, если есть информация.
— Мы можем дать количественную и качественную оценку ресурсо(товаро)потокам в динамике применительно к каждому историческому периоду? Да, если есть информация.
Эти и другие подобные вопросы и ответы на них станут нашей путеводной звездой, нитью Ариадны, которая не даст запутаться в лабиринте цивилизационных процессов и покажет истинные дороги истории человечества.
У автора вовсе нет амбиций сносить упомянутую глыбу накопленных теоретических разработок общественных наук «до основанья, а затем…», отношение к ним достаточно нейтральное, поскольку предлагаемая логистическая теория цивилизации основывается совсем на других предпосылках и их наработки использует в минимальной степени. Самое удивительное, что использованные в качестве основы факты хорошо известны, изучены различными науками, но почему-то до сих пор никто не взялся их сопоставить. Без ложной скромности, говоря словами Томаса Бокля, настало время «сообщить новые истины и дать средства к открытию их».
Самое удивительное, что использованные в качестве основы факты хорошо известны, изучены различными науками, но почему-то до сих пор никто не взялся их сопоставить. Без ложной скромности, говоря словами Томаса Бокля, настало время «сообщить новые истины и дать средства к открытию их».
А теперь — к делу.
ГЛАВА II Краткий обзор другого изумительного спорного вопроса
ГЛАВА II
Краткий обзор другого изумительного спорного вопроса
Делольм — или, собственно говоря, аббат Буало, брат поэта, утверждает, что часть тела, на которой мы восседаем, заслуживает величайшего внимания. Во-первых, потому, что она является характеристической частью
Глава II Краткий обзор современных народов Северного Кавказа
Глава II
Краткий обзор современных народов Северного Кавказа
Все народы Европы, принадлежащие к так называемому кавказскому племени, произошли от одного общего первобытного племени — арийцев, т.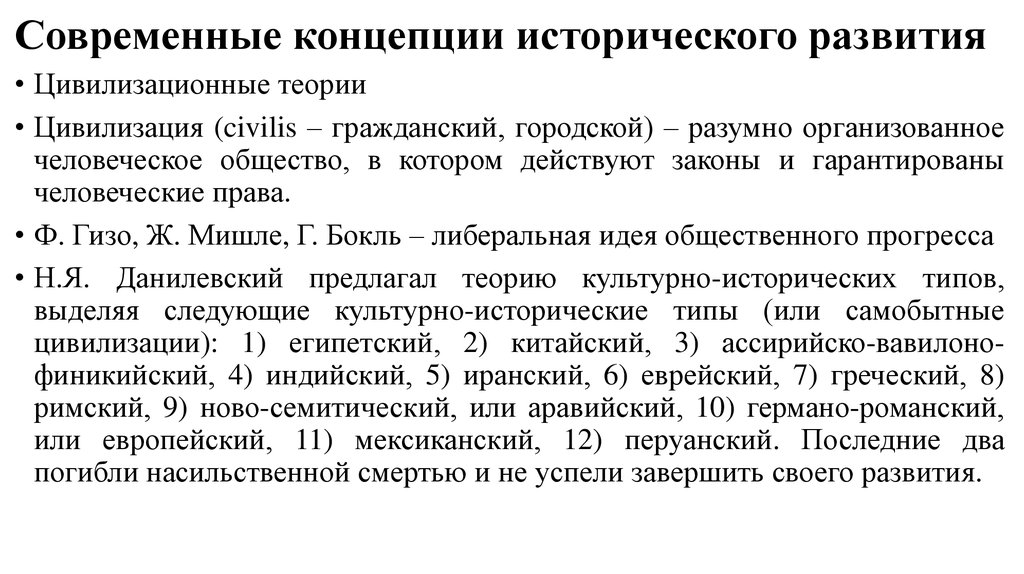 е. было то время, когда, по выражению Макса Мюллера, предки арийцев, как то:
е. было то время, когда, по выражению Макса Мюллера, предки арийцев, как то:
Тюрки России (краткий обзор)
Тюрки России (краткий обзор)
Если судить по письменным источникам, то первыми из тюрок на Руси были скифы (имя дали греки, которые сами себя называют ромеями). Скифы были побеждены готами якобы в III веке н. э. и исчезли без следа. Имя есть, народа нет. Скифский язык ученые
Тюрки России (краткий обзор)
Тюрки России (краткий обзор)
Если судить по письменным источникам, то первыми из тюрок на Руси были скифы (имя дали греки, которые сами себя называют ромеями). Скифы были побеждены готами якобы в III веке н. э. и исчезли без следа. Имя есть, народа нет. Скифский язык ученые
Глава 2 Краткий обзор исторических событий
Глава 2
Краткий обзор исторических событий
Военные события 1941 г.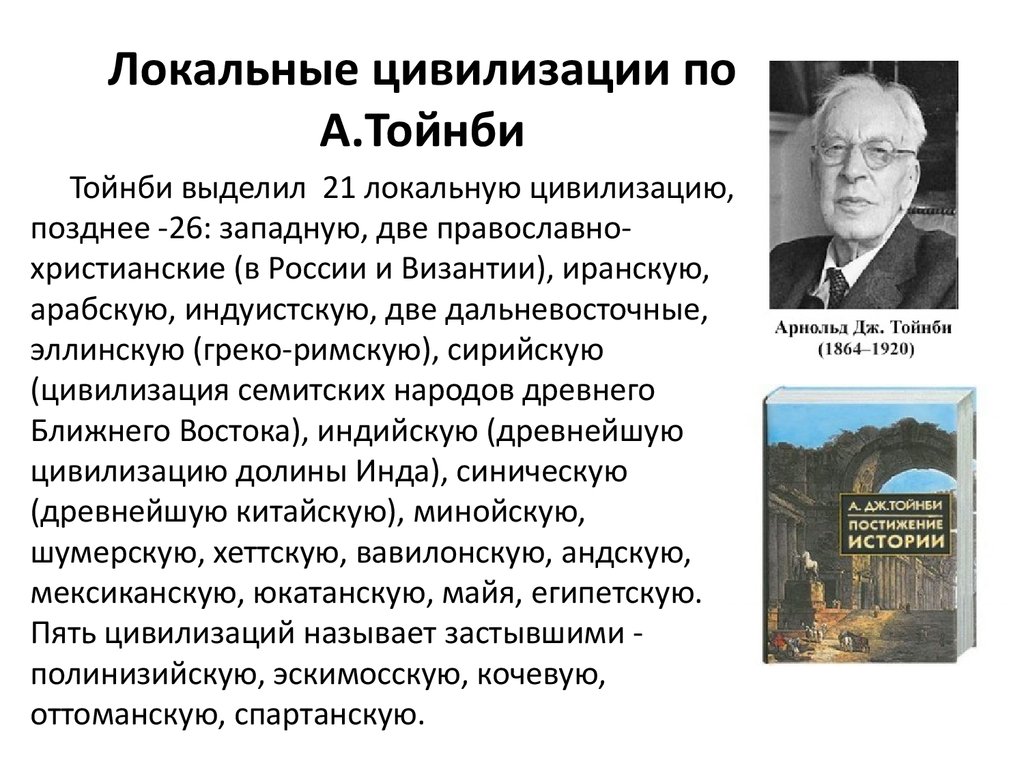 и начало оккупации
и начало оккупации
Немецкие войска овладели Полоцкой низменностью в течение трех недель после начала войны. 22 июня 1941 года группа армий «Центр», в состав которой входили пять армий, включая 2-ю и 3-ю танковые
Глава 2 Краткий обзор развития событий
Глава 2
Краткий обзор развития событий
В первоначально разработанном немцами плане войны против Советского Союза Украине отводилась второстепенная роль. Тем не менее во время наступления летом 1941 года немецкие армии и их союзники быстро оказались на западном берегу
1. Вступление и краткий обзор источников
1. Вступление и краткий обзор источников
Высадка на Керченский полуостров в ноябре 1943 года — одна из крупнейших десантных операций в истории нашего Отечества. По масштабам с ней может поспорить (да и то не во всем) только десант на тот же полуостров в 1941 году.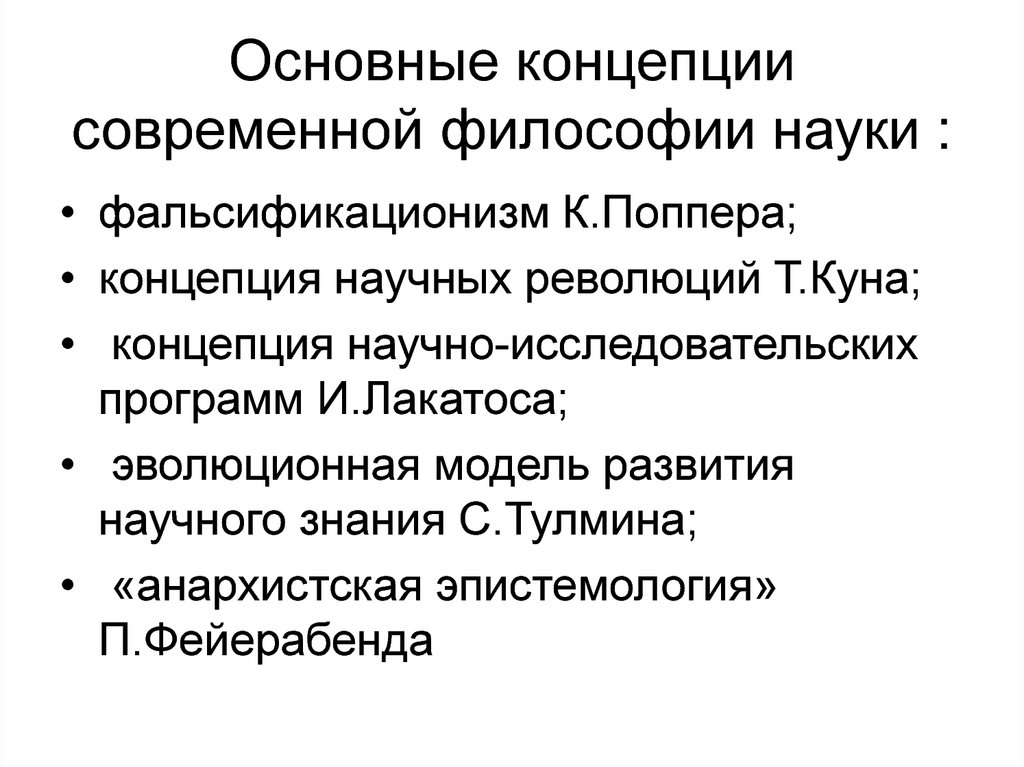 События
События
Глава 6 Краткий обзор дальнейших боевых действий до конца июля Восстановление железных дорог и изменение условий подвоза в ходе операции
Глава 6
Краткий обзор дальнейших боевых действий до конца июля
Восстановление железных дорог и изменение условий подвоза в ходе операции
С разгромом трех немецких армий в Белоруссии и с выходом советских войск в середине июля на линию, проходившую южнее Двинска,
Глава 34 Краткий обзор взглядов перипатетиков
Глава 34
Краткий обзор взглядов перипатетиков
Старая Академия развивала математическую теорию Платона; перипатетики продолжили эмпирические исследования, начатые Аристотелем. Они строго придерживались основных положений философской системы учителя, внеся в нее лишь
17.1. Краткий обзор
17.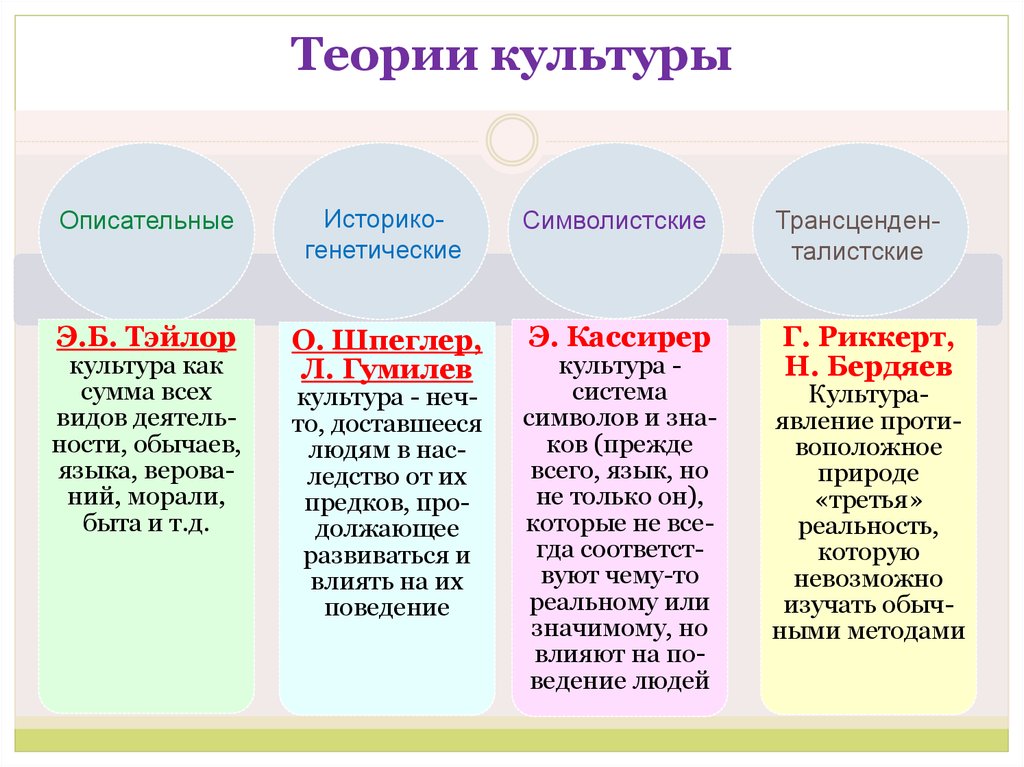 1. Краткий обзор
1. Краткий обзор
Мы уже привели аргументы в пользу того, что начало арабской истории, более точно — начало эпохи пророка Магомета, — тесно связано с библейской историей. Зададимся вопросом: почему для начала эры хиджры арабские хронологи избрали именно VII век, точнее, 622
Как возникла Русская Пирамида (краткий обзор истории возникновения Русского государства)
Как возникла Русская Пирамида
(краткий обзор истории возникновения Русского государства)
Российский жребий был жестоко
однажды брошен волей Бога:
немного западней Востока,
восточней Запада — намного.
Игорь Губерман
Сформулировав разницу между устройством Русского и
Глава I Краткий обзор уставов военно-уголовного, дисциплинарного, внутренней службы и гарнизонного
Глава I
Краткий обзор уставов военно-уголовного, дисциплинарного, внутренней службы и гарнизонного
Военно-уголовный уставПо ныне действующему в Австро-Венгрии положению военные суды делятся на три инстанции. Первую инстанцию составляют: гарнизонные суды для имперской
Первую инстанцию составляют: гарнизонные суды для имперской
Глава XIX. Краткий общий обзор – Роль флота и политика Великобритании в Революционных и Наполеоновских войнах
Глава XIX. Краткий общий обзор – Роль флота и политика Великобритании в Революционных и Наполеоновских войнах
Война Французской революции застала Великобританию неподготовленной. В течение почти десяти лет у кормила ее правления стоял младший Питт, который, хотя и
Краткий обзор содержания книги
Краткий обзор содержания книги
Эта книга начинается с исследования вопроса, который впервые привлек меня к данной теме, — о классах и о значении этого понятия в Советской России на раннем этапе ее существования. В первых трех главах (представляющих собой переработку
Краткий обзор источников
Краткий обзор источников
История антибольшевистской Северной области сравнительно хорошо документирована. Материалы деятельности Северного правительства, белого командования, органов местного самоуправления, региональных общественных организаций, политических
Материалы деятельности Северного правительства, белого командования, органов местного самоуправления, региональных общественных организаций, политических
Эволюция цивилизации | Цивилизация и культура науки: наука и формирование современности, 1795-1935 гг.
Фильтр поиска панели навигации
Oxford AcademicЦивилизация и культура науки: наука и формирование современности, 1795–1935 гг.Философия наукиКнигиЖурналы
Термин поиска мобильного микросайта
Закрыть
Фильтр поиска панели навигации
Oxford Academic Цивилизация и культура науки: наука и формирование современности, 1795-1935Философия наукиКнигиЖурналы
Термин поиска на микросайте
Расширенный поиск
Иконка Цитировать
ЦитироватьРазрешения
Делиться
- Твиттер
- Подробнее
CITE
Gaukroger, Stephen,
‘Эволюция цивилизации’
,
Цивилизация и культура науки: наука и формирование современности, 1795-1935
(
Oxford,
202020;
онлайн-издание,
Oxford Academic
, 20 февраля 2020 г.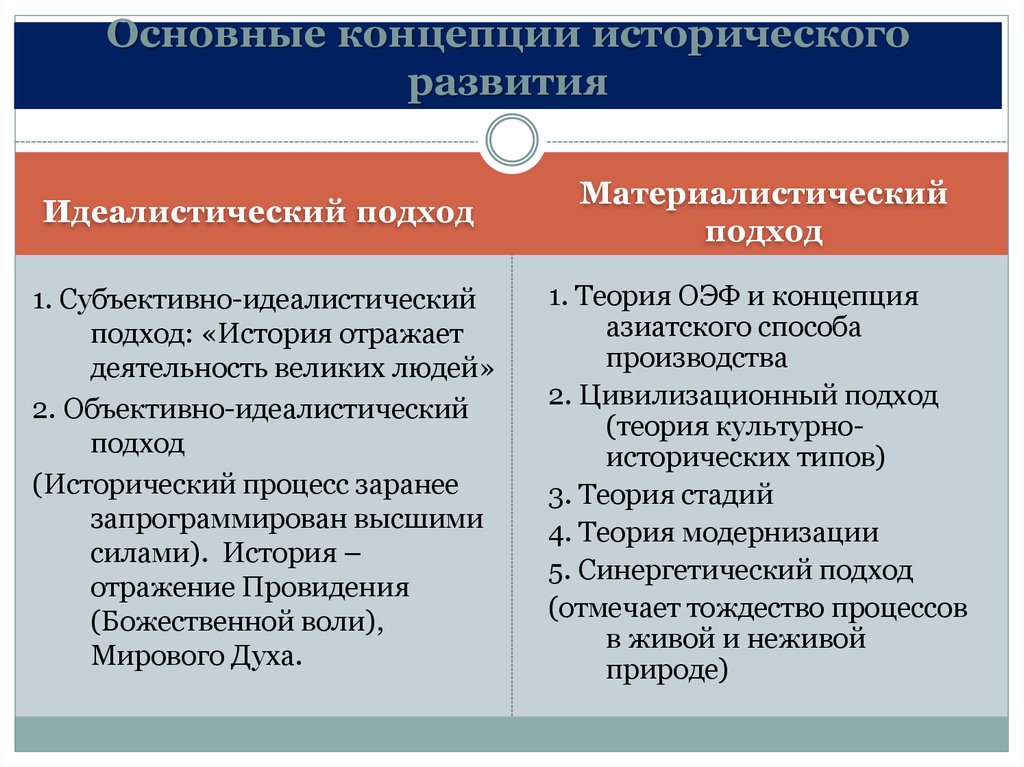
), https://doi.org/10.1093/oso/9780198849070.003.0003,
, по состоянию на 26 сентября 2022 г.
Выберите формат
Выберите format.ris (Mendeley, Papers, Zotero).enw (EndNote).bibtex (BibTex).txt (Medlars, RefWorks)
Закрыть
Фильтр поиска панели навигации
Oxford Academic Цивилизация и культура науки: наука и формирование современности, 1795-1935Философия наукиКнигиЖурналы
Термин поиска мобильного микросайта
Закрыть
Фильтр поиска панели навигации
Oxford AcademicЦивилизация и культура науки: наука и формирование современности, 1795–1935 гг.Философия наукиКнигиЖурналы
Термин поиска на микросайте
Расширенный поиск
Abstract
В конце восемнадцатого и девятнадцатого веков наука продвигалась как ключ к прогрессу, который теперь ассоциировался с цивилизацией.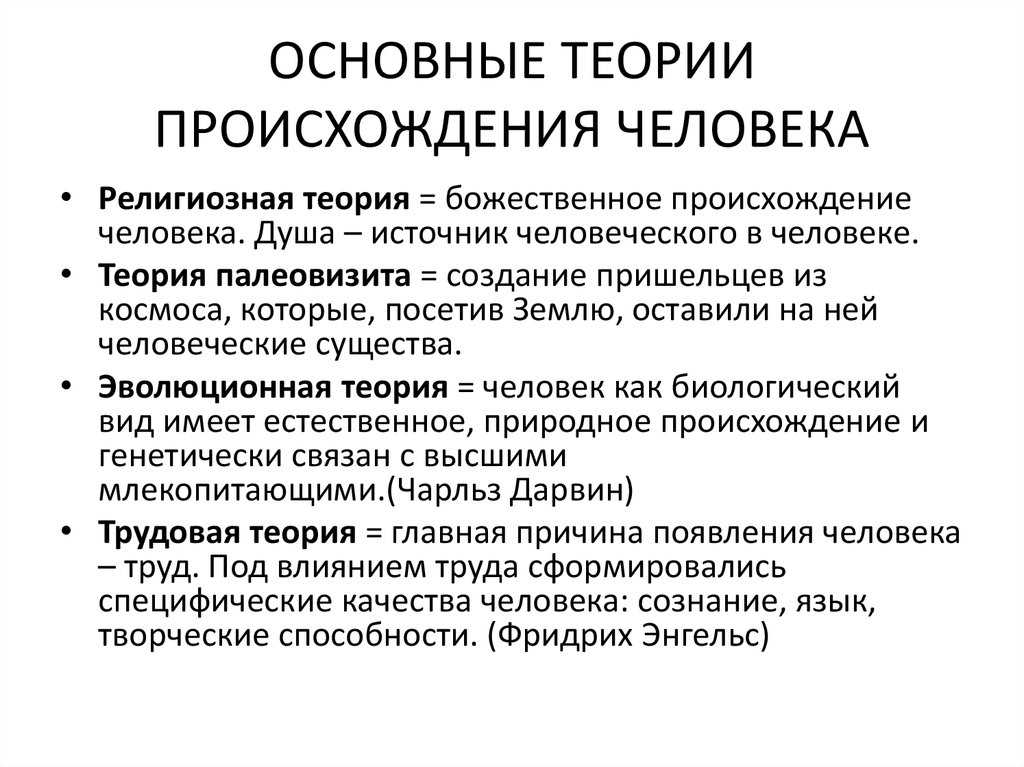 Во влиятельном труде Конта Cours de Philosophie Positive общество должно было быть реформировано на решительно научной основе, и различаются два типа развития контовской программы: явно контовская попытка Бокля поставить историческое понимание цивилизации на научную основу, и Попытка Спенсера объяснить эволюцию цивилизации биологическим путем. В этой главе рассматривается распространение этих идей на Востоке и поднимается вопрос о роли техники в развитии цивилизации.
Во влиятельном труде Конта Cours de Philosophie Positive общество должно было быть реформировано на решительно научной основе, и различаются два типа развития контовской программы: явно контовская попытка Бокля поставить историческое понимание цивилизации на научную основу, и Попытка Спенсера объяснить эволюцию цивилизации биологическим путем. В этой главе рассматривается распространение этих идей на Востоке и поднимается вопрос о роли техники в развитии цивилизации.
Ключевые слова:
наука, цивилизация, Огюст Конт, арабская рецепция дарвинизма, Генри Бокль, Герберт Спенсер, стадиальные теории истории
Предмет
Философия науки
В настоящее время у вас нет доступа к этой главе.
Войти
Получить помощь с доступом
Получить помощь с доступом
Доступ для учреждений
Доступ к контенту в Oxford Academic часто предоставляется посредством институциональных подписок и покупок.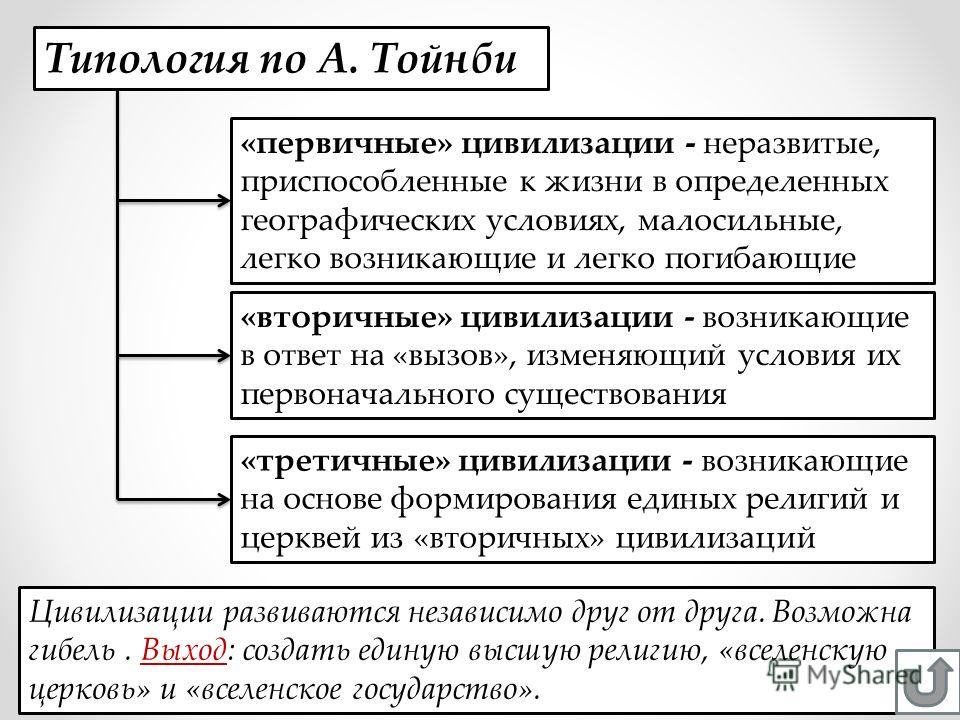 Если вы являетесь членом учреждения с активной учетной записью, вы можете получить доступ к контенту одним из следующих способов:
Если вы являетесь членом учреждения с активной учетной записью, вы можете получить доступ к контенту одним из следующих способов:
Доступ на основе IP
Как правило, доступ предоставляется через институциональную сеть к диапазону IP-адресов. Эта аутентификация происходит автоматически, и невозможно выйти из учетной записи с IP-аутентификацией.
Войдите через свое учреждение
Выберите этот вариант, чтобы получить удаленный доступ за пределами вашего учреждения. Технология Shibboleth/Open Athens используется для обеспечения единого входа между веб-сайтом вашего учебного заведения и Oxford Academic.
- Щелкните Войти через свое учреждение.
- Выберите свое учреждение из предоставленного списка, после чего вы перейдете на веб-сайт вашего учреждения для входа.
- При посещении сайта учреждения используйте учетные данные, предоставленные вашим учреждением.
 Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.
Не используйте личную учетную запись Oxford Academic. - После успешного входа вы вернетесь в Oxford Academic.
Если вашего учреждения нет в списке или вы не можете войти на веб-сайт своего учреждения, обратитесь к своему библиотекарю или администратору.
Войти с помощью читательского билета
Введите номер своего читательского билета, чтобы войти в систему. Если вы не можете войти в систему, обратитесь к своему библиотекарю.
Члены общества
Доступ члена общества к журналу достигается одним из следующих способов:
Войти через сайт сообщества
Многие общества предлагают единый вход между веб-сайтом общества и Oxford Academic. Если вы видите «Войти через сайт сообщества» на панели входа в журнале:
- Щелкните Войти через сайт сообщества.
- При посещении сайта общества используйте учетные данные, предоставленные этим обществом.
 Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.
Не используйте личную учетную запись Oxford Academic. - После успешного входа вы вернетесь в Oxford Academic.
Если у вас нет учетной записи сообщества или вы забыли свое имя пользователя или пароль, обратитесь в свое общество.
Войти с помощью личного кабинета
Некоторые общества используют личные аккаунты Oxford Academic для предоставления доступа своим членам. Смотри ниже.
Личный кабинет
Личную учетную запись можно использовать для получения оповещений по электронной почте, сохранения результатов поиска, покупки контента и активации подписок.
Некоторые общества используют личные аккаунты Oxford Academic для предоставления доступа своим членам.
Просмотр учетных записей, вошедших в систему
Щелкните значок учетной записи в правом верхнем углу, чтобы:
- Просмотр вашей личной учетной записи и доступ к функциям управления учетной записью.

- Просмотр институциональных учетных записей, предоставляющих доступ.
Выполнен вход, но нет доступа к содержимому
Oxford Academic предлагает широкий ассортимент продукции. Подписка учреждения может не распространяться на контент, к которому вы пытаетесь получить доступ. Если вы считаете, что у вас должен быть доступ к этому контенту, обратитесь к своему библиотекарю.
Ведение счетов организаций
Для библиотекарей и администраторов ваша личная учетная запись также предоставляет доступ к управлению институциональной учетной записью. Здесь вы найдете параметры для просмотра и активации подписок, управления институциональными настройками и параметрами доступа, доступа к статистике использования и т. д.
Покупка
Наши книги можно приобрести по подписке или приобрести в библиотеках и учреждениях.
Информация о покупке
Ключевые компоненты цивилизации | Национальное географическое общество
Цивилизация описывает сложный образ жизни, который возник, когда люди начали развивать сеть городских поселений.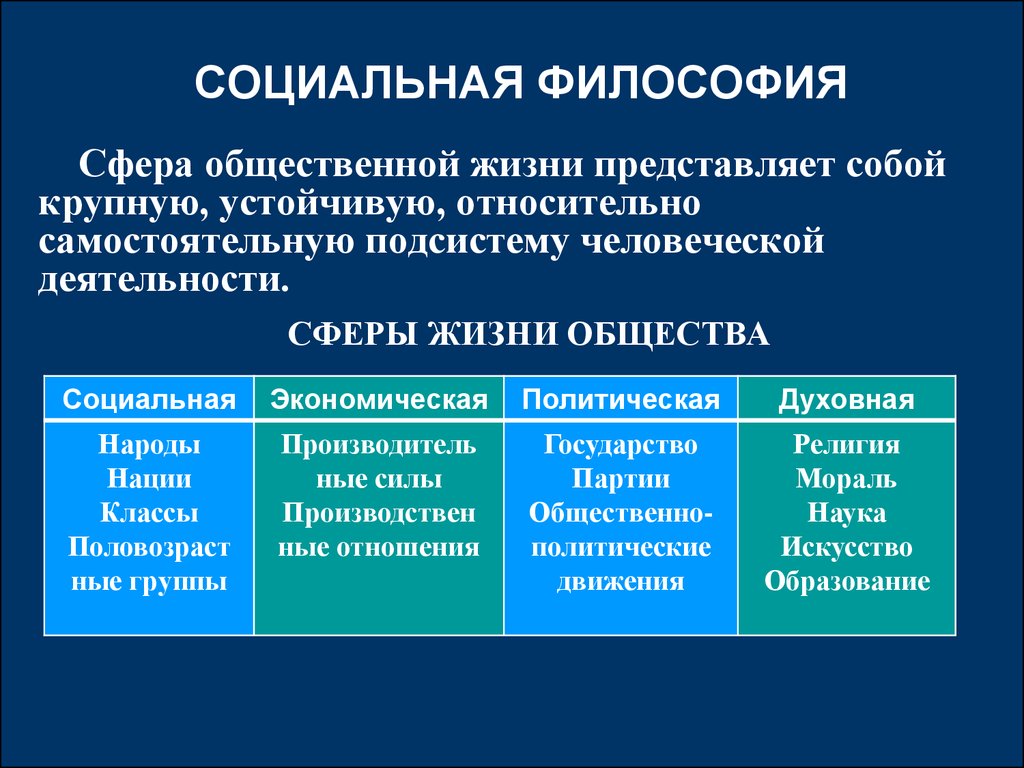 Самые ранние цивилизации возникли между 4000 и 3000 годами до нашей эры, когда рост сельского хозяйства и торговли позволил людям иметь излишки продовольствия и экономическую стабильность. Многим людям больше не нужно было заниматься сельским хозяйством, что позволило разнообразным профессиям и интересам процветать на относительно ограниченной территории. Первые цивилизации появились в Месопотамии (на территории современного Ирака), а затем в Египте. Цивилизации процветали в долине Инда примерно к 2500 г. до н.э., в Китае примерно к 1500 г. до н.э. и в Центральной Америке (на территории современной Мексики) примерно к 1200 г. до н.э. Цивилизации в конечном итоге развились на всех континентах, кроме Антарктиды. Характеристики цивилизации Все цивилизации имеют определенные характеристики. К ним относятся: (1) крупные населенные пункты; (2) монументальная архитектура и уникальные художественные стили; (3) общие коммуникативные стратегии; (4) системы управления территориями; (5) сложное разделение труда; и (6) деление людей на социальные и экономические классы.
Самые ранние цивилизации возникли между 4000 и 3000 годами до нашей эры, когда рост сельского хозяйства и торговли позволил людям иметь излишки продовольствия и экономическую стабильность. Многим людям больше не нужно было заниматься сельским хозяйством, что позволило разнообразным профессиям и интересам процветать на относительно ограниченной территории. Первые цивилизации появились в Месопотамии (на территории современного Ирака), а затем в Египте. Цивилизации процветали в долине Инда примерно к 2500 г. до н.э., в Китае примерно к 1500 г. до н.э. и в Центральной Америке (на территории современной Мексики) примерно к 1200 г. до н.э. Цивилизации в конечном итоге развились на всех континентах, кроме Антарктиды. Характеристики цивилизации Все цивилизации имеют определенные характеристики. К ним относятся: (1) крупные населенные пункты; (2) монументальная архитектура и уникальные художественные стили; (3) общие коммуникативные стратегии; (4) системы управления территориями; (5) сложное разделение труда; и (6) деление людей на социальные и экономические классы.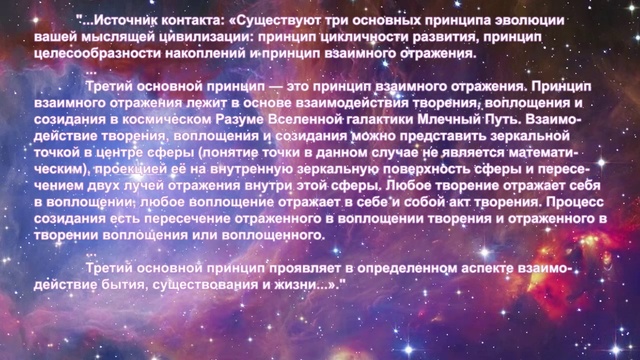 Городские районы Крупные населенные пункты или городские районы (1) позволяют цивилизациям развиваться, хотя люди, живущие за пределами этих городских центров, по-прежнему являются частью цивилизации этого региона. Сельскими жителями цивилизаций могут быть фермеры, рыбаки и торговцы, которые регулярно продают свои товары и услуги городским жителям. Например, в огромном городском центре Теотиуакан на территории современной Мексики между 300 и 600 годами нашей эры проживало до 200 000 жителей. Развитие цивилизации Теотиуакано стало возможным отчасти благодаря богатым сельскохозяйственным угодьям, окружающим город. По мере того как земля возделывалась, меньшее количество фермеров могло поставлять большее количество основных продуктов питания, таких как кукуруза и бобы, большему количеству людей. Торговля также сыграла свою роль в городском развитии Теотиуакана. Большая часть богатства и власти Теотиуакана была связана с раскопками и торговлей богатыми месторождениями обсидиана вокруг города.
Городские районы Крупные населенные пункты или городские районы (1) позволяют цивилизациям развиваться, хотя люди, живущие за пределами этих городских центров, по-прежнему являются частью цивилизации этого региона. Сельскими жителями цивилизаций могут быть фермеры, рыбаки и торговцы, которые регулярно продают свои товары и услуги городским жителям. Например, в огромном городском центре Теотиуакан на территории современной Мексики между 300 и 600 годами нашей эры проживало до 200 000 жителей. Развитие цивилизации Теотиуакано стало возможным отчасти благодаря богатым сельскохозяйственным угодьям, окружающим город. По мере того как земля возделывалась, меньшее количество фермеров могло поставлять большее количество основных продуктов питания, таких как кукуруза и бобы, большему количеству людей. Торговля также сыграла свою роль в городском развитии Теотиуакана. Большая часть богатства и власти Теотиуакана была связана с раскопками и торговлей богатыми месторождениями обсидиана вокруг города. Обсидиан — твердая вулканическая порода, которая высоко ценилась как режущий инструмент. Купцы Теотиуакано продавали (экспортировали) обсидиан окружающим культурам в обмен на товары и услуги, импортируемые в поселения Теотиуакано. Памятники Все цивилизации стараются сохранить свое наследие, строя большие памятники и сооружения (2). Это так же верно сегодня, как и тысячи лет назад. Например, древние памятники в Великом Зимбабве до сих пор постоянно используются как символ политической власти в современной стране Зимбабве. Великий Зимбабве, построенный между 1100 и 1450 годами, описывает руины столицы Королевства Зимбабве. На пике своего развития Большой Зимбабве был населен более чем 10 000 человек и был частью торговой сети, которая простиралась от Магриба через восточное побережье Африки и на восток до Индии и Китая. Великий Зимбабве – свидетельство утонченности и изобретательности предков местного народа шона. Такие политики, как Роберт Мугабе, президент, руководивший Зимбабве почти 40 лет в 20-м и 21-м веках, построили всю свою политическую идентичность, ассоциируя себя с монументальной архитектурой древней цивилизации.
Обсидиан — твердая вулканическая порода, которая высоко ценилась как режущий инструмент. Купцы Теотиуакано продавали (экспортировали) обсидиан окружающим культурам в обмен на товары и услуги, импортируемые в поселения Теотиуакано. Памятники Все цивилизации стараются сохранить свое наследие, строя большие памятники и сооружения (2). Это так же верно сегодня, как и тысячи лет назад. Например, древние памятники в Великом Зимбабве до сих пор постоянно используются как символ политической власти в современной стране Зимбабве. Великий Зимбабве, построенный между 1100 и 1450 годами, описывает руины столицы Королевства Зимбабве. На пике своего развития Большой Зимбабве был населен более чем 10 000 человек и был частью торговой сети, которая простиралась от Магриба через восточное побережье Африки и на восток до Индии и Китая. Великий Зимбабве – свидетельство утонченности и изобретательности предков местного народа шона. Такие политики, как Роберт Мугабе, президент, руководивший Зимбабве почти 40 лет в 20-м и 21-м веках, построили всю свою политическую идентичность, ассоциируя себя с монументальной архитектурой древней цивилизации.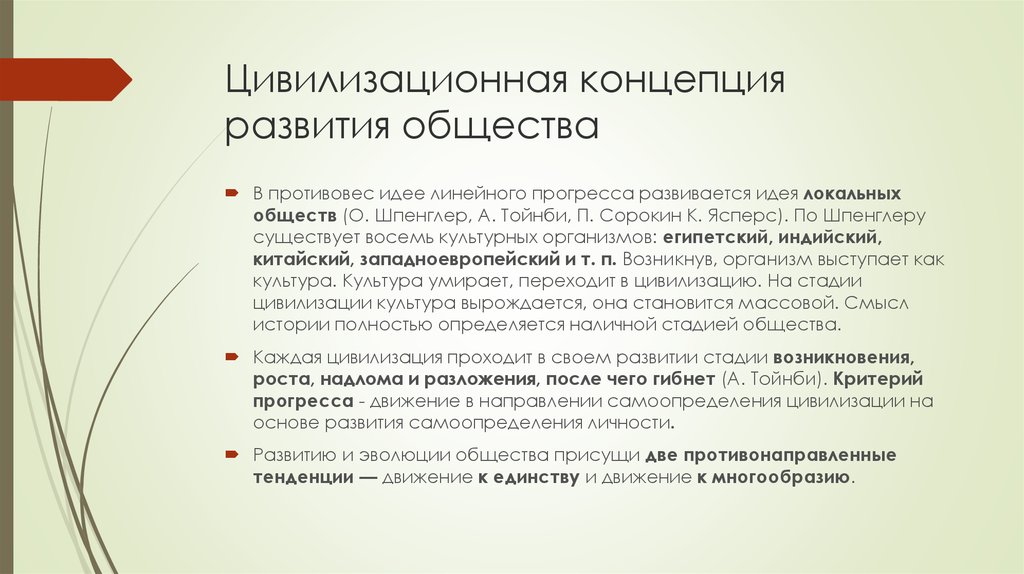 Здания — не единственные памятники, определяющие цивилизации. Особый художественный стиль Великого Зимбабве включал изображения местных животных, вырезанные из мыльного камня. Например, стилизованные каменные скульптуры, известные как «Птицы Зимбабве», остаются эмблемой Зимбабве, они появляются на национальном флаге, валюте и гербах. Совместное общение Совместное общение (3) — еще один элемент, общий для всех цивилизаций. Совместное общение может включать разговорный язык; алфавиты; числовые системы; знаки, идеи и символы; и иллюстрации и представления. Общая коммуникация позволяет развивать инфраструктуру, необходимую для технологий, торговли, культурного обмена и правительства, и распространять ее по всей цивилизации. У цивилизации инков, например, не было письменности, о которой мы знаем, но она была сложной.Система бухгалтерского учета 0073 khipu позволила правительству проводить переписи своего населения и производства на обширном участке Андских гор. Кипу — это записывающее устройство, состоящее из ряда нитей, завязанных узлами определенного узора и цвета.
Здания — не единственные памятники, определяющие цивилизации. Особый художественный стиль Великого Зимбабве включал изображения местных животных, вырезанные из мыльного камня. Например, стилизованные каменные скульптуры, известные как «Птицы Зимбабве», остаются эмблемой Зимбабве, они появляются на национальном флаге, валюте и гербах. Совместное общение Совместное общение (3) — еще один элемент, общий для всех цивилизаций. Совместное общение может включать разговорный язык; алфавиты; числовые системы; знаки, идеи и символы; и иллюстрации и представления. Общая коммуникация позволяет развивать инфраструктуру, необходимую для технологий, торговли, культурного обмена и правительства, и распространять ее по всей цивилизации. У цивилизации инков, например, не было письменности, о которой мы знаем, но она была сложной.Система бухгалтерского учета 0073 khipu позволила правительству проводить переписи своего населения и производства на обширном участке Андских гор. Кипу — это записывающее устройство, состоящее из ряда нитей, завязанных узлами определенного узора и цвета.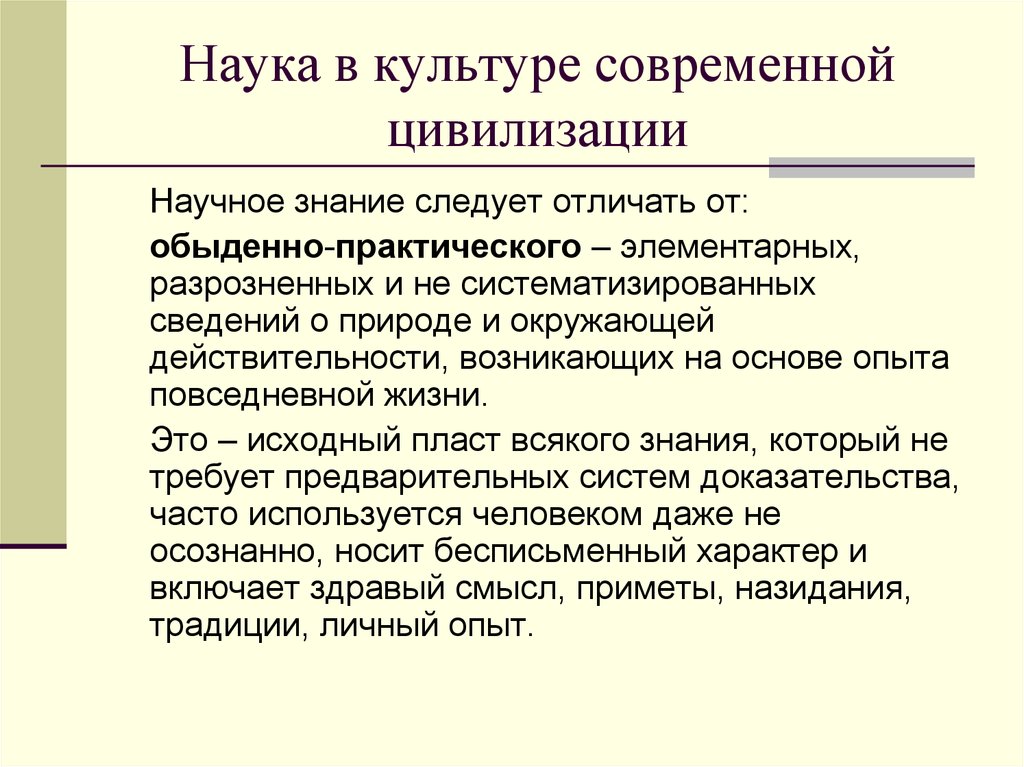 В частности, письменный язык позволяет цивилизациям записывать свою собственную историю и повседневные события, что имеет решающее значение для понимания древних культур. Древнейший известный в мире письменный язык — шумерский, возникший в Месопотамии около 3100 г. до н. э. Наиболее известная форма раннего шумерского письма называлась клинописью и состояла из различных наборов клиновидных (треугольных) форм. Самая ранняя шумерская письменность была записью. Точно так же, как письменные записи современных цивилизаций, шумерская клинопись отслеживала налоги, счета за продукты и законы для таких вещей, как воровство. Письменность была ключевой частью общего общения во времена Золотого века ислама, процветавшего в Южной Европе, Северной Африке и Западной Азии с седьмого по тринадцатый века. Так называемые «арабские цифры» и арабский язык были общими средствами коммуникации, которые позволили различным культурам арабского мира внести свой вклад в ослепительные достижения в области математики, науки, техники и искусства.
В частности, письменный язык позволяет цивилизациям записывать свою собственную историю и повседневные события, что имеет решающее значение для понимания древних культур. Древнейший известный в мире письменный язык — шумерский, возникший в Месопотамии около 3100 г. до н. э. Наиболее известная форма раннего шумерского письма называлась клинописью и состояла из различных наборов клиновидных (треугольных) форм. Самая ранняя шумерская письменность была записью. Точно так же, как письменные записи современных цивилизаций, шумерская клинопись отслеживала налоги, счета за продукты и законы для таких вещей, как воровство. Письменность была ключевой частью общего общения во времена Золотого века ислама, процветавшего в Южной Европе, Северной Африке и Западной Азии с седьмого по тринадцатый века. Так называемые «арабские цифры» и арабский язык были общими средствами коммуникации, которые позволили различным культурам арабского мира внести свой вклад в ослепительные достижения в области математики, науки, техники и искусства. Инфраструктура и администрация Все цивилизации полагаются на государственное управление — бюрократию. (4) Возможно, ни одна цивилизация не иллюстрирует это лучше, чем древний Рим. Само слово «цивилизация» происходит от латинского слова civis, означающего «гражданин». Латынь была языком Древнего Рима, территория которого простиралась от бассейна Средиземного моря до частей Великобритании на севере и Черного моря на востоке. Чтобы править такой большой территорией, римлянам, обосновавшимся на территории нынешней центральной Италии, требовалась эффективная система государственного управления и инфраструктура. Римляне использовали различные методы управления своей республикой, а затем и империей. Инженерное дело, например, было ключевой частью римской администрации. Римляне построили сеть дорог, чтобы сообщение между отдаленными территориями было максимально эффективным. Дороги также значительно облегчили путешествие римских военных. Римляне везде строили сооружения своей цивилизации: например, акведуки снабжали города пресной водой для улучшения санитарии и гигиены.
Инфраструктура и администрация Все цивилизации полагаются на государственное управление — бюрократию. (4) Возможно, ни одна цивилизация не иллюстрирует это лучше, чем древний Рим. Само слово «цивилизация» происходит от латинского слова civis, означающего «гражданин». Латынь была языком Древнего Рима, территория которого простиралась от бассейна Средиземного моря до частей Великобритании на севере и Черного моря на востоке. Чтобы править такой большой территорией, римлянам, обосновавшимся на территории нынешней центральной Италии, требовалась эффективная система государственного управления и инфраструктура. Римляне использовали различные методы управления своей республикой, а затем и империей. Инженерное дело, например, было ключевой частью римской администрации. Римляне построили сеть дорог, чтобы сообщение между отдаленными территориями было максимально эффективным. Дороги также значительно облегчили путешествие римских военных. Римляне везде строили сооружения своей цивилизации: например, акведуки снабжали города пресной водой для улучшения санитарии и гигиены.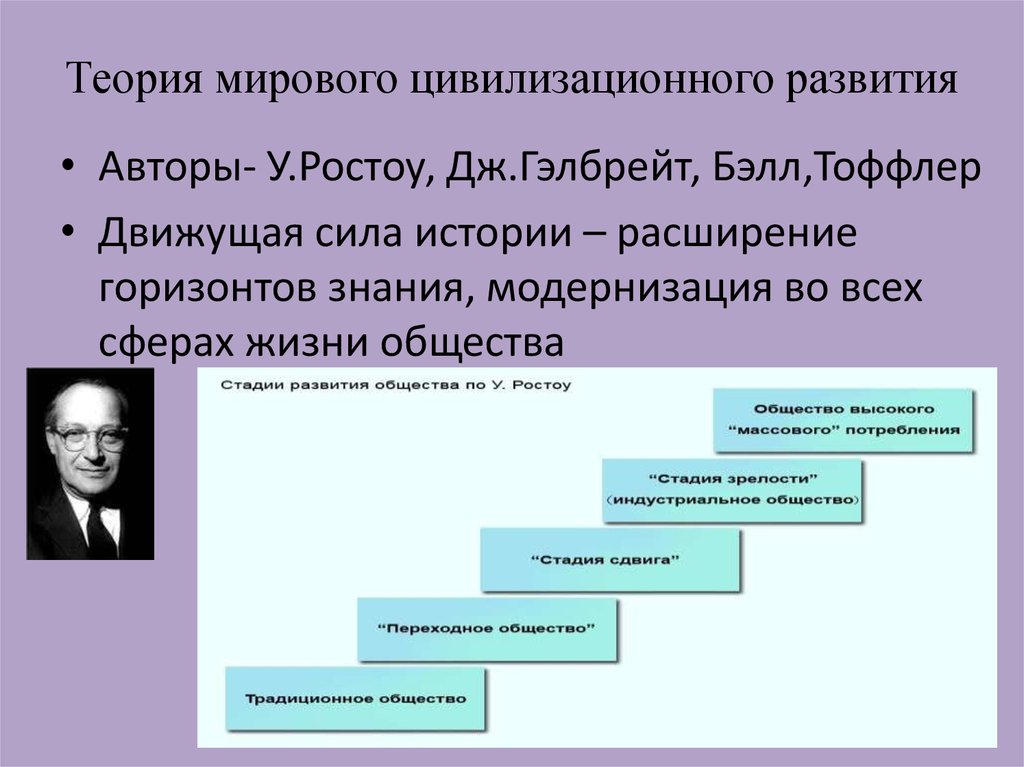 Язык также играл роль в римской инфраструктуре. Римляне распространили латинский язык по всей южной Европе. Так называемые «романские языки» (испанский, французский, португальский, румынский, каталонский и итальянский) называются так потому, что все они произошли от римского языка: латыни. Наличие похожего языка облегчило Риму общение и лидерство на его обширных территориях. Римские лидеры полагались на ряд юридических кодексов для управления. Эти кодексы помогли структурировать законы между различными частями римской территории, а также между богатыми и бедными, мужчинами и женщинами, рабами и свободными. Римские законы включали ограничения на брак, владение землей и доступ к таким профессиям, как священство. Одним из наиболее устойчивых вкладов Рима в западную цивилизацию было создание самой правовой культуры. Римское право было в значительной степени публичным, и юристы создали такие формальности, как юридический язык и процедуру, которые определяли европейское право на протяжении столетий.
Язык также играл роль в римской инфраструктуре. Римляне распространили латинский язык по всей южной Европе. Так называемые «романские языки» (испанский, французский, португальский, румынский, каталонский и итальянский) называются так потому, что все они произошли от римского языка: латыни. Наличие похожего языка облегчило Риму общение и лидерство на его обширных территориях. Римские лидеры полагались на ряд юридических кодексов для управления. Эти кодексы помогли структурировать законы между различными частями римской территории, а также между богатыми и бедными, мужчинами и женщинами, рабами и свободными. Римские законы включали ограничения на брак, владение землей и доступ к таким профессиям, как священство. Одним из наиболее устойчивых вкладов Рима в западную цивилизацию было создание самой правовой культуры. Римское право было в значительной степени публичным, и юристы создали такие формальности, как юридический язык и процедуру, которые определяли европейское право на протяжении столетий.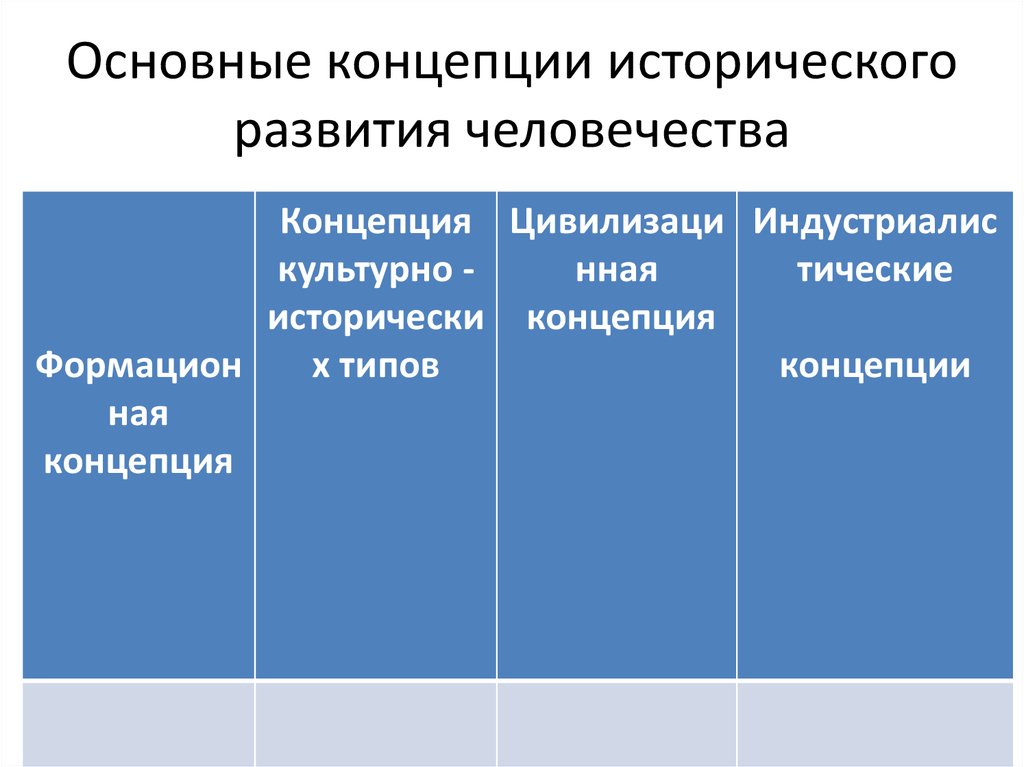 Фактически, «римское право» описывает правовую систему, использовавшуюся в Западной Европе на протяжении 18 века. Наконец, римляне использовали местных лидеров, как и римлян, для отправления правосудия на своих территориях. Жители были лучше знакомы со своими лидерами и с большей вероятностью следили за их объявлениями. Например, израильские лидеры работали с римскими властями на римской территории Палестины, в то время как британские лидеры часто работали с римлянами на острове Великобритании. Некоторые люди, родившиеся на римских территориях, со временем стали римскими императорами: например, император Константин родился на территории современной Сербии; император Адриан, возможно, родился на территории современной Испании. Это взаимодействие уменьшило конфликт между Римом и его территориями. Разделение труда Цивилизации характеризуются сложным разделением труда (5). Это означает, что разные люди выполняют специализированные задачи. В чисто сельскохозяйственном обществе члены сообщества в значительной степени самодостаточны и могут обеспечить себя едой, кровом и одеждой.
Фактически, «римское право» описывает правовую систему, использовавшуюся в Западной Европе на протяжении 18 века. Наконец, римляне использовали местных лидеров, как и римлян, для отправления правосудия на своих территориях. Жители были лучше знакомы со своими лидерами и с большей вероятностью следили за их объявлениями. Например, израильские лидеры работали с римскими властями на римской территории Палестины, в то время как британские лидеры часто работали с римлянами на острове Великобритании. Некоторые люди, родившиеся на римских территориях, со временем стали римскими императорами: например, император Константин родился на территории современной Сербии; император Адриан, возможно, родился на территории современной Испании. Это взаимодействие уменьшило конфликт между Римом и его территориями. Разделение труда Цивилизации характеризуются сложным разделением труда (5). Это означает, что разные люди выполняют специализированные задачи. В чисто сельскохозяйственном обществе члены сообщества в значительной степени самодостаточны и могут обеспечить себя едой, кровом и одеждой.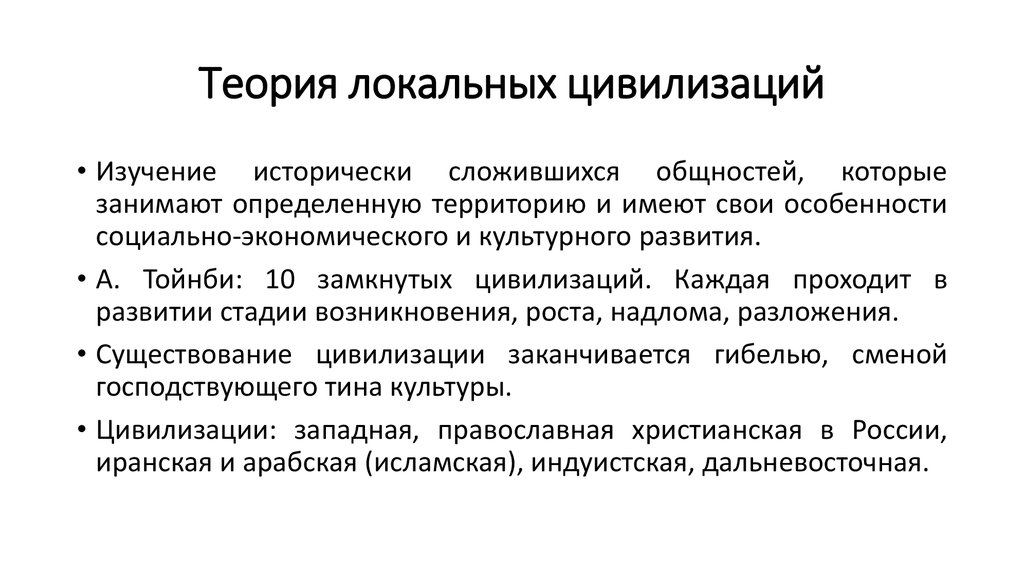 В сложной цивилизации фермеры могут выращивать один тип сельскохозяйственных культур и зависеть от других людей в отношении других продуктов питания, одежды, крова и информации. Цивилизации, зависящие от торговли, особенно отмечены разделением труда. Город Тимбукту на территории современного Мали был важным торговым центром для нескольких африканских цивилизаций. Жители Тимбукту специализировались на торговле такими товарами, как золото, слоновая кость или рабы. Другие жители предоставляли пищу или кров торговым караванам, шедшим на верблюдах из пустыни Сахара. Городской центр Тимбукту также был центром обучения. В его разделении труда участвовали не только купцы, но и врачи, религиозные деятели и художники. Структура классов Последним элементом, который является ключевым для развития цивилизаций, является разделение людей на классы (6). Это сложная идея, которую можно разбить на две части: доход и тип выполняемой работы. Смена классов традиционно была сложной задачей и происходила на протяжении поколений.
В сложной цивилизации фермеры могут выращивать один тип сельскохозяйственных культур и зависеть от других людей в отношении других продуктов питания, одежды, крова и информации. Цивилизации, зависящие от торговли, особенно отмечены разделением труда. Город Тимбукту на территории современного Мали был важным торговым центром для нескольких африканских цивилизаций. Жители Тимбукту специализировались на торговле такими товарами, как золото, слоновая кость или рабы. Другие жители предоставляли пищу или кров торговым караванам, шедшим на верблюдах из пустыни Сахара. Городской центр Тимбукту также был центром обучения. В его разделении труда участвовали не только купцы, но и врачи, религиозные деятели и художники. Структура классов Последним элементом, который является ключевым для развития цивилизаций, является разделение людей на классы (6). Это сложная идея, которую можно разбить на две части: доход и тип выполняемой работы. Смена классов традиционно была сложной задачей и происходила на протяжении поколений. Классы могут означать группы людей, разделенные по их доходам. Это подразделение иногда характеризуется как «экономический класс». Современная западная цивилизация часто делит экономические классы на богатых, средний класс и бедных. В средневековых цивилизациях Европы было меньше экономических классов. Короли и королевы имели огромное количество денег и земли. Крепостные, или люди, которые обрабатывали землю, почти ничего не имели. В конце концов, торговый экономический класс развился. Класс также может относиться к типу работы, которую выполняют люди. Есть много делений на социальные классы. Социальный класс часто ассоциируется с экономическим классом, но не определяется им строго. В древней китайской цивилизации существовало четыре основных типа социальных классов. Ученые и политические лидеры (известные как ши) были самым могущественным социальным классом. Фермеры и сельскохозяйственные рабочие (нонг) были следующей самой могущественной группой. Художники (гонг), , изготовлявшие все, от подков до шелковых мантий, были следующим классом общества.
Классы могут означать группы людей, разделенные по их доходам. Это подразделение иногда характеризуется как «экономический класс». Современная западная цивилизация часто делит экономические классы на богатых, средний класс и бедных. В средневековых цивилизациях Европы было меньше экономических классов. Короли и королевы имели огромное количество денег и земли. Крепостные, или люди, которые обрабатывали землю, почти ничего не имели. В конце концов, торговый экономический класс развился. Класс также может относиться к типу работы, которую выполняют люди. Есть много делений на социальные классы. Социальный класс часто ассоциируется с экономическим классом, но не определяется им строго. В древней китайской цивилизации существовало четыре основных типа социальных классов. Ученые и политические лидеры (известные как ши) были самым могущественным социальным классом. Фермеры и сельскохозяйственные рабочие (нонг) были следующей самой могущественной группой. Художники (гонг), , изготовлявшие все, от подков до шелковых мантий, были следующим классом общества.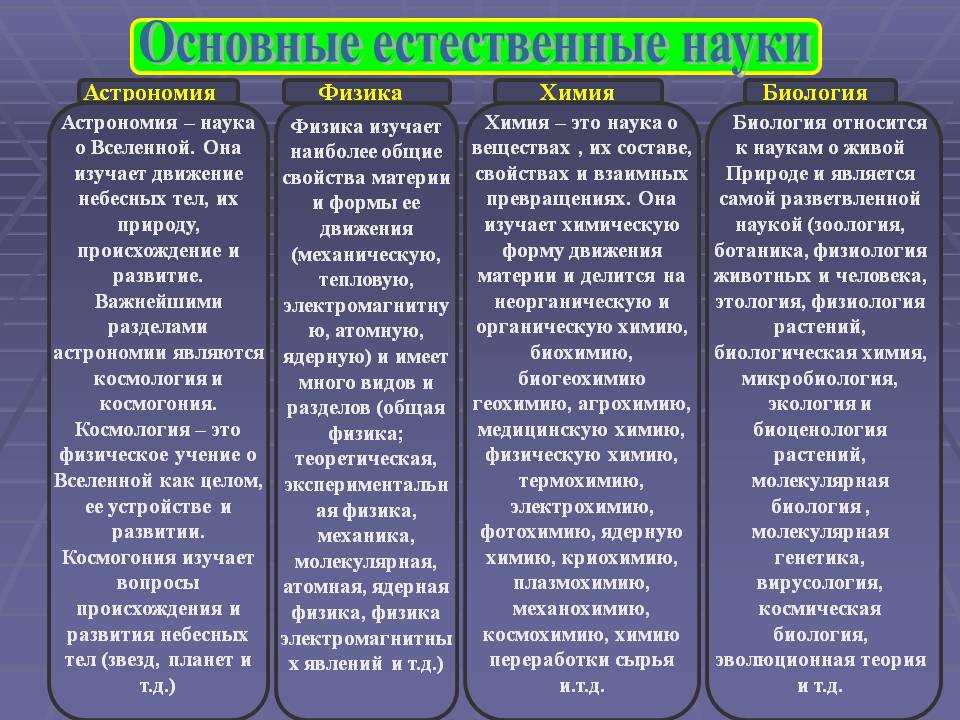 В нижней части социальных классов были купцы и торговцы, которые покупали и продавали товары и услуги. Эти торговцы, известные как шан, , часто были намного богаче других классов, но имели более низкий социальный статус. Развитие Цивилизации Цивилизации расширяются за счет торговли, конфликтов и исследований. Обычно все три элемента должны присутствовать, чтобы цивилизация росла и оставалась стабильной в течение длительного периода времени. Физическая и человеческая география Юго-Восточной Азии позволила этим атрибутам развиться, например, в кхмерской цивилизации. Кхмеры процветали на территории нынешних Камбоджи, Таиланда, Лаоса, Вьетнама и Мьянмы между 800 и 1400 гг. , совокупность как сухопутных, так и морских торговых путей. Шелковый путь связал рынки специй и шелка Азии с торговцами Европы. Обширная сеть водных путей в Юго-Восточной Азии способствовала торговле, а столица кхмеров Ангкор была построена на берегу крупнейшего в Юго-Восточной Азии пресноводного озера Тонлесап.
В нижней части социальных классов были купцы и торговцы, которые покупали и продавали товары и услуги. Эти торговцы, известные как шан, , часто были намного богаче других классов, но имели более низкий социальный статус. Развитие Цивилизации Цивилизации расширяются за счет торговли, конфликтов и исследований. Обычно все три элемента должны присутствовать, чтобы цивилизация росла и оставалась стабильной в течение длительного периода времени. Физическая и человеческая география Юго-Восточной Азии позволила этим атрибутам развиться, например, в кхмерской цивилизации. Кхмеры процветали на территории нынешних Камбоджи, Таиланда, Лаоса, Вьетнама и Мьянмы между 800 и 1400 гг. , совокупность как сухопутных, так и морских торговых путей. Шелковый путь связал рынки специй и шелка Азии с торговцами Европы. Обширная сеть водных путей в Юго-Восточной Азии способствовала торговле, а столица кхмеров Ангкор была построена на берегу крупнейшего в Юго-Восточной Азии пресноводного озера Тонлесап.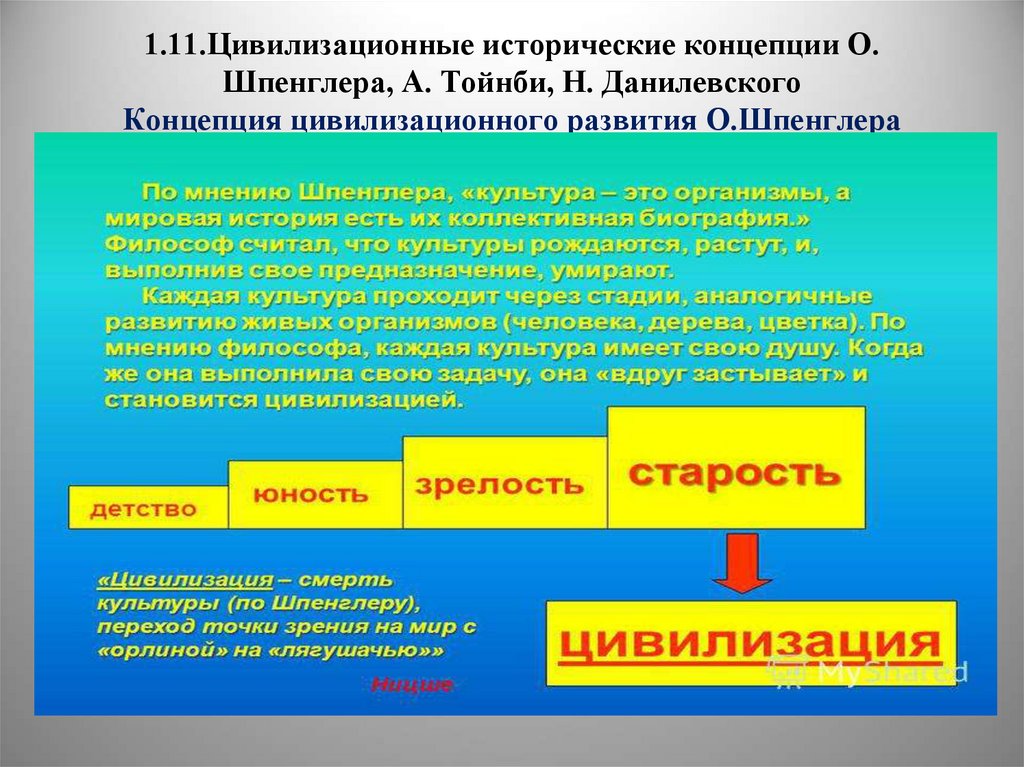 Вытекающая река Тонлесап является притоком могучей реки Меконг, которая соединяет Юго-Восточную Азию с Тибетским плато на севере и Южно-Китайским морем на юге. Помимо материальных благ кхмерская цивилизация способствовала мощной торговле идеями. В частности, кхмеры сыграли важную роль в распространении влияния буддийской и индуистской культур с Индийского субконтинента на Юго-Восточную и Восточную Азию. Конфликт Основные конфликты кхмерской цивилизации велись с соседними общинами — чамами, вьетнамцами и тайцами. Чам представляли собой совокупность королевств на территории современного центрального и южного Вьетнама, в то время как древнее вьетнамское влияние распространялось на территорию современного северного Вьетнама. Тайские королевства, такие как Сукотай и Аюттхая, процветали на территории нынешних Таиланда, Камбоджи и Малайзии. Кхмерская цивилизация была основана на последовательном сопротивлении политическому давлению со стороны чамов и вьетнамцев, но в конечном итоге не выдержала давления со стороны тайских цивилизаций.
Вытекающая река Тонлесап является притоком могучей реки Меконг, которая соединяет Юго-Восточную Азию с Тибетским плато на севере и Южно-Китайским морем на юге. Помимо материальных благ кхмерская цивилизация способствовала мощной торговле идеями. В частности, кхмеры сыграли важную роль в распространении влияния буддийской и индуистской культур с Индийского субконтинента на Юго-Восточную и Восточную Азию. Конфликт Основные конфликты кхмерской цивилизации велись с соседними общинами — чамами, вьетнамцами и тайцами. Чам представляли собой совокупность королевств на территории современного центрального и южного Вьетнама, в то время как древнее вьетнамское влияние распространялось на территорию современного северного Вьетнама. Тайские королевства, такие как Сукотай и Аюттхая, процветали на территории нынешних Таиланда, Камбоджи и Малайзии. Кхмерская цивилизация была основана на последовательном сопротивлении политическому давлению со стороны чамов и вьетнамцев, но в конечном итоге не выдержала давления со стороны тайских цивилизаций.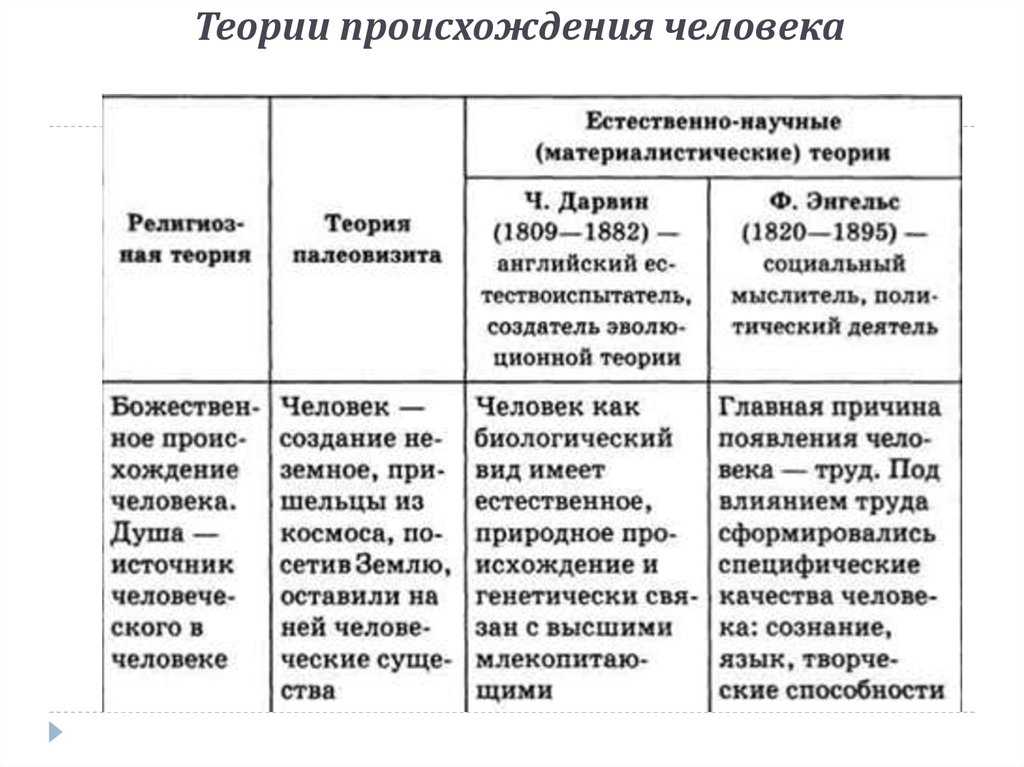 Тысячи тайских народов мигрировали с севера (нынешний регион Юньнань в Китае), основав небольшие королевства на юго-западе Кхмерской империи. В конце концов, эти королевства стали достаточно сильными, чтобы аннексировать территорию кхмеров, что привело к завоеванию Аюттайей столицы кхмеров Ангкора в 1431 году9.0073 Исследования и инновации Кхмерская цивилизация в значительной степени полагалась на выращивание риса и разработала сложную ирригационную систему, чтобы использовать реки и водно-болотные угодья, разбросанные по их территории. Эффективная серия оросительных каналов и водохранилищ, называемая бараями, , позволила меньшему количеству фермеров производить больше риса. Это, в свою очередь, позволило большему количеству людей вести несельскохозяйственный образ жизни и мигрировать в крупные городские районы, такие как Ангкор. Ангкор, столица древней кхмерской цивилизации, является домом для одного из крупнейших и наиболее характерных религиозных памятников в мире — Ангкор-Ват.
Тысячи тайских народов мигрировали с севера (нынешний регион Юньнань в Китае), основав небольшие королевства на юго-западе Кхмерской империи. В конце концов, эти королевства стали достаточно сильными, чтобы аннексировать территорию кхмеров, что привело к завоеванию Аюттайей столицы кхмеров Ангкора в 1431 году9.0073 Исследования и инновации Кхмерская цивилизация в значительной степени полагалась на выращивание риса и разработала сложную ирригационную систему, чтобы использовать реки и водно-болотные угодья, разбросанные по их территории. Эффективная серия оросительных каналов и водохранилищ, называемая бараями, , позволила меньшему количеству фермеров производить больше риса. Это, в свою очередь, позволило большему количеству людей вести несельскохозяйственный образ жизни и мигрировать в крупные городские районы, такие как Ангкор. Ангкор, столица древней кхмерской цивилизации, является домом для одного из крупнейших и наиболее характерных религиозных памятников в мире — Ангкор-Ват.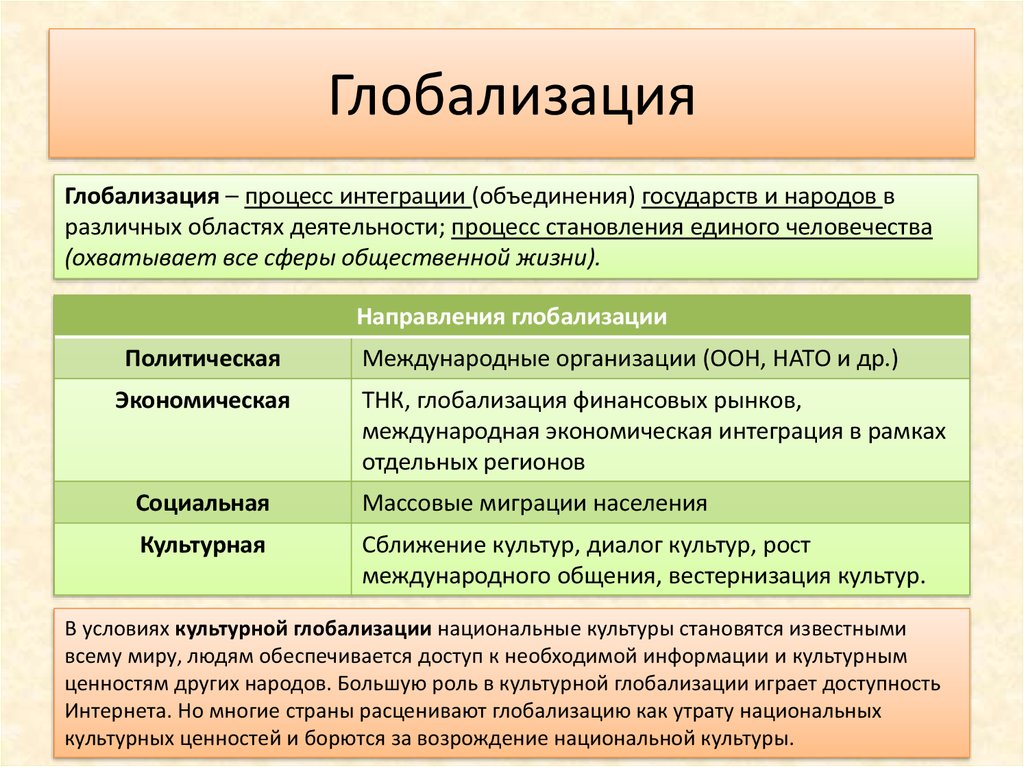 Первоначально Ангкор-Ват был построен как ряд святынь индуистского бога Вишну в начале 12 века, хотя менее ста лет спустя он стал буддийским храмовым комплексом. Ангкор-Ват и родственный ему комплекс Ангкор-Тхом являются прекрасными примерами классической кхмерской архитектуры. Возвышающиеся ступенчатые башни-пирамиды Ангкор-Вата называют «храмовыми горами». Башни окружены проходами с открытой галереей, а вся конструкция окружена стеной и квадратным рвом. Тысячи квадратных метров стен в Ангкор-Ват и Ангкор-Тхом украшены тысячами барельефов и скульптур, изображающих индуистские истории и персонажей. Памятник кхмерам в Ангкор-Ват помогает определить современную нацию Камбоджи сегодня. Это главная туристическая достопримечательность страны, объект Всемирного наследия, и он даже фигурирует на камбоджийском флаге. Падение цивилизаций Многие цивилизации процветали, а затем терпели крах или распадались. Этому есть много причин, но многие историки указывают на три модели падения цивилизаций: внутренние изменения, внешнее давление и экологический коллапс.
Первоначально Ангкор-Ват был построен как ряд святынь индуистского бога Вишну в начале 12 века, хотя менее ста лет спустя он стал буддийским храмовым комплексом. Ангкор-Ват и родственный ему комплекс Ангкор-Тхом являются прекрасными примерами классической кхмерской архитектуры. Возвышающиеся ступенчатые башни-пирамиды Ангкор-Вата называют «храмовыми горами». Башни окружены проходами с открытой галереей, а вся конструкция окружена стеной и квадратным рвом. Тысячи квадратных метров стен в Ангкор-Ват и Ангкор-Тхом украшены тысячами барельефов и скульптур, изображающих индуистские истории и персонажей. Памятник кхмерам в Ангкор-Ват помогает определить современную нацию Камбоджи сегодня. Это главная туристическая достопримечательность страны, объект Всемирного наследия, и он даже фигурирует на камбоджийском флаге. Падение цивилизаций Многие цивилизации процветали, а затем терпели крах или распадались. Этому есть много причин, но многие историки указывают на три модели падения цивилизаций: внутренние изменения, внешнее давление и экологический коллапс.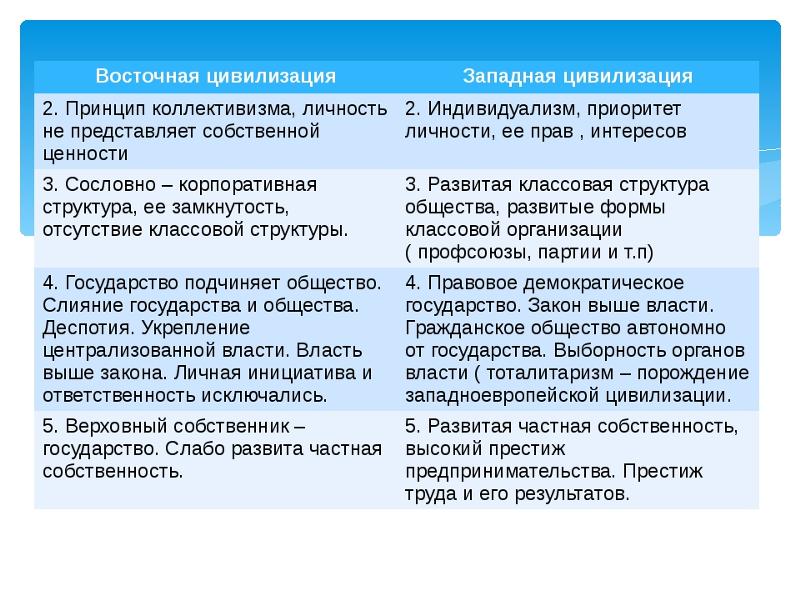 Падение цивилизаций никогда не бывает результатом одного события или закономерности. Иногда кажется, что цивилизации полностью «исчезают». Внутренние изменения Динамика численности населения является наиболее распространенной силой внутренних изменений цивилизации. Внезапное перемещение населения или сдвиг в демографии может привести к разрушению инфраструктуры цивилизации. Население может расти из-за миграции или периода необычного здоровья. Популяции могут сокращаться из-за болезней, экстремальных погодных условий или других факторов окружающей среды. Наконец, популяции могут переопределить себя. По мере роста цивилизаций города могут увеличиваться в размерах и становиться все более культурно отличными от сельских, сельскохозяйственных районов. Большие империи могут простираться на такие большие регионы, что языки, культуры и обычаи могут размыть идентичность жителей империи. Внутренние изменения способствовали краху цивилизации майя, процветавшей в Мезоамерике более тысячи лет.
Падение цивилизаций никогда не бывает результатом одного события или закономерности. Иногда кажется, что цивилизации полностью «исчезают». Внутренние изменения Динамика численности населения является наиболее распространенной силой внутренних изменений цивилизации. Внезапное перемещение населения или сдвиг в демографии может привести к разрушению инфраструктуры цивилизации. Население может расти из-за миграции или периода необычного здоровья. Популяции могут сокращаться из-за болезней, экстремальных погодных условий или других факторов окружающей среды. Наконец, популяции могут переопределить себя. По мере роста цивилизаций города могут увеличиваться в размерах и становиться все более культурно отличными от сельских, сельскохозяйственных районов. Большие империи могут простираться на такие большие регионы, что языки, культуры и обычаи могут размыть идентичность жителей империи. Внутренние изменения способствовали краху цивилизации майя, процветавшей в Мезоамерике более тысячи лет.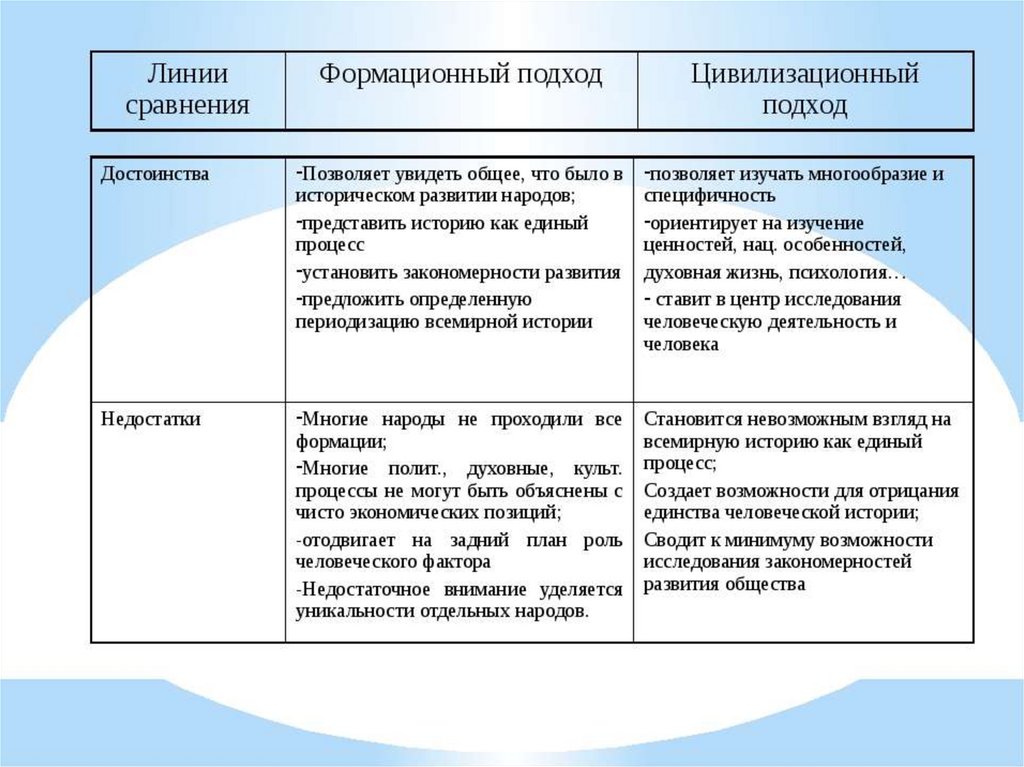 Коллапс «классических майя» произошел относительно быстро в 800-х годах. Такие болезни, как дизентерия и смертельная геморрагическая лихорадка, убили и сделали инвалидами тысячи майя. Еще миллионы были вынуждены переселиться из городов в более сельские районы. Такие огромные перемещения населения уменьшили способность майя общаться, управлять и объединяться против внешних сил и стихийных бедствий (таких как засуха). Внешнее давление Наиболее ярким примером внешнего давления на цивилизацию является иностранное вторжение или продолжительная война. Защита границ цивилизации может быть чрезвычайно дорогостоящей и требовать сильных вооруженных сил за счет развития или поддержания других аспектов цивилизации. Внешнее давление может привести к относительно резкому концу одной цивилизации (а часто и к принятию другой). Падение империи ацтеков с приходом европейских конкистадоров является таким примером. Внешнее давление также может привести к постепенному упадку цивилизации. «Падение» того, что мы часто называем Древним Египтом, — хороший пример того, как внешнее давление может переопределить цивилизацию за сотни лет.
Коллапс «классических майя» произошел относительно быстро в 800-х годах. Такие болезни, как дизентерия и смертельная геморрагическая лихорадка, убили и сделали инвалидами тысячи майя. Еще миллионы были вынуждены переселиться из городов в более сельские районы. Такие огромные перемещения населения уменьшили способность майя общаться, управлять и объединяться против внешних сил и стихийных бедствий (таких как засуха). Внешнее давление Наиболее ярким примером внешнего давления на цивилизацию является иностранное вторжение или продолжительная война. Защита границ цивилизации может быть чрезвычайно дорогостоящей и требовать сильных вооруженных сил за счет развития или поддержания других аспектов цивилизации. Внешнее давление может привести к относительно резкому концу одной цивилизации (а часто и к принятию другой). Падение империи ацтеков с приходом европейских конкистадоров является таким примером. Внешнее давление также может привести к постепенному упадку цивилизации. «Падение» того, что мы часто называем Древним Египтом, — хороший пример того, как внешнее давление может переопределить цивилизацию за сотни лет.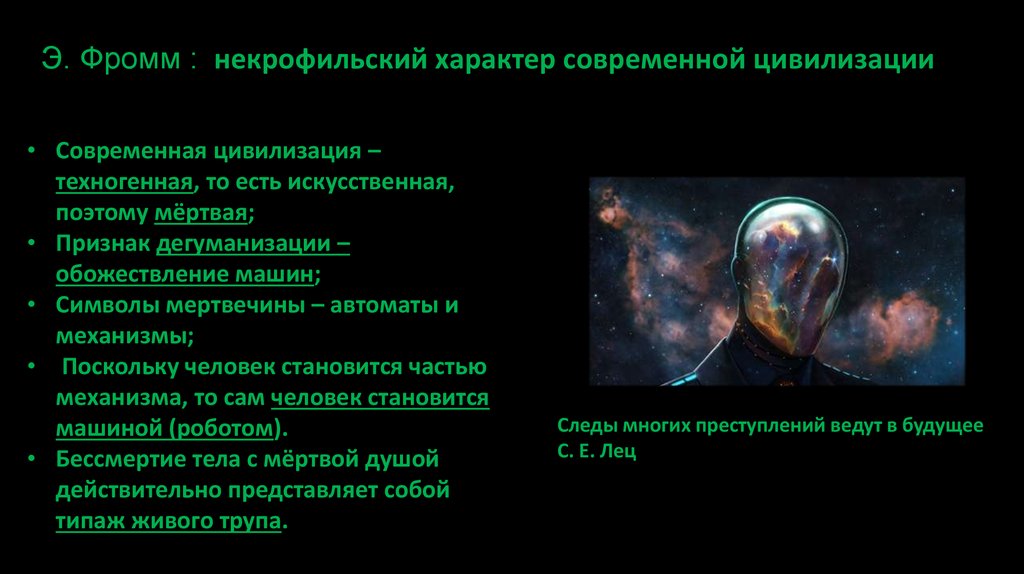 Египет столкнулся с давним периодическим конфликтом на своих границах с конкурирующими цивилизациями, такими как нубийцы (на юге), ассирийцы (на Ближнем Востоке) и ливийцы (на западе). Позже Египет столкнулся с цивилизациями Древней Греции и Рима и в итоге стал частью Римской империи. Древний Египет также столкнулся с внешним давлением, не связанным напрямую с вооруженным конфликтом. Мощные силы христианства и ислама повлияли на искоренение как иероглифики, письменности Древнего Египта, так и его политеистической религии. Коллапс окружающей среды Некоторые антропологи считают, что упадку многих цивилизаций способствовали как стихийные бедствия, так и неправильное использование окружающей среды. Стихийные бедствия, такие как засухи, наводнения и цунами, становятся стихийными бедствиями, поскольку они воздействуют на цивилизации. Засуха способствовала падению таких цивилизаций, как майя и долина Инда или хараппская цивилизация. Цивилизация долины Инда была цивилизацией бронзового века на территории современных Пакистана, Индии и Афганистана.
Египет столкнулся с давним периодическим конфликтом на своих границах с конкурирующими цивилизациями, такими как нубийцы (на юге), ассирийцы (на Ближнем Востоке) и ливийцы (на западе). Позже Египет столкнулся с цивилизациями Древней Греции и Рима и в итоге стал частью Римской империи. Древний Египет также столкнулся с внешним давлением, не связанным напрямую с вооруженным конфликтом. Мощные силы христианства и ислама повлияли на искоренение как иероглифики, письменности Древнего Египта, так и его политеистической религии. Коллапс окружающей среды Некоторые антропологи считают, что упадку многих цивилизаций способствовали как стихийные бедствия, так и неправильное использование окружающей среды. Стихийные бедствия, такие как засухи, наводнения и цунами, становятся стихийными бедствиями, поскольку они воздействуют на цивилизации. Засуха способствовала падению таких цивилизаций, как майя и долина Инда или хараппская цивилизация. Цивилизация долины Инда была цивилизацией бронзового века на территории современных Пакистана, Индии и Афганистана. Цивилизация долины Инда зависела от сезонных муссонных дождей для снабжения водой для питья, гигиены и орошения. Изменение климата сделало муссоны гораздо более непредсказуемыми, а сезонные наводнения — менее надежными. Хараппцы страдали от болезней, передающихся через воду, и не могли эффективно орошать посевы. Крах минойской цивилизации, оказавшей большое влияние на Древнюю Грецию, часто связывают с катастрофическим извержением вулкана Тера на острове, который сейчас называется Санторини. Извержение вызвало мощное цунами, сократившее население, торговые возможности и влияние минойцев. Человеческая деятельность также может создать нагрузку на окружающую среду вплоть до коллапса цивилизации. Например, одним из нескольких факторов, способствовавших разрушению аванпоста викингов в Гренландии, была неспособность европейских поселенцев адаптироваться к климату и почве Гренландии. Методы ведения сельского хозяйства, которые были успешными на богатых суглинистых почвах Северной Европы, плохо подходили для более холодной и тонкой почвы Гренландии и более короткого вегетационного периода.
Цивилизация долины Инда зависела от сезонных муссонных дождей для снабжения водой для питья, гигиены и орошения. Изменение климата сделало муссоны гораздо более непредсказуемыми, а сезонные наводнения — менее надежными. Хараппцы страдали от болезней, передающихся через воду, и не могли эффективно орошать посевы. Крах минойской цивилизации, оказавшей большое влияние на Древнюю Грецию, часто связывают с катастрофическим извержением вулкана Тера на острове, который сейчас называется Санторини. Извержение вызвало мощное цунами, сократившее население, торговые возможности и влияние минойцев. Человеческая деятельность также может создать нагрузку на окружающую среду вплоть до коллапса цивилизации. Например, одним из нескольких факторов, способствовавших разрушению аванпоста викингов в Гренландии, была неспособность европейских поселенцев адаптироваться к климату и почве Гренландии. Методы ведения сельского хозяйства, которые были успешными на богатых суглинистых почвах Северной Европы, плохо подходили для более холодной и тонкой почвы Гренландии и более короткого вегетационного периода.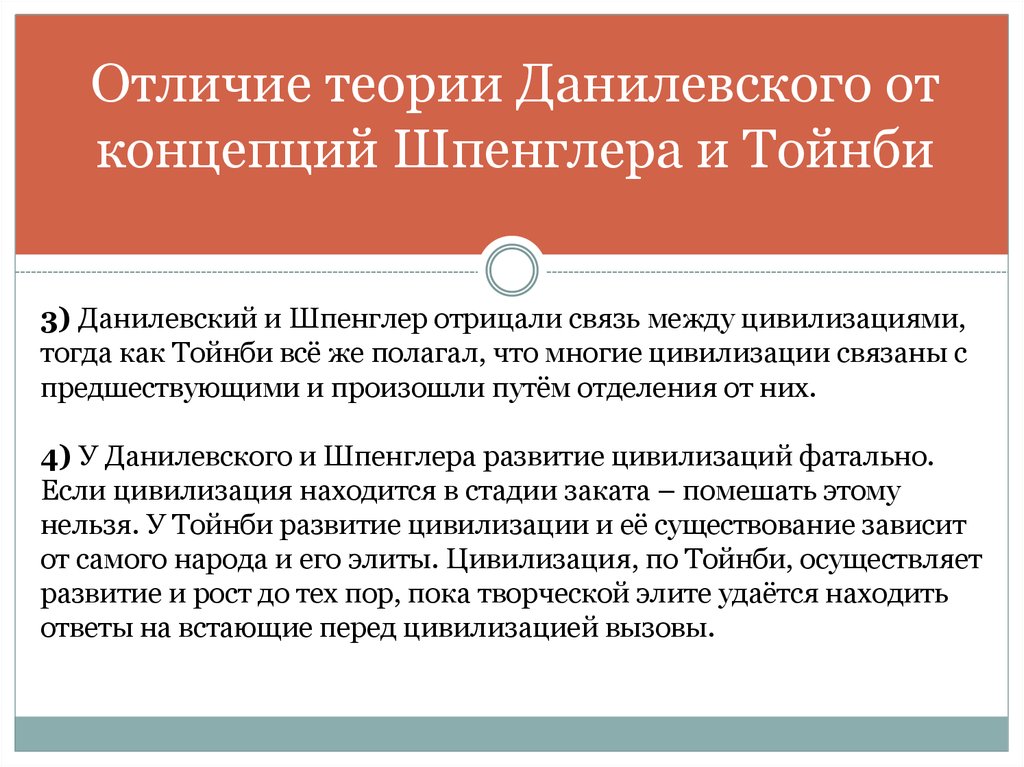 Земля не могла содержать урожай, необходимый для содержания скота викингов, включая коз, крупный рогатый скот и овец. Кроме того, сама земля была заготовлена для торфа, основного строительного материала аванпоста. Викинги в Гренландии также столкнулись с внутренним давлением, таким как слабая торговая система с Европой, и внешним давлением, таким как враждебные отношения со своими соседями-инуитами. «Потерянные цивилизации» История и мифы богаты «потерянными цивилизациями», целыми образами жизни, которые, казалось, процветали, а затем исчезали из исторических записей. Исчезновение цивилизации предков пуэблоан является одной из таких загадок. Древняя цивилизация пуэблоан процветала на территории нынешнего региона Четырех углов в штатах Юта, Колорадо, Нью-Мексико и Аризона. Древняя цивилизация пуэблоан возникла около 1200 г. до н.э. и процветала более тысячи лет. Древняя цивилизация пуэбло была отмечена монументальной архитектурой в виде многоквартирных скалистых жилищ и больших городских районов, известных как пуэбло.
Земля не могла содержать урожай, необходимый для содержания скота викингов, включая коз, крупный рогатый скот и овец. Кроме того, сама земля была заготовлена для торфа, основного строительного материала аванпоста. Викинги в Гренландии также столкнулись с внутренним давлением, таким как слабая торговая система с Европой, и внешним давлением, таким как враждебные отношения со своими соседями-инуитами. «Потерянные цивилизации» История и мифы богаты «потерянными цивилизациями», целыми образами жизни, которые, казалось, процветали, а затем исчезали из исторических записей. Исчезновение цивилизации предков пуэблоан является одной из таких загадок. Древняя цивилизация пуэблоан процветала на территории нынешнего региона Четырех углов в штатах Юта, Колорадо, Нью-Мексико и Аризона. Древняя цивилизация пуэблоан возникла около 1200 г. до н.э. и процветала более тысячи лет. Древняя цивилизация пуэбло была отмечена монументальной архитектурой в виде многоквартирных скалистых жилищ и больших городских районов, известных как пуэбло.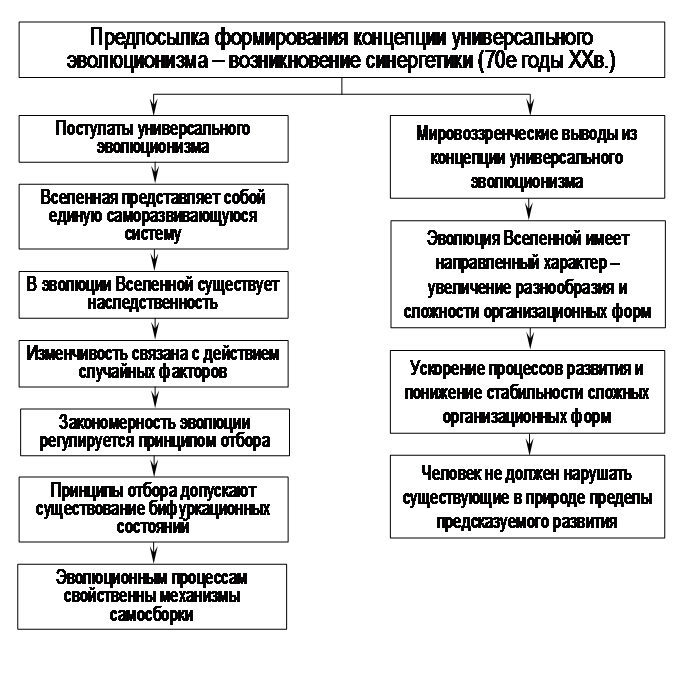 Разнообразные в культурном отношении предки пуэбло были связаны сложной системой дорог, стандартным стилем религиозного поклонения и уникальным художественным стилем, о чем свидетельствуют гончарные изделия и петроглифы. Предки пуэблоанцев, похоже, покинули свои городские районы около 1300 г. н.э. Исчезновение этой цивилизации остается загадкой, хотя большинство ученых говорят, что предки пуэбло вели войны со своими соседями навахо, внутренние группы конкурировали за землю и ресурсы, а постоянные засухи ограничивали способность предков пуэбло орошать посевы на засушливом юго-западе. Люди пуэбло, конечно, никогда не исчезали: различные группы создали свои собственные конкурирующие цивилизации после того, как предки пуэблоанцы мигрировали или распались. К этим группам относятся цивилизации зуни и хопи.
Разнообразные в культурном отношении предки пуэбло были связаны сложной системой дорог, стандартным стилем религиозного поклонения и уникальным художественным стилем, о чем свидетельствуют гончарные изделия и петроглифы. Предки пуэблоанцев, похоже, покинули свои городские районы около 1300 г. н.э. Исчезновение этой цивилизации остается загадкой, хотя большинство ученых говорят, что предки пуэбло вели войны со своими соседями навахо, внутренние группы конкурировали за землю и ресурсы, а постоянные засухи ограничивали способность предков пуэбло орошать посевы на засушливом юго-западе. Люди пуэбло, конечно, никогда не исчезали: различные группы создали свои собственные конкурирующие цивилизации после того, как предки пуэблоанцы мигрировали или распались. К этим группам относятся цивилизации зуни и хопи.
Быстрый факт
Колыбель цивилизации
Южную часть современного Ирака называют «Колыбелью цивилизации». Здесь возникли первые в мире города, письменность и крупномасштабное правительство.
Быстрый факт
Мировые державы
Так называемая «Группа семи» (G7) представляет собой организацию семи самых богатых демократий мира. Семь из восьми стран являются частью западной цивилизации: США, Канада, Великобритания, Франция, Германия и Италия. Единственный член G7 из-за пределов западной цивилизации — это Япония. Японию обычно считают отдельной цивилизацией.
Представители G7 обычно встречаются раз в год и обсуждают международные проблемы, включая распространение болезней, экономическое развитие, терроризм и изменение климата.
Статьи и профили
Энциклопедия древней истории: МесопотамияЭнциклопедия древней истории: Древний КитайВстреча: Хронология истории искусства — ТеотиуаканАкадемия ханов: Золотой век исламаЭнциклопедия древней истории: Кхмерская империяНаука: почему исчезли гренландские викинги?
Рабочие листы и раздаточные материалы
Национальный центр биотехнологической информации: Засуха, эпидемические болезни и падение культур классического периода в Мезоамерике (750-950 гг. н.э.). Геморрагические лихорадки как причина массовой гибели населения.
н.э.). Геморрагические лихорадки как причина массовой гибели населения.
Исследования проливают новый свет на происхождение цивилизации
11 июля 2022 г.
Исследования бросают вызов общепринятой теории о том, что переход от собирательства к земледелию привел к развитию сложных иерархических обществ за счет создания сельскохозяйственных излишков, и обнаружили, что внедрение зерновых культур является ключевым фактором.
- Исследование проливает новый свет на механизмы, с помощью которых внедрение сельского хозяйства привело к сложным иерархиям и состояниям.
- Теоретические аргументы и эмпирический анализ бросают вызов общепринятой «теории производительности», согласно которой региональные различия в продуктивности земли объясняют региональные различия в развитии иерархий и государств.
- Ученые обнаружили, что не увеличение производства продуктов питания привело к возникновению сложных иерархий и состояний, а скорее переход к использованию легко переносимых злаков.

- Основной вывод состоит в том, что ключевым фактором в развитии государства является пригодность земли для выращивания зерновых, а не для выращивания корнеплодов и клубнеплодов.
Новое исследование бросает вызов общепринятой теории о том, что переход от собирательства к земледелию привел к развитию сложных иерархических обществ за счет создания сельскохозяйственных излишков на плодородных землях. Работа проводилась Университетом Уорика
Основанный в 1965 году в рамках правительственной инициативы по расширению высшего образования Уорикский университет является государственным исследовательским университетом с 29академические отделы и более 50 научно-исследовательских центров и институтов. Он расположен на окраине Ковентри между Уэст-Мидлендсом и Уорикширом, Англия.
» data-gt-translate-attributes='[{«attribute»:»data-cmtooltip», «format»:»html»}]’>Уорикский университет, Еврейский университет в Иерусалиме, Рейхманский университет, Университет Помпеу Фабра и Барселонская школа экономики.
Профессора Йорам Майшар, Омер Моав и Луиджи Паскали показывают, что высокая продуктивность земли сама по себе не приводит к развитию налоговых государств в своей статье «В происхождении государства: Продуктивность земли или присваиваемость?» опубликовано в апрельском номере Журнал политической экономии — один из старейших и самых престижных журналов по экономике.
Ключевым фактором возникновения иерархии является принятие зерновых культур. В этом коротком видео профессор Моав объясняет:
Исследователи предполагают, что это связано с тем, что природа злаков требует, чтобы они собирались и хранились в доступных местах, что облегчает их использование в качестве налога, чем корнеплоды, которые остаются в земле, и менее пригодны для хранения.
Исследователи демонстрируют причинно-следственный эффект выращивания зерновых на возникновение иерархии, используя эмпирические данные, полученные из множества наборов данных за несколько тысячелетий, и не обнаруживают подобного влияния на продуктивность земли.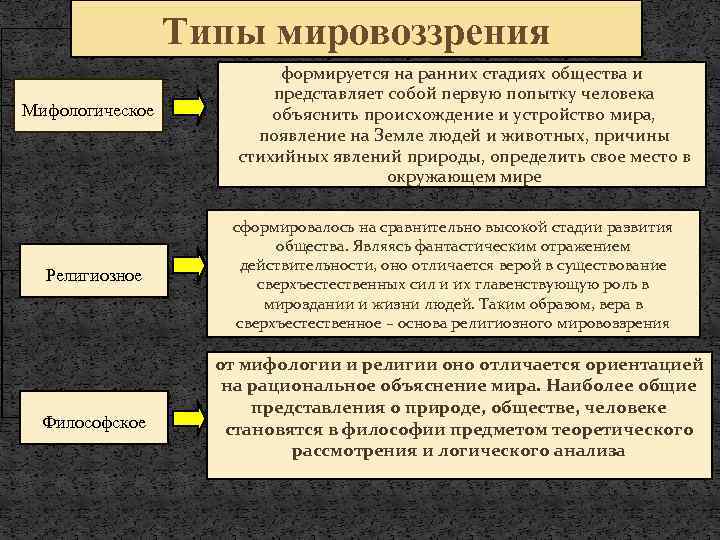
Профессор Майшар сказал: «Теория, связывающая продуктивность земли и излишки с возникновением иерархии, развивалась в течение нескольких столетий и стала общепринятой в тысячах книг и статей. Мы показываем, как теоретически, так и эмпирически, что эта теория ошибочна».
В рамках исследования Майшар, Моав и Паскали разработали и изучили большое количество наборов данных, включая уровень иерархической сложности в обществе; географическое распространение диких родственников одомашненных растений; и пригодность земель для различных культур, чтобы выяснить, почему в некоторых регионах, несмотря на тысячи лет успешного ведения сельского хозяйства, не возникли хорошо функционирующие государства, в то время как государства, которые могли взимать налоги и обеспечивать защиту жизни и собственности, возникли в других местах.
Профессор Паскали сказал: «Используя эти новые данные, мы смогли показать, что сложные иерархии, такие как сложные вождества и государства, возникали в районах, где зерновые культуры, которые легко облагались налогом и экспроприировались, де-факто были единственными доступными культурами.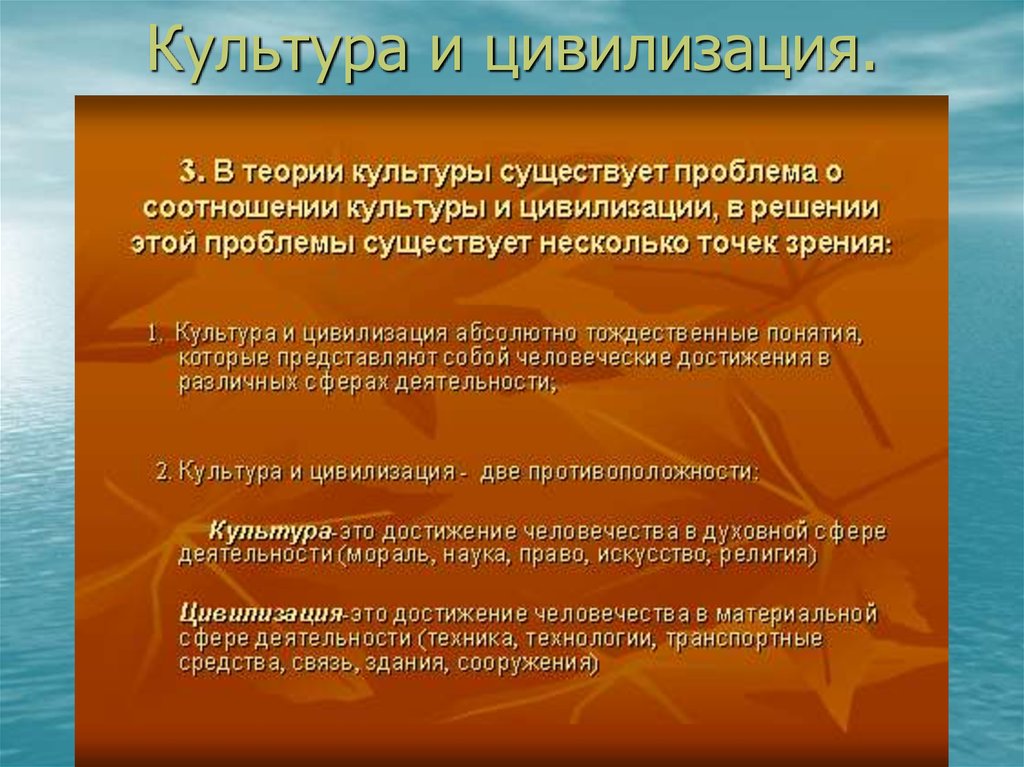 урожай. Парадоксально, но самые продуктивные земли, на которых были доступны и продуктивны не только злаки, но и корнеплоды и клубнеплоды, не подвергались такому же политическому развитию».
урожай. Парадоксально, но самые продуктивные земли, на которых были доступны и продуктивны не только злаки, но и корнеплоды и клубнеплоды, не подвергались такому же политическому развитию».
Они также использовали естественный эксперимент колумбийского обмена, обмен урожая между Новым Светом и Старым Светом в конце 15 -й -й век, который коренным образом изменил продуктивность земли и преимущество продуктивности зерновых культур над корнеплодами и клубнеплодами в большинстве стран мира.
Профессор Паскали сказал: «Создание этих новых наборов данных, изучение тематических исследований и разработка теории и эмпирической стратегии заняли у нас почти десятилетие напряженной работы. Мы очень рады видеть, что статья наконец напечатана в журнале со статусом JPE».
Профессор Моав сказал: «После перехода от собирательства к земледелию возникли иерархические общества и, в конечном итоге, государства, взимающие налоги. Эти государства сыграли решающую роль в экономическом развитии, обеспечив защиту, закон и порядок, что в конечном итоге способствовало индустриализации и беспрецедентному благосостоянию, которым сегодня наслаждаются многие страны».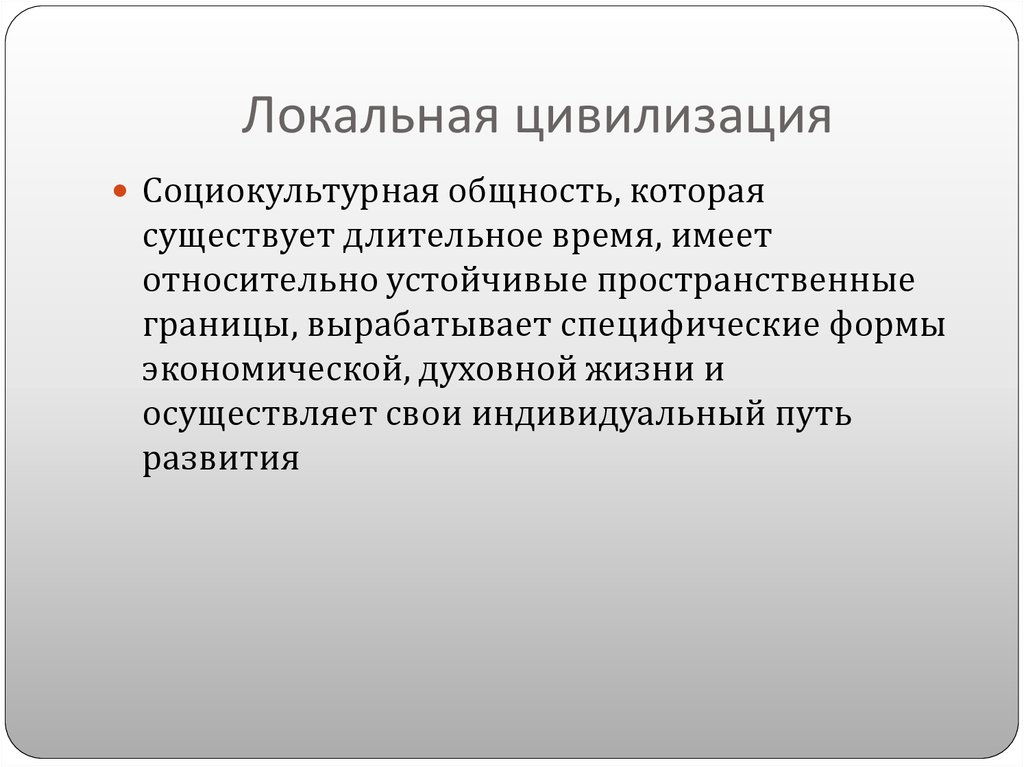
«Традиционная теория состоит в том, что это неравенство связано с различиями в продуктивности земли. Традиционный аргумент заключается в том, что прежде чем государство сможет обложить налогом урожай фермеров, необходимо произвести излишки продовольствия, и поэтому ключевую роль играет высокая продуктивность земли.
Профессор Майшар добавил: «Мы бросаем вызов традиционной теории производительности, утверждая, что не увеличение производства продуктов питания привело к сложным иерархиям и государствам, а скорее переход к зависимости от присваиваемых зерновых культур, которые облегчают налогообложение формирующейся элитой. Когда стало возможным присваивать урожай, возникла налоговая элита, которая привела к государству.
«Только там, где климат и география благоприятствовали выращиванию злаков, могла развиваться иерархия. Наши данные показывают, что чем выше преимущество продуктивности злаков над клубнями, тем выше вероятность возникновения иерархии.
«Пригодность высокопродуктивных корнеплодов и клубней на самом деле является проклятием изобилия, которое мешало возникновению государств и тормозило экономическое развитие».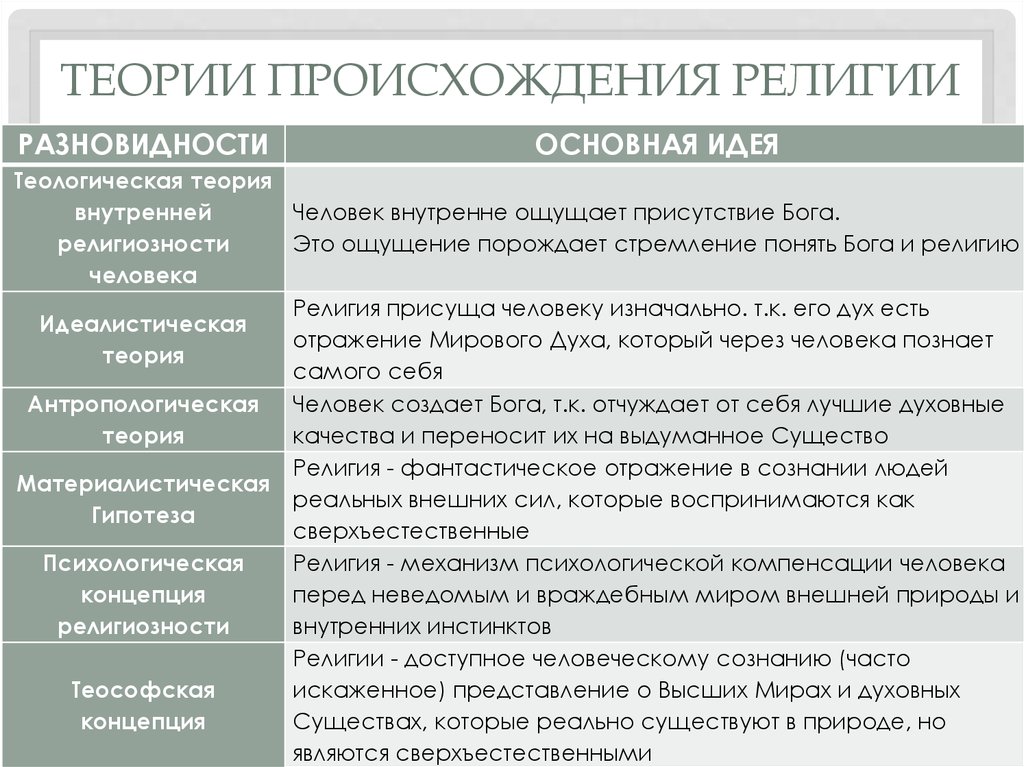
Ссылка: «Происхождение государства: продуктивность земли или присваиваемость?» Джорам Майшар, Омер Моав и Луиджи Паскали, 8 марта 2022 г., стр. Журнал политической экономии .
DOI: 10.1086/718372
Развитие понимания студентами естественных наук
За последние примерно 50 лет исследования в области естественнонаучного образования предоставили большой объем информации о том, как учащиеся развивают понимание научных концепций. На следующих страницах я сосредоточусь на трех аспектах этого развития: создании интуитивного понимания, процессе научного изучения и наличии концептуального сосуществования. Затем я расскажу об их значении для естественнонаучного образования.
Интуитивное понимание
Студенты не становятся чистыми листами, когда они впервые знакомятся с наукой. Напротив, они привносят в задачу изучения естественных наук интуитивное понимание физического мира, которое может сильно отличаться от научных концепций и теорий, представленных в классе естественных наук (Драйвер и Изли, 1978; Клемент, 1982; Макклоски, 1983; Новак, 1987). Исследователи согласны с наличием этих интуитивных представлений, но расходятся во мнениях, когда пытаются описать их природу. На этот счет существуют три основные точки зрения. Первый, известный как классический подход, утверждает, что студенческие концепции имеют статус единых интуитивных теорий, часто напоминающих более ранние теории в истории науки. Второй подход, известный как «знание по частям», утверждает, что концепции учащихся состоят из множества феноменологических принципов или p-примов, которые абстрагируются от эмпирического знания. Согласно третьему подходу, известному как рамочная теория, концепции студентов состоят из набора убеждений и предположений, которые организованы в виде нечетких, но относительно согласованных рамочных теорий.
Исследователи согласны с наличием этих интуитивных представлений, но расходятся во мнениях, когда пытаются описать их природу. На этот счет существуют три основные точки зрения. Первый, известный как классический подход, утверждает, что студенческие концепции имеют статус единых интуитивных теорий, часто напоминающих более ранние теории в истории науки. Второй подход, известный как «знание по частям», утверждает, что концепции учащихся состоят из множества феноменологических принципов или p-примов, которые абстрагируются от эмпирического знания. Согласно третьему подходу, известному как рамочная теория, концепции студентов состоят из набора убеждений и предположений, которые организованы в виде нечетких, но относительно согласованных рамочных теорий.
Имеются некоторые свидетельства в поддержку утверждения о том, что представления студентов представляют собой относительно устойчивые и глубоко укоренившиеся интуитивные теории. Например, Макклоски (1983) показал, что существуют систематические представления о движении объектов, влияющие на взаимодействие людей с объектами в реальном мире. Эти систематические представления расходятся с ньютоновской механикой и напоминают средневековую теорию движения, известную как теория импульса. Согласно импетусной теории, движение объекта поддерживается внутренней по отношению к объекту силой (импетусом), которая была приобретена, когда объект первоначально был приведен в движение (Макклоски, 19).83).
Эти систематические представления расходятся с ньютоновской механикой и напоминают средневековую теорию движения, известную как теория импульса. Согласно импетусной теории, движение объекта поддерживается внутренней по отношению к объекту силой (импетусом), которая была приобретена, когда объект первоначально был приведен в движение (Макклоски, 19).83).
Однако не все студенческие концепции можно охарактеризовать как единые и систематические интуитивные теории. Согласно Chi (2013), в дополнение к ложным интуитивным теориям у людей также есть ложные убеждения и ложные ментальные модели. Существуют также ограничения на способы рассуждений учащихся, такие как ограничения на природу причинно-следственных объяснений, которые могут привести к неправильному истолкованию научной информации. Например, люди часто полагаются на обобщенную версию схемы прямой причинности 9.0014 для создания ошибочных причинно-следственных объяснений эмерджентных процессов, таких как диффузия, естественный отбор и перенос тепла, к которым не применима схема прямой причинности (Chi et al.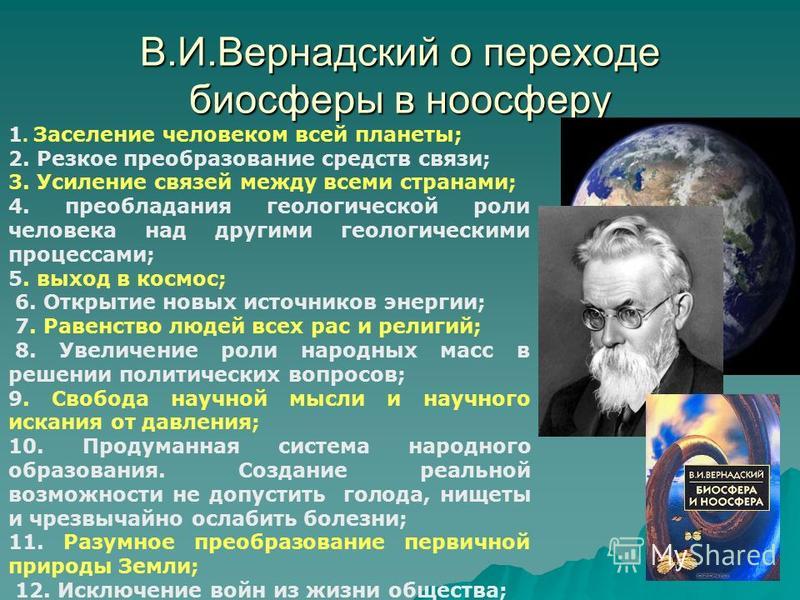 , 2012). Возникающие процессы не имеют единственного идентифицируемого причинного агента или идентифицируемой последовательности стадий. Наоборот, они являются результатом одновременного взаимодействия всех агентов.
, 2012). Возникающие процессы не имеют единственного идентифицируемого причинного агента или идентифицируемой последовательности стадий. Наоборот, они являются результатом одновременного взаимодействия всех агентов.
На противоположном конце позиции интуитивной теории находится утверждение о том, что начальное понимание учащихся состоит из знаний по частям (ди Сесса, 1993). ДиСесса предоставил данные из обширных интервью со студентами, чтобы поддержать позицию о том, что студенты не придерживаются систематических и унитарных интуитивных теорий, а внутренне непоследовательны и фрагментарны, и что фрагменты их знаний лучше всего можно охарактеризовать в терминах p-примов. Позиция «знания по кусочкам» может объяснить несоответствия, часто наблюдаемые в объяснениях студентов, особенно когда студентов просят объяснить одни и те же физические явления в разных ситуационных контекстах. Однако это проблематично, когда дело доходит до интерпретации более сложных теоретических конструкций студентов, которые, как было обнаружено, не поддаются обучению, например, интуитивные теории, обсуждавшиеся ранее (Clement, 19).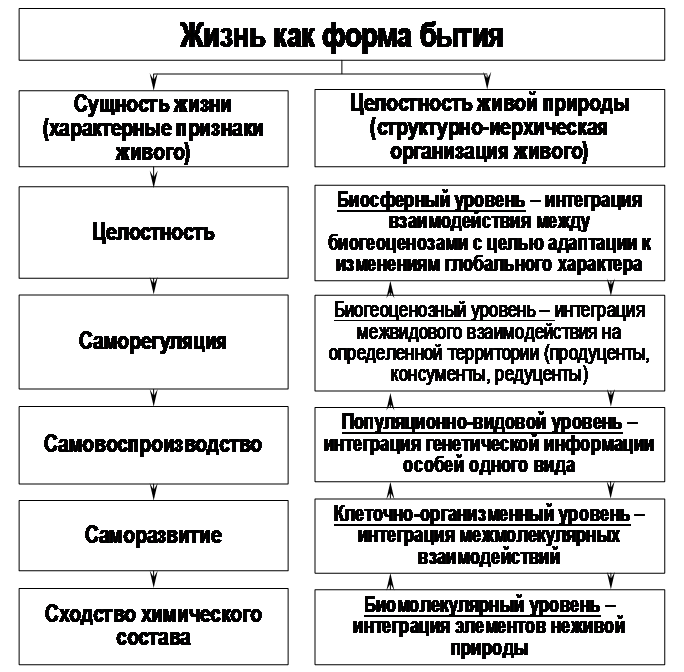 82). Он также не может объяснить ограничения на причинно-следственные объяснения студентов, подобные описанным Чи (2013), которые могут привести к ошибочной интерпретации научной информации.
82). Он также не может объяснить ограничения на причинно-следственные объяснения студентов, подобные описанным Чи (2013), которые могут привести к ошибочной интерпретации научной информации.
Как «интуитивная теория», так и «знание по частям» основаны на эмпирических данных, полученных в ходе интервью со студентами средних школ или университетов и непрофессионалами. Напротив, Восниаду и ее коллеги (Восниаду и Брюэр, 1992, 1994; Восниаду, 2013; Восниаду и Скопелити, 2017) утверждали, что важно проводить различие между представлениями учащихся, сформированными до знакомства с научными знаниями и после того, как они подверглись изучению. к науке. Они использовали эмпирические данные из интервью с маленькими детьми до того, как их познакомили с наукой, чтобы доказать, что дети интерпретируют свой повседневный опыт в контексте мирской культуры, чтобы сформировать убеждения, которые организованы в виде нечетких, но относительно согласованных рамочных теорий (Vosniadou, 2013; Восниаду и Скопелити, 2014).
Каркасная теория отличается от интуитивной теории. Интуитивная теория — это связная, единая теория, которая может содержать неверные представления о научной информации. Напротив, рамочная теория считается скелетной концептуальной системой, которая обосновывает наши самые фундаментальные онтологические категоризации и каузальные устройства, с точки зрения которых мы понимаем мир и на основе которых строится новая информация, до любого воздействия науки. Веллман и Гельман, 1998). Каркасной теории не хватает систематичности, последовательности и объяснительной силы научных теорий, она не является явной и не разделяется обществом. Однако это система, основанная на принципах, с механизмами обучения, такими как категоризация и причинная атрибуция, способная дать начало объяснению явлений и предсказанию (Гопник и др., 2001; Слауски, 2003). Например, младенцы проводят онтологическое различие между объектами с самостоятельным движением или без него (одушевленные и неодушевленные). Затем это различие можно продуктивно использовать для категоризации новых, ранее невидимых объектов и приписывания им характеристик одушевленных или неодушевленных объектов, таких как плотность, потребность в поддержке и наличие или отсутствие интенциональности (Vosniadou and Brewer, 19).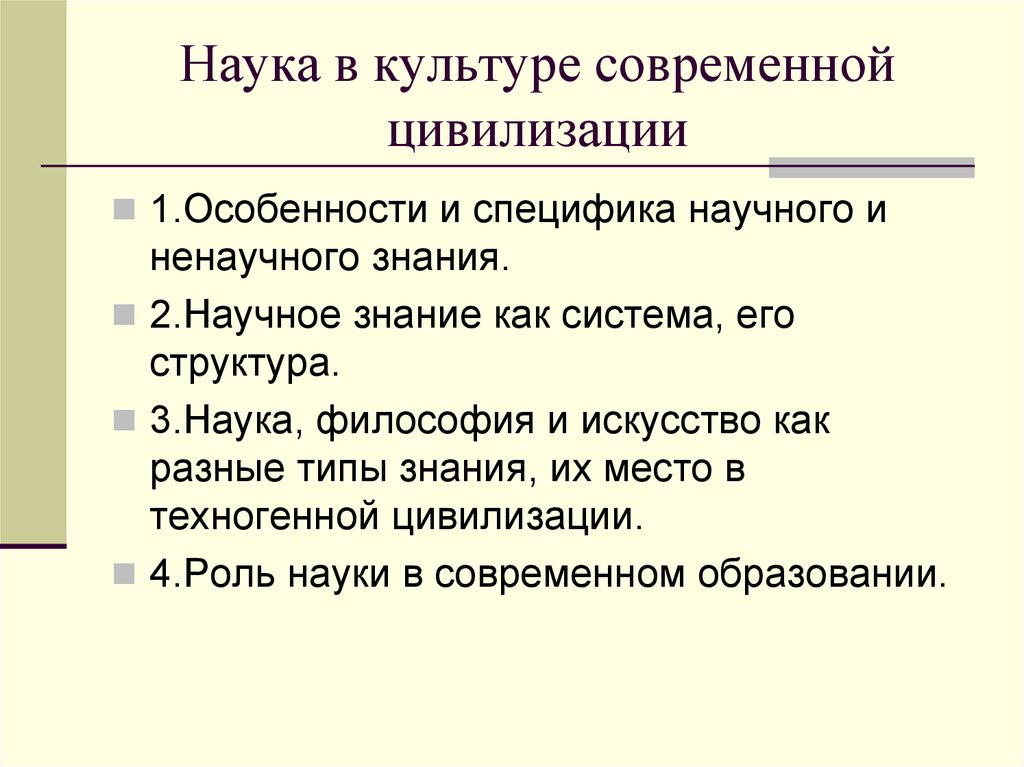 92, 1994).
92, 1994).
Подход на основе теории рамок (Vosniadou, 2013) не исключает возможности того, что в нашей системе знаний могут присутствовать такие элементы знаний, как p-prims. Однако считается, что они организованы в свободные концептуальные структуры с раннего детства. Возьмем, к примеру, хорошо известную формулу Ома: большее усилие приводит к большему эффекту, а большее сопротивление приводит к меньшему эффекту (diSessa, 1993). Хотя р-прим Ома мог бы служить для схематизации феноменологического опыта, его можно сформулировать только в концептуальной системе, в которой уже проведено различие между одушевленными и неодушевленными объектами и в которой уже известно, что усилие обычно прилагается тянуть или толкать одушевленных агентов, что задействованы силы и что важны размер и вес агентов и рассматриваемых объектов (Ioannides and Vosniadou, 2002). Другими словами, само порождение объяснительного принципа, такого как р-прим, уже предполагает наличие скелетной концептуальной системы, такой как рамочная теория.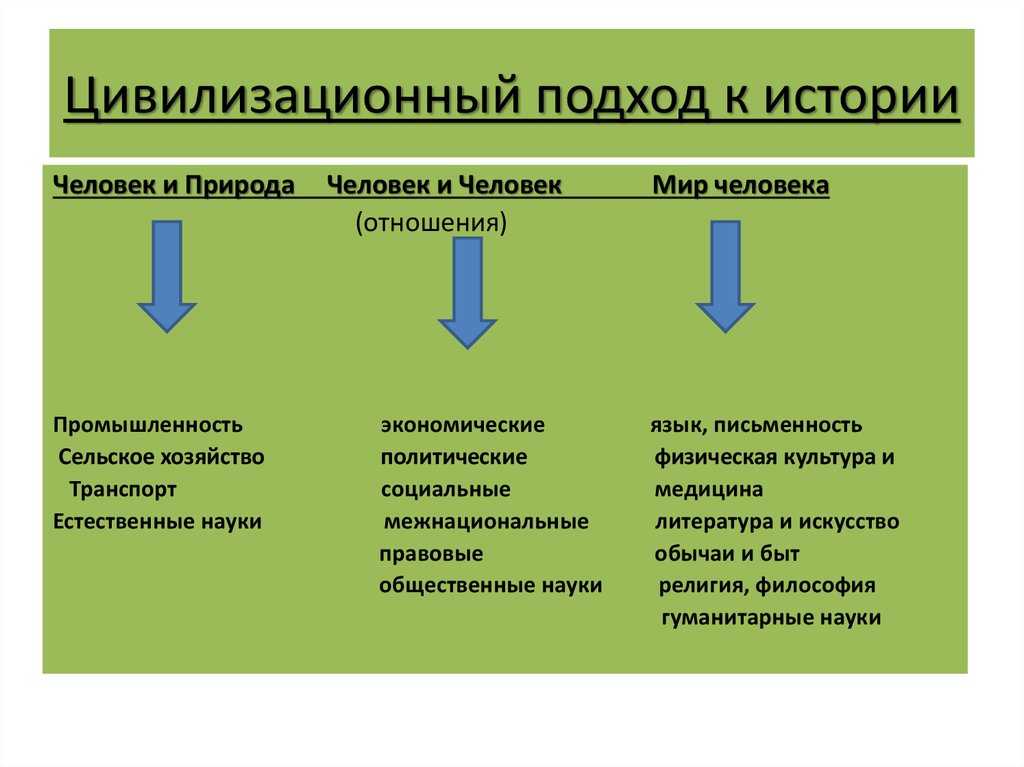 Действительно, для исследователей, применяющих комплексный системный подход к изучению естественных наук (например, Brown and Hammer, 2008, 2013), также отстаиваемый ди Сессой (1993), создание интегративных концептуальных структур, таких как рамочные теории, не противоречит подходу «знание по частям».
Действительно, для исследователей, применяющих комплексный системный подход к изучению естественных наук (например, Brown and Hammer, 2008, 2013), также отстаиваемый ди Сессой (1993), создание интегративных концептуальных структур, таких как рамочные теории, не противоречит подходу «знание по частям».
Процесс изучения естественных наук
Позиция, занимаемая человеком в отношении природы интуитивного понимания учащихся, может иметь важные последствия в отношении того, как человек интерпретирует процесс изучения естественных наук. Если представления учащихся имеют форму интуитивных теорий, то процесс изучения естественных наук нельзя рассматривать как процесс приращения или обогащения предшествующих знаний. Вместо этого необходимо изменить теорию или, как известно, концептуальное изменение. Познер и др. (1982) утверждал, что концептуальное изменение требует замены интуитивных теорий правильными научными. Эта замена была описана как результат рационального процесса, в ходе которого учащиеся должны осознать фундаментальные предположения и эпистемологические обязательства, характеризующие их интуитивные теории, и осознать свои ограничения и неадекватность по отношению к .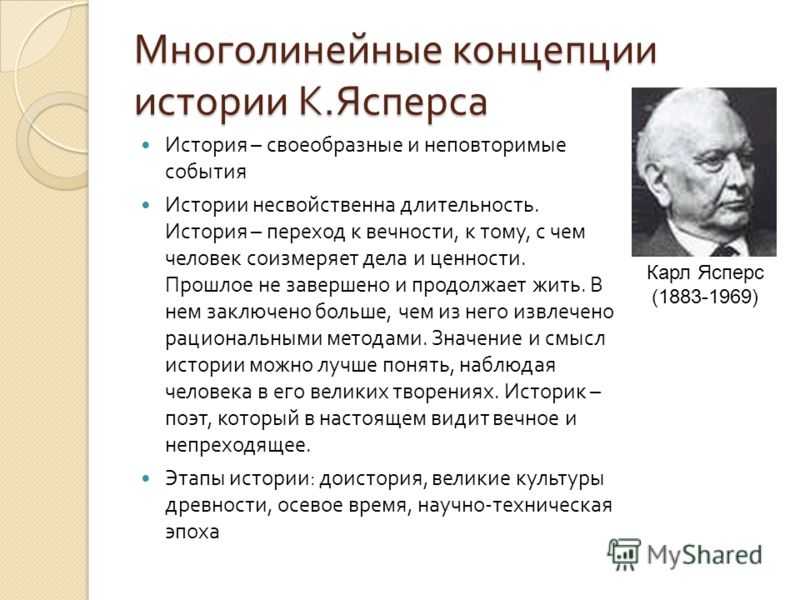 виз. научная теория.
виз. научная теория.
В последующие годы так называемый «классический подход» подвергся ряду критических замечаний. Одним из спорных вопросов было предложение заменить интуитивное понимание научными теориями. Аргументы относительно сосуществования интуитивного понимания и научных концепций выдвигались уже давно (например, Каравита и Халден, 19).94), но в последние годы он получил эмпирическое подтверждение и будет обсуждаться более подробно позже.
Вопреки внезапному замещению теории когнитивным конфликтным взглядом на изучение науки, подход «знание по частям» продвигал идею о том, что процесс изучения науки следует рассматривать как процесс концептуальной интеграции, в ходе которого множество p-примов становится организованы в последовательные научные теории под влиянием обучения (diSessa, 1993, 2008). Смит и др. (1993) утверждал, что когнитивный конфликт не является хорошей учебной стратегией, поскольку он несовместим с конструктивистским подходом к обучению; а именно, что обучение — это процесс создания новых знаний на основе того, что мы уже знаем.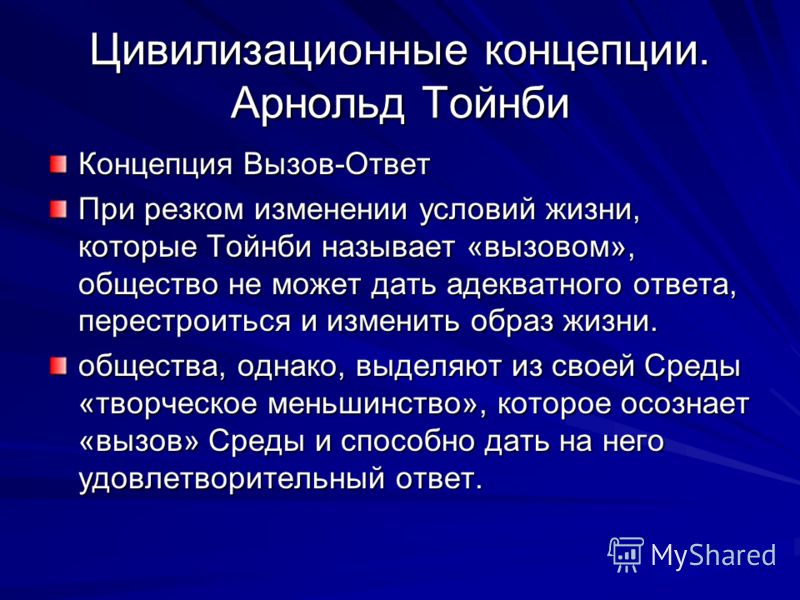 Вместо этого они предположили, что интуитивное понимание — это продуктивные идеи, которые могут служить ресурсами для изучения науки, которые развиваются и интегрируются в связные концептуальные структуры, такие как научные теории, посредством соответствующего обучения. Акцент на интеграции и различении, а не на конфронтации и когнитивном конфликте, является отличительной чертой подхода к обучению, основанного на знании по частям (см. также Кларк и Линн, 2008).
Вместо этого они предположили, что интуитивное понимание — это продуктивные идеи, которые могут служить ресурсами для изучения науки, которые развиваются и интегрируются в связные концептуальные структуры, такие как научные теории, посредством соответствующего обучения. Акцент на интеграции и различении, а не на конфронтации и когнитивном конфликте, является отличительной чертой подхода к обучению, основанного на знании по частям (см. также Кларк и Линн, 2008).
Я буду поддерживать другой взгляд на изучение естественных наук, который согласуется с подходом теории рамок. Согласно этой точке зрения, учащиеся организуют свое интуитивное понимание в нечетких и узких, но, тем не менее, относительно связных рамочных теориях, прежде чем они будут подвергнуты изучению естественных наук. Каркасные теории фундаментально отличаются от научных теорий своими объяснениями, концепциями, а также своими онтологическими и эпистемологическими предпосылками. Когда учащиеся, работающие с пониманием физического мира, подобным тому, которое описывается как базовая теория физики, впервые сталкиваются с несовместимой и противоречащей интуиции научной теорией, они не способны ее понять. Предполагая, что эти студенты используют конструктивные механизмы обучения, они будут интерпретировать новую научную информацию в свете своих предыдущих знаний. Этот конструктивный процесс почти обязательно приведет к созданию неверных представлений, которые являются гибридами, т. е. концепций, включающих элементы как интуитивного понимания, так и научной информации. В исследовании понимания текста, которое напрямую проверяло вышеприведенное утверждение, Восниаду и Скопелити (2017) показали, что многие учащиеся начальной школы, которые давали интуитивное объяснение смены дня и ночи на предварительном тесте, либо полностью игнорировали научную информацию, либо создавали неверные представления при знакомстве с ней. контринтуитивное научное объяснение. Эти заблуждения представляли собой гибриды, которые можно было разделить на фрагментарные и/или синтетические концепции. Фрагментарная концепция — это концепция, сочетающая интуитивное понимание с научной информацией без заботы о внутренней согласованности или объяснительной силе (например, день/ночь происходят потому, что солнце уходит за горы, а также потому, что земля «движется»).
Предполагая, что эти студенты используют конструктивные механизмы обучения, они будут интерпретировать новую научную информацию в свете своих предыдущих знаний. Этот конструктивный процесс почти обязательно приведет к созданию неверных представлений, которые являются гибридами, т. е. концепций, включающих элементы как интуитивного понимания, так и научной информации. В исследовании понимания текста, которое напрямую проверяло вышеприведенное утверждение, Восниаду и Скопелити (2017) показали, что многие учащиеся начальной школы, которые давали интуитивное объяснение смены дня и ночи на предварительном тесте, либо полностью игнорировали научную информацию, либо создавали неверные представления при знакомстве с ней. контринтуитивное научное объяснение. Эти заблуждения представляли собой гибриды, которые можно было разделить на фрагментарные и/или синтетические концепции. Фрагментарная концепция — это концепция, сочетающая интуитивное понимание с научной информацией без заботы о внутренней согласованности или объяснительной силе (например, день/ночь происходят потому, что солнце уходит за горы, а также потому, что земля «движется»). Синтетическая концепция также сочетает интуитивное понимание с научной информацией, но делает это таким образом, что демонстрирует некоторую заботу о внутренней непротиворечивости и объяснительной силе. Восниаду и Скопелити (2017) пришли к выводу, что научное обучение происходит не за счет внезапных озарений, а представляет собой медленный и постепенный процесс и что возникновение неправильных представлений является естественным результатом этого процесса. Другими словами, многие заблуждения являются не случайными ошибками, а фрагментарными или синтетическими представлениями, возникающими, когда учащиеся используют конструктивные механизмы обучения, связывающие несовместимую научную информацию с их предыдущими знаниями.
Синтетическая концепция также сочетает интуитивное понимание с научной информацией, но делает это таким образом, что демонстрирует некоторую заботу о внутренней непротиворечивости и объяснительной силе. Восниаду и Скопелити (2017) пришли к выводу, что научное обучение происходит не за счет внезапных озарений, а представляет собой медленный и постепенный процесс и что возникновение неправильных представлений является естественным результатом этого процесса. Другими словами, многие заблуждения являются не случайными ошибками, а фрагментарными или синтетическими представлениями, возникающими, когда учащиеся используют конструктивные механизмы обучения, связывающие несовместимую научную информацию с их предыдущими знаниями.
Сосуществование интуитивного понимания и научных концепций
Недавние исследования показали, что интуитивное понимание не полностью заменяется научными теориями, даже у опытных ученых. Скорее, интуитивное понимание сосуществует с научными концепциями и может мешать их доступу в задачах научного рассуждения. Например, Келемен и др. (2013) показали, что при тестировании в условиях дефицита времени и нагрузки на способность обработки информации даже опытные ученые, скорее всего, поддержат ненаучные, телеологические объяснения явлений. В другом исследовании Штульман и Валькарел (2012) показали, что взрослые с высшим образованием менее точны и медленнее проверяют противоречивые научные концепции по сравнению с теми, которые согласуются с наивными теориями, предполагая, что наивные теории продолжают существовать и мешают обработке данных. научных теорий (см. также Babai et al., 2010; Potvin et al., 2015).
Например, Келемен и др. (2013) показали, что при тестировании в условиях дефицита времени и нагрузки на способность обработки информации даже опытные ученые, скорее всего, поддержат ненаучные, телеологические объяснения явлений. В другом исследовании Штульман и Валькарел (2012) показали, что взрослые с высшим образованием менее точны и медленнее проверяют противоречивые научные концепции по сравнению с теми, которые согласуются с наивными теориями, предполагая, что наивные теории продолжают существовать и мешают обработке данных. научных теорий (см. также Babai et al., 2010; Potvin et al., 2015).
Массон и др. (2014) использовали функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ) для сравнения активации мозга у экспертов и новичков при оценке правильности простых электрических цепей. Их результаты показали, что эксперты, а не новички, активировали области мозга, участвующие в торможении, при оценке ненаучных схем, предположительно потому, что они подавляли неверные представления, закодированные в нейронных сетях их мозга.
Феномен сосуществования интуитивного понимания и научных концепций и теорий поднимает важные проблемы для теорий изучения и обучения наукам, а также для теорий организации и представления знаний. Если более ранние системы убеждений не вытесняются информацией, полученной позже, насколько последовательна наша база знаний? Как возможно, чтобы несовместимые старые и новые системы верований сосуществовали и чтобы эти несоответствия не обнаруживались?
Один из способов объяснить загадку сосуществования интуитивного понимания и научных концепций состоит в том, чтобы рассматривать их не как несовместимые представления, организованные в рамках одной и той же системы верований, а как разные системы верований, инкапсулированные в перекрывающиеся, но частично различные нейронные сети в определенных областях. знаний (Восняду, в печати). Эта точка зрения больше согласуется с результатами исследований в области когнитивной нейробиологии, которые показывают, что концептуальные знания представлены в распределенных сетях, расположенных в разных частях мозга взрослого человека (Allan et al.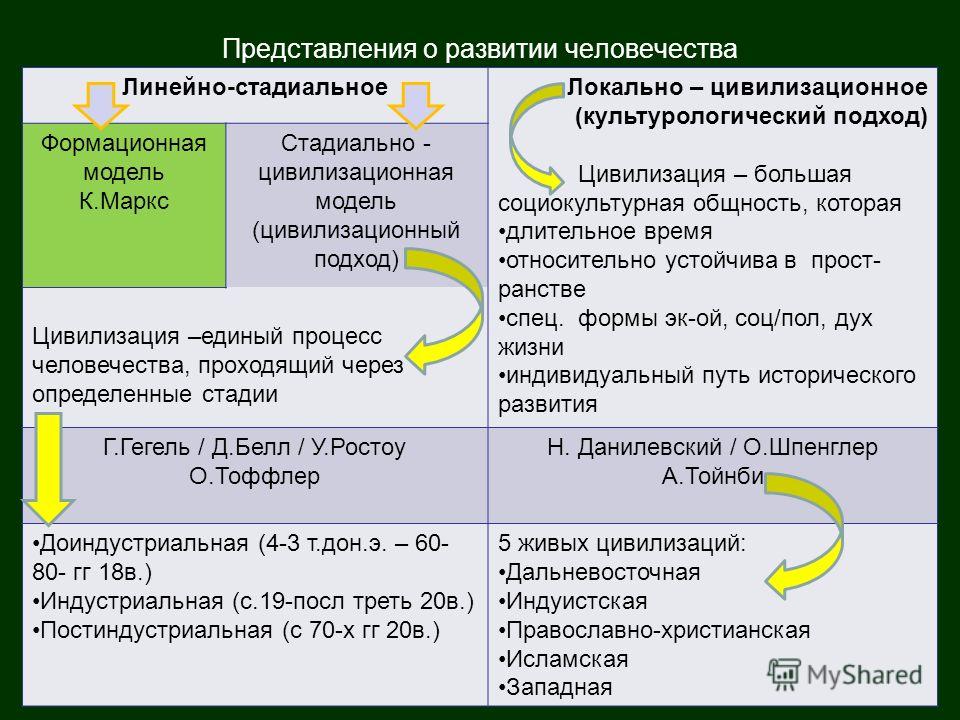 , 2014; Fugelsang and Mareschal, 2014). В такой системе когерентность является не атрибутом организации информации в базе знаний, а результатом эффективной системы исполнительных функций, способной выбирать, интегрировать или подавлять информацию из различных систем убеждений способами, которые подходят для задачи на данном этапе. рука.
, 2014; Fugelsang and Mareschal, 2014). В такой системе когерентность является не атрибутом организации информации в базе знаний, а результатом эффективной системы исполнительных функций, способной выбирать, интегрировать или подавлять информацию из различных систем убеждений способами, которые подходят для задачи на данном этапе. рука.
Роль исполнительной функции и ее связь с академическим обучением и концептуальными изменениями стала важной областью исследований в последние годы. Исполнительная функция — это набор нейрокогнитивных навыков, таких как рабочая память, когнитивная гибкость и тормозной контроль. Эти навыки имеют основополагающее значение для участия в целенаправленном мышлении и действии, а также для обучения, особенно изучения контринтуитивных концепций в науке и математике. Исследования показали, что навыки управляющей функции в значительной степени связаны с академическими достижениями и обучением с изменением понятий, даже если контролируются интеллект и предшествующие знания (Allan et al. , 2014; Fugelsang and Mareschal, 2014; Vosniadou et al., 2018). Изучение научных и математических концепций, несовместимых с интуитивным пониманием, было связано именно с навыком исполнительной функции тормозного контроля (см. также Zaitchick et al., 2014; Carey et al., 2015).
, 2014; Fugelsang and Mareschal, 2014; Vosniadou et al., 2018). Изучение научных и математических концепций, несовместимых с интуитивным пониманием, было связано именно с навыком исполнительной функции тормозного контроля (см. также Zaitchick et al., 2014; Carey et al., 2015).
Значение для педагогического образования и профессионального развития
Различные теоретические подходы к изучению естественных наук предлагают разные рекомендации для преподавания естественных наук. Классический подход (Posner et al., 1982) рассматривал когнитивный конфликт как основную учебную стратегию для изучения естественных наук. Когнитивный конфликт работает, представляя учащемуся противоречивые доказательства. Это противоречивое свидетельство предназначено для того, чтобы вызвать неудовлетворенность интуитивной теорией учащихся и признание того, что ее необходимо заменить научной теорией. Одна из проблем использования когнитивного конфликта в учебных целях заключается в том, что он не гарантирует, что учащиеся будут воспринимать предполагаемый внешний конфликт как внутренний когнитивный диссонанс.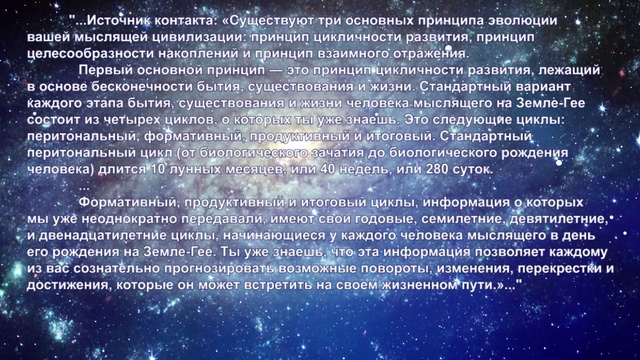 Чинн и Брюэр (1993) представили убедительные аргументы, указывающие на то, что учащиеся могут по-разному реагировать на противоречивые данные. Действительно, многие студенты и преподаватели придерживаются противоречивых убеждений, даже не подозревая об этих несоответствиях.
Чинн и Брюэр (1993) представили убедительные аргументы, указывающие на то, что учащиеся могут по-разному реагировать на противоречивые данные. Действительно, многие студенты и преподаватели придерживаются противоречивых убеждений, даже не подозревая об этих несоответствиях.
В отличие от того, что известно как классический подход, подход «знания по частям» (diSessa, 1993) делает упор на интеграцию p-prims студентов в последовательные научные теории. Этот подход основан на предположении, что p-примы продуктивны и что необходимо найти способ интегрировать их во внутренне непротиворечивые научные теории. Однако он не говорит нам, что делать с интуитивным пониманием, которое может оказаться непродуктивным, когда дело доходит до изучения научной теории.
С точки зрения теории рамок есть три основных момента, которые необходимо подчеркнуть в отношении обучения. Во-первых, изучение естественных наук — это конструктивный процесс, который постепенно строится на основе предшествующих знаний и модифицирует их.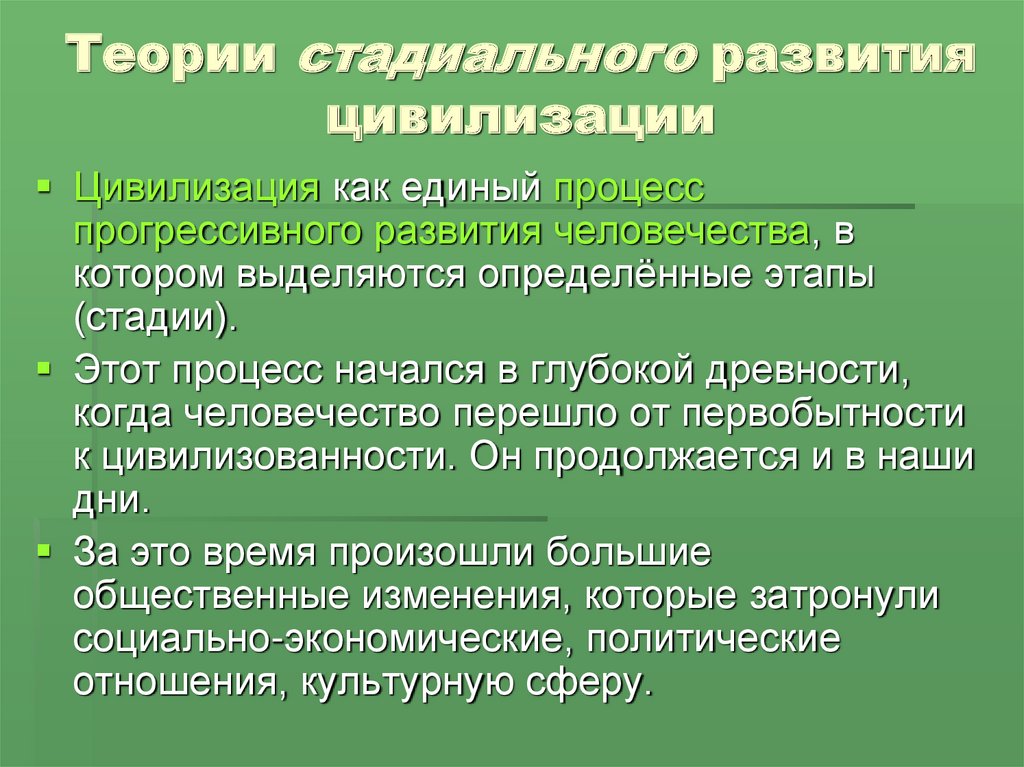 В зависимости от предварительных знаний учащихся изучение правильного научного объяснения не происходит немедленно и внезапно; скорее, это может занять какое-то время — здесь задействован процесс обучения (Vosniadou and Brewer, 1992, 19).94; Уизер и Смит, 2008 г.; Восниаду и Скопелити, 2017, 2018). Действительно, вся идея построения прогрессии обучения состоит в том, чтобы зафиксировать промежуточные шаги в изучении научных концепций и теорий (Corcoran et al., 2009; Duschl et al., 2011). Когда преподаватели естественных наук осведомлены о прогрессе учащихся в изучении данной предметной области, они могут предоставить научную информацию, которая с меньшей вероятностью будет неправильно понята.
В зависимости от предварительных знаний учащихся изучение правильного научного объяснения не происходит немедленно и внезапно; скорее, это может занять какое-то время — здесь задействован процесс обучения (Vosniadou and Brewer, 1992, 19).94; Уизер и Смит, 2008 г.; Восниаду и Скопелити, 2017, 2018). Действительно, вся идея построения прогрессии обучения состоит в том, чтобы зафиксировать промежуточные шаги в изучении научных концепций и теорий (Corcoran et al., 2009; Duschl et al., 2011). Когда преподаватели естественных наук осведомлены о прогрессе учащихся в изучении данной предметной области, они могут предоставить научную информацию, которая с меньшей вероятностью будет неправильно понята.
Во-вторых, когнитивный конфликт можно использовать в процессе изучения естественных наук, но в основном для того, чтобы увеличить метакогнитивное осознание учащихся и понимание разрыва между их существующими убеждениями и новой научной информацией, а не для того, чтобы доказать, что интуитивное понимание ошибочно и необходимо заменить. Интуитивное понимание сопротивляется обучению, потому что оно представляет собой немедленную и основанную на здравом смысле интерпретацию повседневного опыта и потому, что оно постоянно подкрепляется этим опытом. Напротив, научные понятия обычно не подкрепляются повседневным опытом и требуют построения новых, абстрактных и сложных представлений, не имеющих однозначного соответствия с тем, что они представляют. Учащимся необходимо помочь создать эти новые, противоречащие интуиции представления, понять, что они основаны на других, неэгоцентричных точках зрения и что они обладают гораздо большей объяснительной силой.
Интуитивное понимание сопротивляется обучению, потому что оно представляет собой немедленную и основанную на здравом смысле интерпретацию повседневного опыта и потому, что оно постоянно подкрепляется этим опытом. Напротив, научные понятия обычно не подкрепляются повседневным опытом и требуют построения новых, абстрактных и сложных представлений, не имеющих однозначного соответствия с тем, что они представляют. Учащимся необходимо помочь создать эти новые, противоречащие интуиции представления, понять, что они основаны на других, неэгоцентричных точках зрения и что они обладают гораздо большей объяснительной силой.
И последнее, но не менее важное: преподавание естественных наук должно развивать у учащихся способности к рассуждению, их эпистемологические убеждения и навыки исполнительной функции. Изучение естественных наук требует сложных пространственных рассуждений, способности принимать разные точки зрения, строить сложные и абстрактные модели и репрезентации и подавлять предыдущие знания, чтобы можно было воспринимать новую, противоречивую информацию.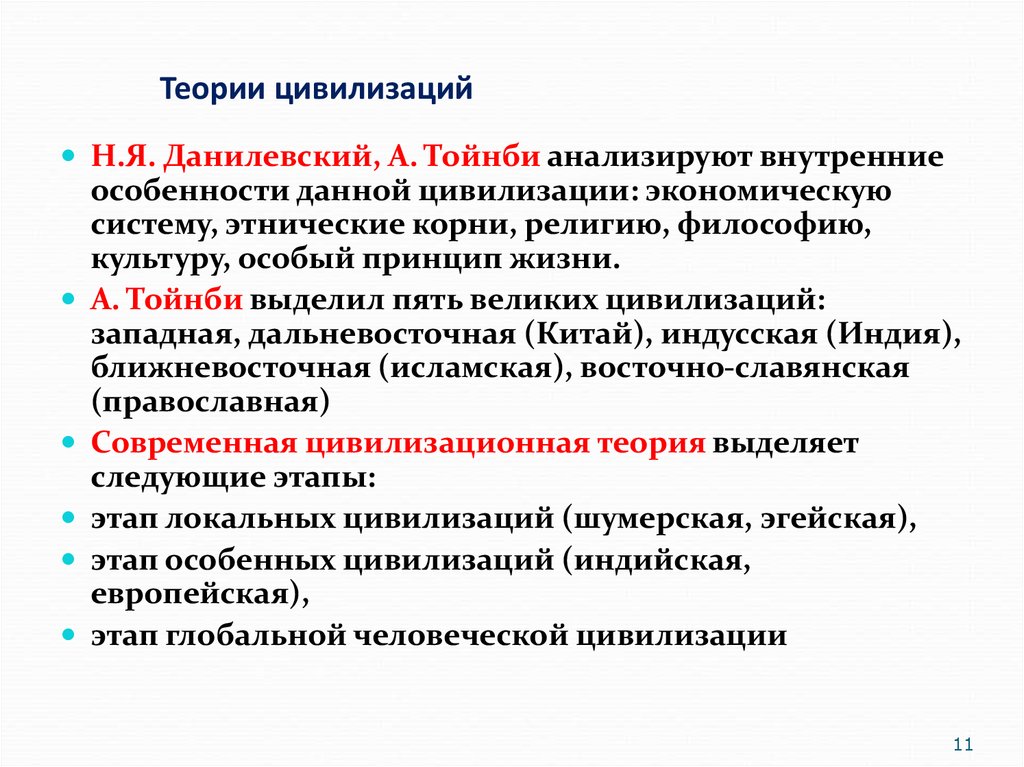 Развитие этих навыков и способов рассуждения должно быть неотъемлемой частью обучения естественным наукам.
Развитие этих навыков и способов рассуждения должно быть неотъемлемой частью обучения естественным наукам.
Выводы
Утверждается, что дети начинают процесс приобретения знаний, формируя убеждения, основанные на их повседневном опыте и мирской культуре. Эти верования не изолированы, а организованы в свободные и узкие, но относительно согласованные рамочные теории. Хотя рамочные теории имплицитны, не разделяются обществом и им не хватает систематичности и объяснительной силы научных теорий, они представляют собой системы, основанные на принципах, с механизмами обучения, такими как категоризация и причинная атрибуция, которые могут привести к объяснению и предсказанию. Научные концепции и теории сильно отличаются по своим концепциям, организации, онтологическим и эпистемологическим предпосылкам и по своим представлениям от рамочных теорий. Они требуют серьезных концептуальных изменений, чтобы быть полностью понятыми. Для осуществления этих концептуальных изменений требуется время.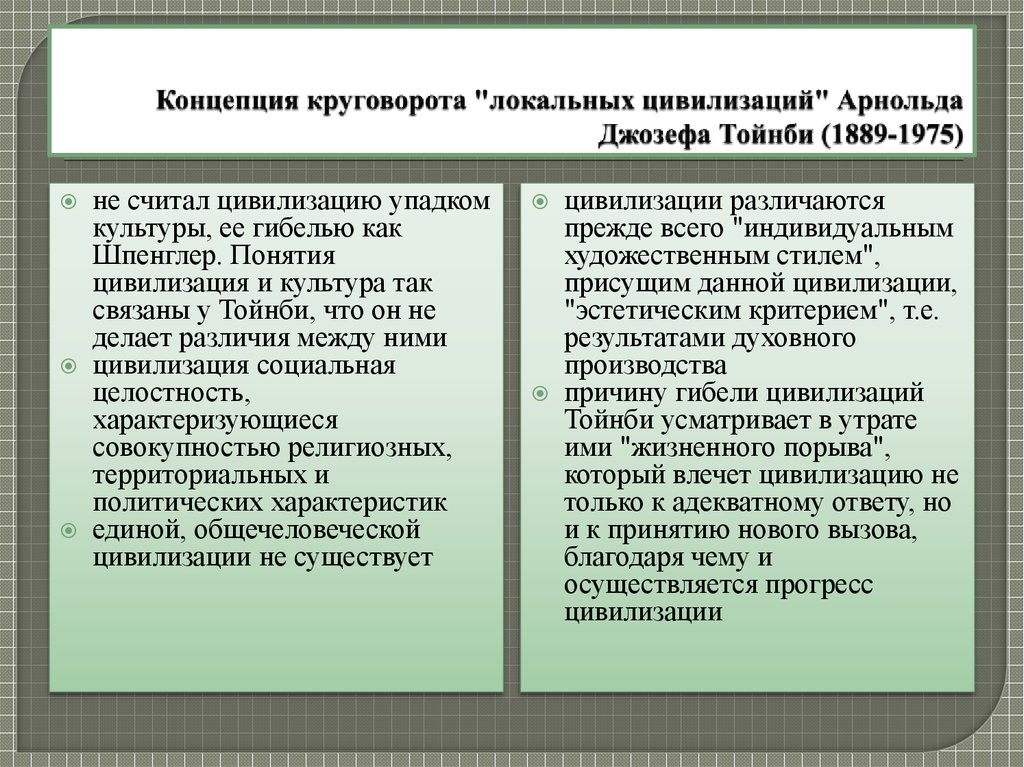 Развитие научных знаний — это длительный и постепенный процесс, в ходе которого учащиеся используют конструктивные механизмы обучения для усвоения новой научной информации в своих предыдущих знаниях, что приводит к гибридным концепциям или неправильным представлениям. Обучение естественным наукам должно помочь учащимся осознать свои убеждения, основанные на опыте, которые могут ограничивать изучение естественных наук, вызывая неправильные представления, предоставлять информацию постепенно, основываясь на прогрессе в обучении учащихся, и развивать у учащихся навыки научного мышления и исполнительной функции.
Развитие научных знаний — это длительный и постепенный процесс, в ходе которого учащиеся используют конструктивные механизмы обучения для усвоения новой научной информации в своих предыдущих знаниях, что приводит к гибридным концепциям или неправильным представлениям. Обучение естественным наукам должно помочь учащимся осознать свои убеждения, основанные на опыте, которые могут ограничивать изучение естественных наук, вызывая неправильные представления, предоставлять информацию постепенно, основываясь на прогрессе в обучении учащихся, и развивать у учащихся навыки научного мышления и исполнительной функции.
Вклад авторов
Автор подтверждает, что является единственным автором этой работы и одобрил ее публикацию.
Заявление о конфликте интересов
Автор заявляет, что исследование проводилось в отсутствие каких-либо коммерческих или финансовых отношений, которые могли бы быть истолкованы как потенциальный конфликт интересов.
Ссылки
Аллан Н.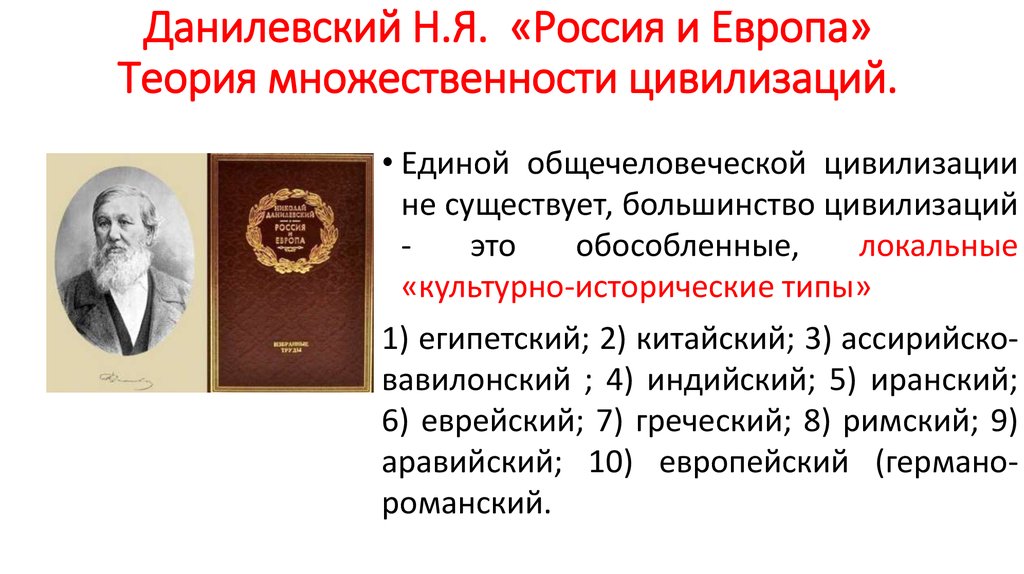 П., Хьюм Л.Е., Аллан Д.М., Фаррингтон А.Л. и Лониган С.Дж. (2014). Отношения между тормозным контролем и развитием академических навыков в дошкольном и детском саду: метаанализ. Дев. Психол . 50, 2368–2379. doi: 10.1037/a0037493
П., Хьюм Л.Е., Аллан Д.М., Фаррингтон А.Л. и Лониган С.Дж. (2014). Отношения между тормозным контролем и развитием академических навыков в дошкольном и детском саду: метаанализ. Дев. Психол . 50, 2368–2379. doi: 10.1037/a0037493
PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar
Бабай Р., Секал Р. и Стави Р. (2010). Устойчивость интуитивного представления о живом в подростковом возрасте. J. Sci. Образовательный Технол. 19, 20–26. doi: 10.1007/s10956-009-9174-2
Полный текст CrossRef | Google Scholar
Браун, Д., и Хаммер, Д. (2013). «Концептуальные изменения в физике», в International Handbook of Research on Conceptual Change 9.0014, 2-е изд., изд. С. Восниаду (Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Routledge), 121–137.
Google Scholar
Браун, Д. Э., и Хаммер, Д. (2008). «Концептуальные изменения в физике», в International Handbook of Research on Conceptual Change , ed S. Vosniadou (Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Routledge), 121–137.
Google Scholar
Каравита С. и Халлден О. (1994). Переосмысление проблемы концептуальных изменений. Учиться. Инстр . 4, 89–111. дои: 10.1016/0959-4752(94)
-5
Полнотекстовая перекрестная ссылка | Google Scholar
Кэри С., Зайчик Д. и Баскандзиев И. (2015). Теории развития: в диалоге с Жаном Пиаже. Дев. Ред. 38, 36–54. doi: 10.1016/j.dr.2015.07.003
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Чи, М. (2013). «Два вида и четыре подтипа ошибочных знаний, способы их изменения и результаты обучения», в International Handbook of Research on Conceptual Change , 2nd Edn, ed S. Vosniadou (New York, NY: Routledge), 49–71.
Google Scholar
Chi, M.T.H., Roscoe, R., Slotta, J., Roy, M., and Chase, C.C. (2012). Неверные причинно-следственные объяснения возникающих процессов. Познан. Наука . 36, 1–61. doi: 10.1111/j.1551-6709.2011.01207.x
PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar
Чинн, К. А., и Брюэр, В. (1993). Роль аномальных данных в приобретении знаний: теоретическая основа и последствия для обучения естественным наукам. Ред. Образование. Рез. 63, 1–49. doi: 10.3102/00346543063001001
А., и Брюэр, В. (1993). Роль аномальных данных в приобретении знаний: теоретическая основа и последствия для обучения естественным наукам. Ред. Образование. Рез. 63, 1–49. doi: 10.3102/00346543063001001
CrossRef Full Text | Google Scholar
Кларк, Д. Б., и Линн, М. К. (2008). «Перспектива интеграции знаний: связи между исследованиями и образованием», в International Handbook of Research on Conceptual Change , под ред. С. Восниаду (Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Routledge), 520–559.
Google Scholar
Клемент, Дж. (1982). Предубеждения студентов во вводной механике. утра. Дж. Физ . 50, 66–70.
Google Scholar
Коркоран Т., Мошер Ф. А. и Рогат А. (2009). Прогресс в науке. Основанный на фактических данных подход к реформе. Отчет Консорциума политических исследований в области образования № RR-63 . Филадельфия, Пенсильвания: Консорциум политических исследований.
ди Сесса, А. (1993). К эпистемологии физики. Познан.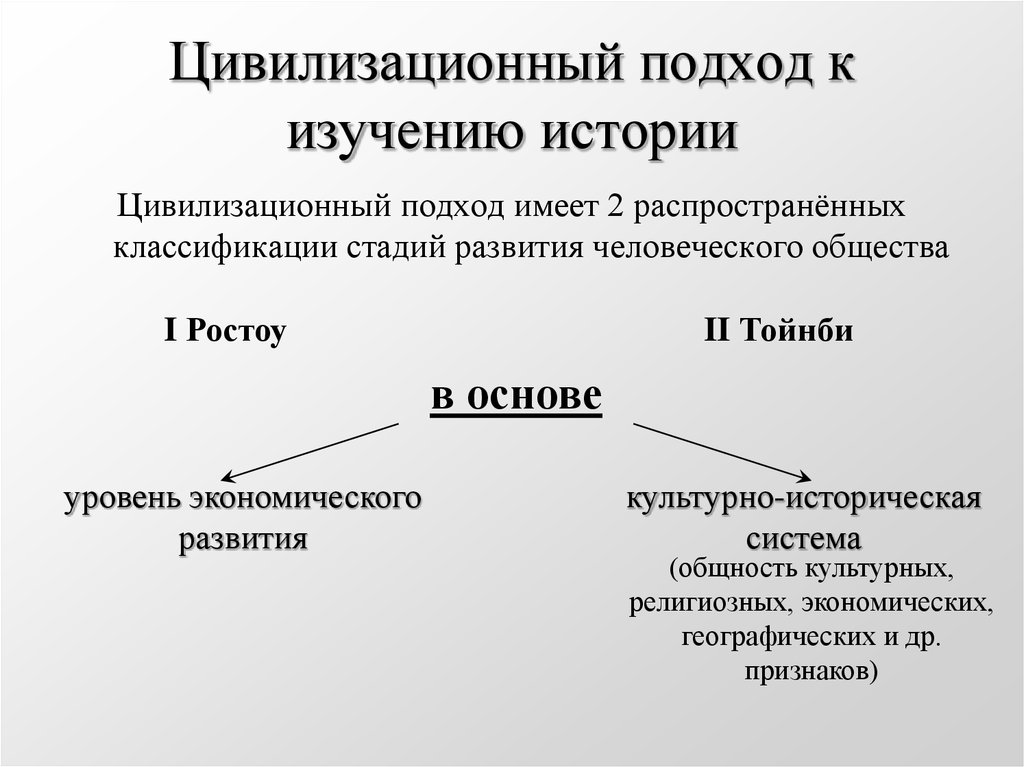 Инстр. 10, 105–225. doi: 10.1080/07370008.1985.9649008
Инстр. 10, 105–225. doi: 10.1080/07370008.1985.9649008
Полный текст CrossRef | Google Scholar
ди Сесса, А.А. (2008). «Взгляд с высоты птичьего полета на полемику между «фигурами» и «согласованностью» (со стороны фишек забора)», в International Handbook of Research on Conceptual Change , изд. С. Восниаду (Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Routledge), 35–60.
Google Scholar
Драйвер Р. и Исли Дж. (1978). Ученики и парадигмы: обзор литературы, связанной с развитием понятий у подростков, изучающих науку. Шпилька. науч. Образовательный 5, 61–84. doi: 10.1080/03057267808559857
CrossRef Full Text | Google Scholar
Duschl, R., Maeng, S., and Sezen, A. (2011). Процессы обучения и последовательности обучения: обзор и анализ. Стад. науч. Образовательный 47, 123–182. doi: 10.1080/03057267.2011.604476
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Fugelsang, J., and Mareschal, D. (2014). «Развитие и применение научных рассуждений», в Educational Neuroscience , eds D. Mareschal, B. Butterworth и A. Tolmie (Chichester: Wiley-Blackwell), 237–267.
Mareschal, B. Butterworth и A. Tolmie (Chichester: Wiley-Blackwell), 237–267.
Google Scholar
Гопник А., Собель Д. М., Шульц Л. и Глимур К. (2001). Механизмы причинного обучения у очень маленьких детей: двух-, трех- и четырехлетних детей делают вывод о причинно-следственных связях на основе вариаций и ковариаций. Дев. Психол . 37, 620–629. doi: 10.1037//0012-1649.375.620
PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar
Иоаннидес, К., и Восниаду, С. (2002). Меняющиеся значения силы. Познан. науч. кв. 2, 5–62.
Google Scholar
Келемен Д., Роттман Дж. и Сестон Р. (2013). Профессиональные ученые-физики демонстрируют устойчивые телеологические тенденции: целеустремленное рассуждение как когнитивный дефолт. Дж. Экспл. Психол. Ген . 142, 1074–1083. doi: 10.1037/a0030399
PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar
Массон С., Потвин П., Риопель М. и Бро-Фуази Л.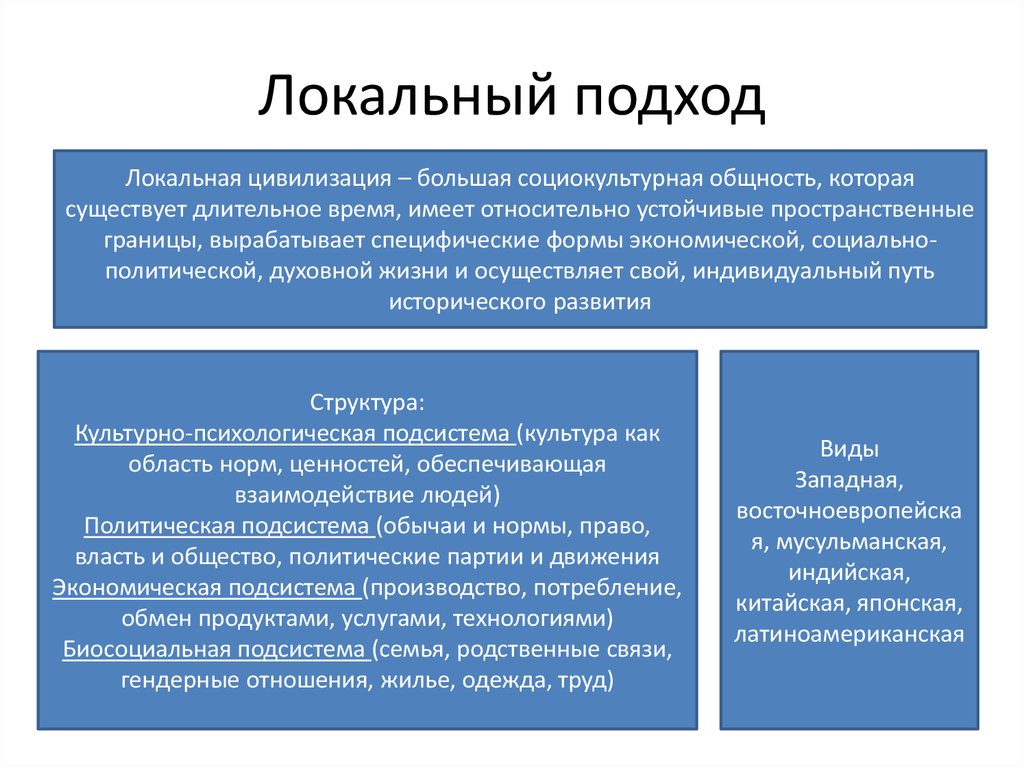 -М. (2014). Различия в активации мозга между новичками и экспертами в науке при выполнении задачи, связанной с распространенным заблуждением об электричестве. Обучение мозгу разума. 8, 44–55. doi: 10.1111/mbe.12043
-М. (2014). Различия в активации мозга между новичками и экспертами в науке при выполнении задачи, связанной с распространенным заблуждением об электричестве. Обучение мозгу разума. 8, 44–55. doi: 10.1111/mbe.12043
Полный текст CrossRef | Google Scholar
Макклоски, М. (1983). Интуитивная физика. Науч. 9 утра0014 . 248, 122–130. doi: 10.1038/scientificamerican0483-122
Полный текст CrossRef | Google Scholar
Новак, Дж. Д. (1987). «Введение», в материалах Второго международного семинара: заблуждения и образовательные стратегии в науке и математике (Итака, штат Нью-Йорк; Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Корнельский университет).
Google Scholar
Познер Г.Дж., Страйк К.А., Хьюсон П.В. и Герцог В.А. (1982). Аккомодация научной концепции: к теории концептуального изменения. Науч. Образовательный 66, 211–227. doi: 10.1002/sce.3730660207
Полный текст CrossRef | Google Scholar
Потвин П., Массон С., Лафортун С. и Сир Г. (2015). Стойкость интуитивного представления о том, что более тяжелые объекты тонут больше: исследование времени реакции при различных уровнях помех. Междунар. J. Sci. Матем. Образовательный 13, 21–34. doi: 10.1007/s10763-014-9520-6
и Сир Г. (2015). Стойкость интуитивного представления о том, что более тяжелые объекты тонут больше: исследование времени реакции при различных уровнях помех. Междунар. J. Sci. Матем. Образовательный 13, 21–34. doi: 10.1007/s10763-014-9520-6
Полный текст CrossRef | Google Scholar
Штульман А. и Валкарел Дж. (2012). Научное знание подавляет, но не вытесняет более раннюю интуицию. Познание 124, 209–215. doi: 10.1016/j.cognition.2012.04.005
Полный текст CrossRef | Google Scholar
Слоуски, В. М. (2003). Роль сходства в развитии категоризации. Тенденции Cogn. Наука . 7, 246–251. doi: 10.1016/S1364-6613(03)00109-8
Полный текст CrossRef | Google Scholar
Smith, J.P., diSessa, A.A., and Rochelle, J. (1993). Переосмысленные заблуждения: конструктивистский анализ знаний в переходный период. Дж. Учись. науч. 3, 115–163. doi: 10.1207/s15327809jls0302_1
CrossRef Full Text | Google Scholar
Восниаду, С.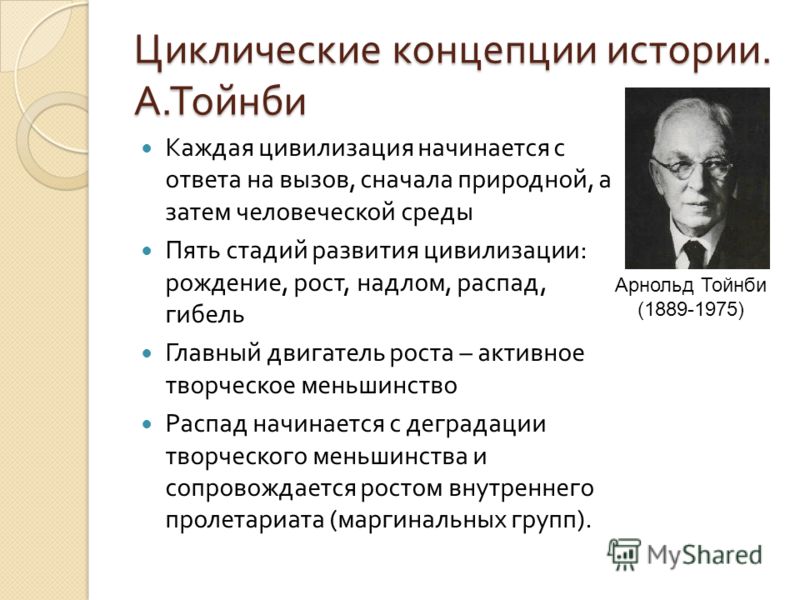 (2013). «Концептуальные изменения в обучении и обучении: подход теории структуры», в The International Handbook of Conceptual Change , 2nd Edn, ed S. Vosniadou (Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Routledge), 11–30.
(2013). «Концептуальные изменения в обучении и обучении: подход теории структуры», в The International Handbook of Conceptual Change , 2nd Edn, ed S. Vosniadou (Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Routledge), 11–30.
Google Scholar
Восниаду С. (в печати). «Убеждения и знания учителей», в «Решение проблем в обучении и преподавании: сборник для почетного профессора Майка Лоусона» , редакторы Дж. Оррелл и Х. Аскелл-Уильямс
Google Scholar
Восниаду С. и Брюэр В. Ф. (1992). Ментальные модели Земли. Познан. Психол. 24, 535–585. doi: 10.1016/0010-0285(92)
-W
Полный текст CrossRef | Google Scholar
Восниаду С. и Брюэр В. Ф. (1994). Ментальные модели смены дня и ночи. Познан. науч. 18, 123–183. doi: 10.1207/s15516709cog1801_4
Полный текст CrossRef | Google Scholar
Восниаду С., Пневматикос Д. и Макрис Н. (2018). Роль исполнительной функции в построении и использовании научных и математических концепций, требующих обучения концептуальным изменениям. Нейрообразование 5, 58–68. doi: 10.240.46/neuroed.20180502.58
Нейрообразование 5, 58–68. doi: 10.240.46/neuroed.20180502.58
CrossRef Full Text
Vosniadou, S. and Skopeliti (2017). Земля вращается или Солнце уходит за горы? Неправильные представления учащихся о смене дня и ночи после прочтения научного текста. Междунар. J. Sci. Образовательный 39, 2027–2051. doi: 10.1080/09500693.2017.1361557
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Восниаду С. и Скопелити Э. (2018). Оценка влияния текста, обогащенного аналогией, на изучение науки. Важность индексов обучения. Дж. Рез. науч. Учить. doi: 10.1002/tea.21523. [Epub перед печатью].
Полнотекстовая перекрестная ссылка | Google Scholar
Восниаду С. и Скопелити И. (2014). Концептуальное изменение со стороны теории рамок забора. Науч. Образование . 23, 1427–1445. doi: 10.1007/s11191-013-9640-3
CrossRef Full Text | Google Scholar
Веллман, Х.М., и Гельман, С.А. (1998). «Приобретение знаний в основных областях», в Cognition, Perception and Language.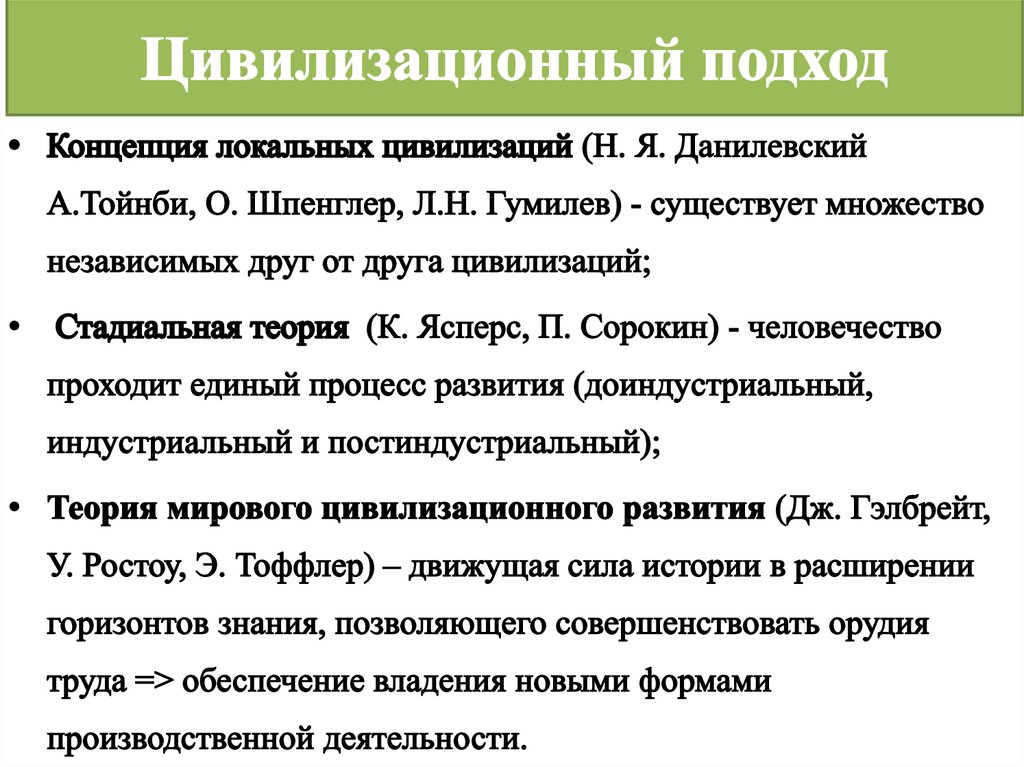 Том 2 Справочника по детской психологии , 5-е изд., ред. Д. Куна и Р. Сиглера (Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Wiley), 523–573.
Том 2 Справочника по детской психологии , 5-е изд., ред. Д. Куна и Р. Сиглера (Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Wiley), 523–573.
Google Scholar
Wiser, M., and Smith, C.L. (2008). «Изучение и преподавание материи в классах K-8: когда следует вводить атомно-молекулярную теорию?», International Handbook of Research on Conceptual Change , ed S.Vosniadou (Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Routledge), 205– 239.
Zaitchick, D., Iqbal, Y., and Carey, S. (2014). Влияние исполнительной функции на биологическое мышление у маленьких детей: исследование индивидуальных различий. Детский Дев. 85, 160–175. doi: 10.1111/cdev.12145
Полный текст CrossRef | Google Scholar
Научная революция | History of Western Civilization II
19.3.1: Истоки научной революции
Научная революция, сделавшая акцент на систематическом экспериментировании как наиболее действенном методе исследования, привела к развитию математики, физики, астрономии, биологии и химии.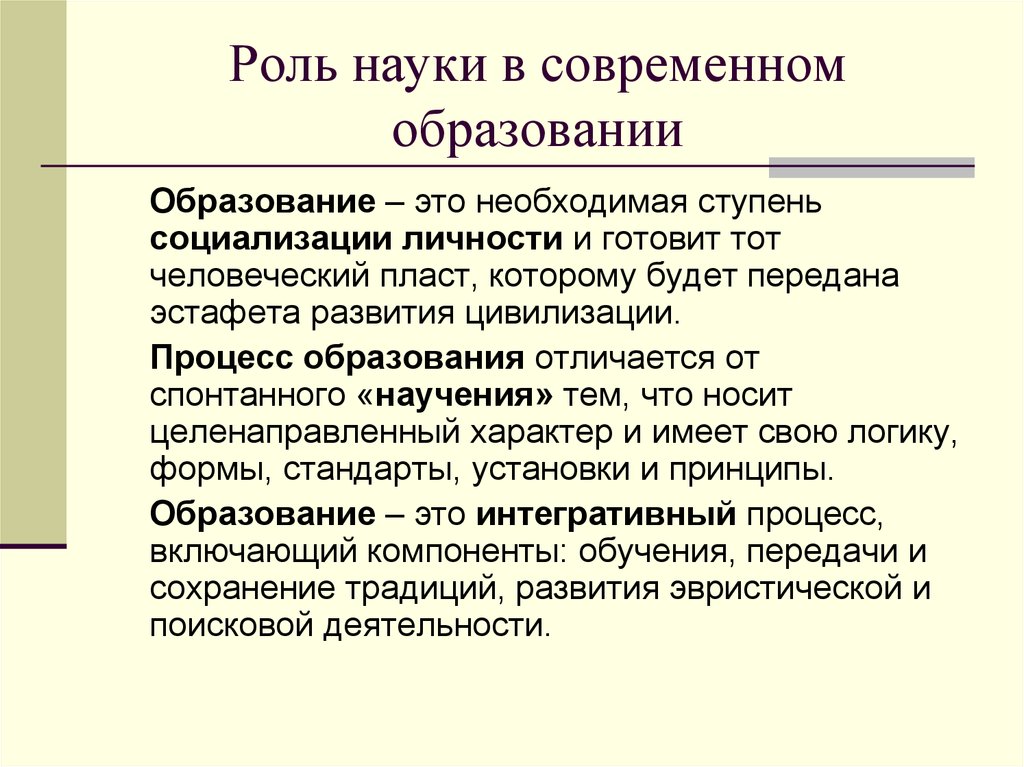 Эти события изменили взгляды общества на природу.
Эти события изменили взгляды общества на природу.
Цель обучения
Опишите изменения, произошедшие во время научной революции, которые привели к разработке новых средств для экспериментов
Ключевые моменты математика, физика, астрономия, биология (включая анатомию человека) и химия изменили представления общества о природе.

Основные термины
- научный метод
- Совокупность методов исследования явлений, приобретения новых знаний или исправления и интеграции предыдущих знаний посредством применения эмпирических или измеримых данных, основанных на определенных принципах рассуждения. Он характеризует естествознание с 17 века и состоит в систематическом наблюдении, измерении и эксперименте, а также в формулировании, проверке и модификации гипотез.
- Метод Бэкона
- Метод расследования, разработанный сэром Фрэнсисом Бэконом.
 Он был выдвинут в книге Бэкона Novum Organum (1620), (или Новый метод ), и должен был заменить методы, выдвинутые Аристотелем в Organon . Этот метод оказал влияние на развитие научного метода в современной науке, а также, в более общем плане, на ранний современный отказ от средневекового аристотелизма.
Он был выдвинут в книге Бэкона Novum Organum (1620), (или Новый метод ), и должен был заменить методы, выдвинутые Аристотелем в Organon . Этот метод оказал влияние на развитие научного метода в современной науке, а также, в более общем плане, на ранний современный отказ от средневекового аристотелизма. - Галилео
- Итальянский мыслитель (1564-1642) и ключевая фигура научной революции, усовершенствовавший телескоп, проведший астрономические наблюдения и выдвинувший основной принцип относительности в физике.
- эмпиризм
- Теория, утверждающая, что знание приходит только или в первую очередь из чувственного опыта. Особое внимание уделяется доказательствам, особенно доказательствам, полученным в результате экспериментов и с использованием научного метода.
- Британское королевское общество
- Британское научное общество; возможно, самое старое из существующих подобных обществ, основанное в ноябре 1660 года.

Научная революция – это появление современной науки в период раннего Нового времени, когда развитие математики, физики, астрономии, биологии (включая анатомию человека) и химии изменило представления общества о природе. Научная революция началась в Европе к концу периода Возрождения и продолжалась до конца 18 века, оказывая влияние на интеллектуальное общественное движение, известное как Просвещение. Хотя его даты оспариваются, публикация в 1543 году Николая Коперника De Revolutionibus orbium coelestium ( Об обращениях небесных сфер ) часто называют началом научной революции.
Научная революция была построена на фундаменте древнегреческой учености и науки в Средние века, поскольку она была разработана и развита римско-византийской наукой и средневековой исламской наукой. Аристотелевская традиция все еще была важной интеллектуальной основой в 17 веке, хотя к тому времени естествоиспытатели отошли от большей ее части. Ключевые научные идеи, восходящие к классической древности, сильно изменились за прошедшие годы и во многих случаях были дискредитированы.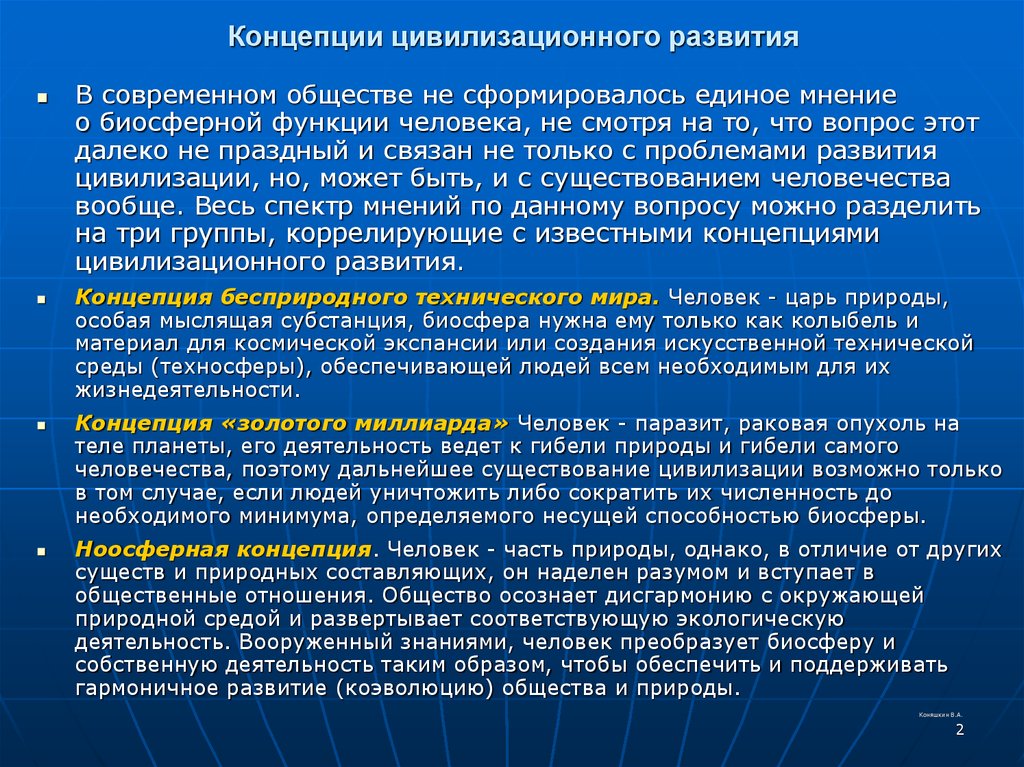 Сохранившиеся идеи (например, космология Аристотеля, помещавшая Землю в центр сферического иерархического космоса, или птолемеевская модель движения планет) коренным образом трансформировались в ходе научной революции.
Сохранившиеся идеи (например, космология Аристотеля, помещавшая Землю в центр сферического иерархического космоса, или птолемеевская модель движения планет) коренным образом трансформировались в ходе научной революции.
Изменение средневекового представления о науке произошло по четырем причинам:
- Ученые и философы семнадцатого века могли сотрудничать с членами математических и астрономических сообществ для достижения прогресса во всех областях.
- Ученые осознали непригодность средневековых экспериментальных методов для своей работы и поэтому почувствовали необходимость разработать новые методы (некоторые из которых мы используем сегодня).
- Академики имели доступ к наследию европейской, греческой и ближневосточной научной философии, которую они могли использовать в качестве отправной точки (путем опровержения или построения теорем).
- Учреждения (например, Британское королевское общество) помогли утвердить науку как область, предоставив выход для публикации работ ученых.

Новые методы
При научном методе, который был определен и применялся в 17 веке, естественные и искусственные обстоятельства были отвергнуты, а исследовательская традиция систематического экспериментирования постепенно принялась во всем научном сообществе. Философия использования индуктивного подхода к природе (отказ от предположений и попытка просто наблюдать непредвзято) резко контрастировала с более ранним аристотелевским подходом к дедукции, с помощью которого анализ известных фактов приводил к дальнейшему пониманию. На практике многие ученые и философы считали, что необходимо здоровое сочетание того и другого — готовность как подвергать сомнению предположения, так и интерпретировать наблюдения, которые, как предполагается, имеют некоторую степень достоверности.
Во время научной революции изменение представлений о роли ученого по отношению к природе, ценности доказательств, экспериментальных или наблюдаемых, привело к научной методологии, в которой эмпиризм играл большую, но не абсолютную роль.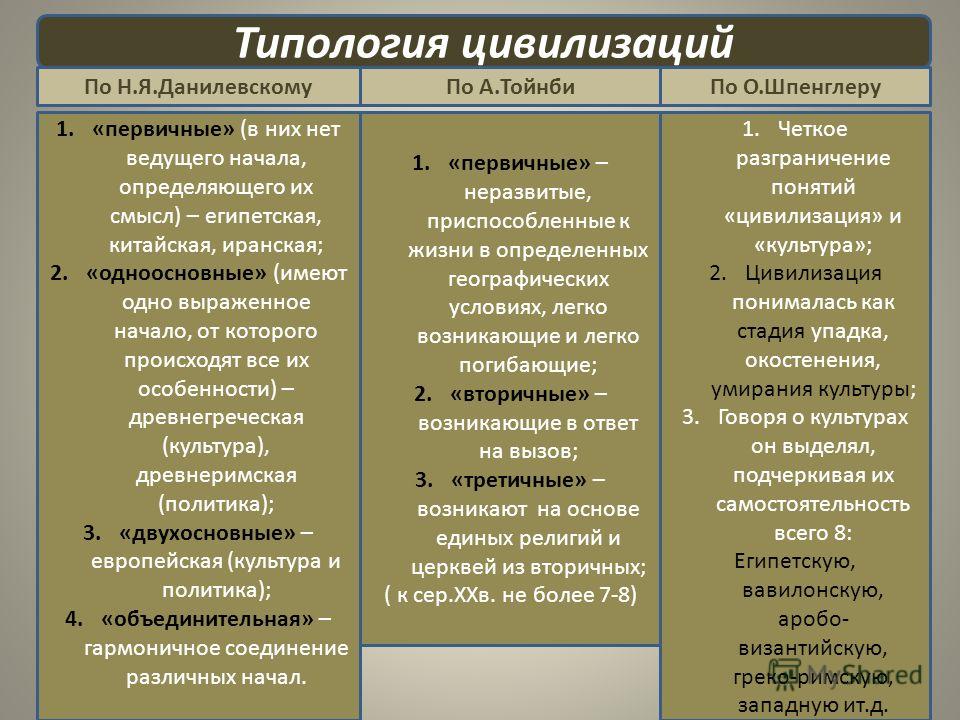 Термин «британский эмпиризм» стал использоваться для описания философских различий между двумя его основателями — Фрэнсисом Бэконом, которого называли эмпириком, и Рене Декартом, которого называли рационалистом. Работы Бэкона установили и популяризировали индуктивные методологии научных исследований, часто называемые бэконовским методом, а иногда просто научным методом. Его требование плановой процедуры исследования всего естественного ознаменовало новый поворот в риторических и теоретических рамках науки, большая часть которых до сих пор окружает концепции правильной методологии. Соответственно, Декарт различал знание, которое может быть достигнуто одним разумом (рационалистический подход), как, например, в математике, и знание, требующее переживания мира, как в физике.
Термин «британский эмпиризм» стал использоваться для описания философских различий между двумя его основателями — Фрэнсисом Бэконом, которого называли эмпириком, и Рене Декартом, которого называли рационалистом. Работы Бэкона установили и популяризировали индуктивные методологии научных исследований, часто называемые бэконовским методом, а иногда просто научным методом. Его требование плановой процедуры исследования всего естественного ознаменовало новый поворот в риторических и теоретических рамках науки, большая часть которых до сих пор окружает концепции правильной методологии. Соответственно, Декарт различал знание, которое может быть достигнуто одним разумом (рационалистический подход), как, например, в математике, и знание, требующее переживания мира, как в физике.
Томас Гоббс, Джордж Беркли и Дэвид Юм были основными представителями эмпиризма и разработали сложную эмпирическую традицию как основу человеческого знания. Признанным основателем этого подхода был Джон Локк, который в году (1689) предположил, что единственным истинным знанием, которое может быть доступно человеческому разуму, является то, что основано на опыте.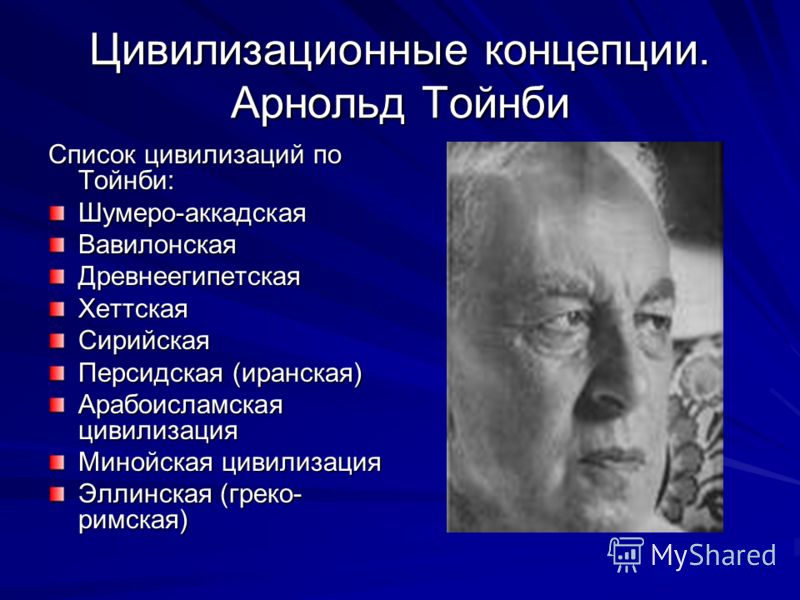
Новые идеи
Многие новые идеи способствовали тому, что называется научной революцией. Некоторые из них были революциями в своих областях. К ним относятся:
- Гелиоцентрическая модель, предполагающая радикальное смещение Земли на орбиту вокруг Солнца (в отличие от того, что она рассматривается как центр Вселенной). Работа Коперника 1543 года над гелиоцентрической моделью Солнечной системы была попыткой продемонстрировать, что Солнце является центром Вселенной. Открытия Иоганна Кеплера и Галилея придали теории достоверность, и работа завершилась созданием Исаака Ньютона Principia, , в которых были сформулированы законы движения и всемирного тяготения, которые доминировали в взглядах ученых на физическую вселенную в течение следующих трех столетий.
- Изучение анатомии человека на основе вскрытия человеческих трупов, а не вскрытия животных, как это практиковалось веками.
- Открытие и изучение магнетизма и электричества, а значит, и электрических свойств различных материалов.

- Модернизация дисциплин (превращение их в то, чем они являются сегодня), включая стоматологию, физиологию, химию или оптику.
- Изобретение инструментов, углубивших понимание наук, включая механический калькулятор, паровой варочный котел (предшественник паровой машины), преломляющие и отражающие телескопы, вакуумный насос или ртутный барометр.
Шеннон Портрет достопочтенного. Роберт Бойль Ф. Р. С. (1627–1691) Роберт Бойль (1627–1691), английский ученый ирландского происхождения, был одним из первых сторонников научного метода и основателем современной химии. Бойль известен своими новаторскими экспериментами над физическими свойствами газов, авторством книги «Скептический химик», своей ролью в создании Лондонского королевского общества и своей благотворительной деятельностью в американских колониях.
Научная революция и Просвещение
Научная революция заложила основы эпохи Просвещения, в центре которой был разум как основной источник авторитета и легитимности, и подчеркивалась важность научного метода.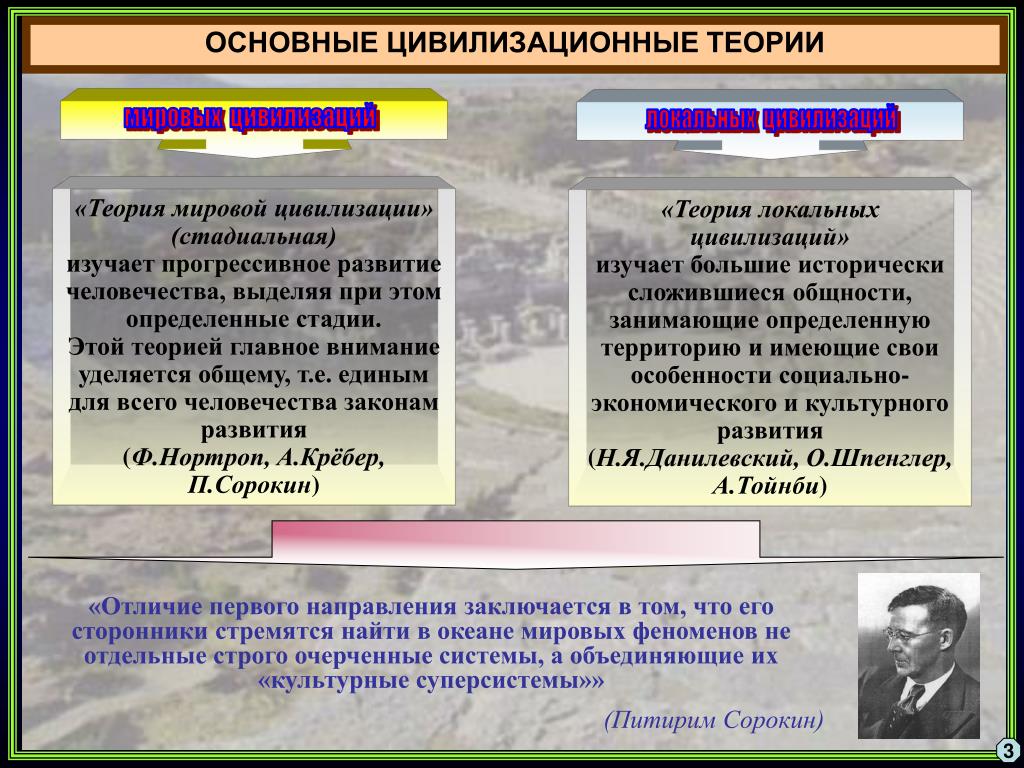 К 18 веку, когда процветало Просвещение, научный авторитет начал вытеснять религиозный авторитет, а дисциплины, которые до этого считались законно научными (например, алхимия и астрология), потеряли научное доверие.
К 18 веку, когда процветало Просвещение, научный авторитет начал вытеснять религиозный авторитет, а дисциплины, которые до этого считались законно научными (например, алхимия и астрология), потеряли научное доверие.
Наука стала играть ведущую роль в дискурсе и мысли эпохи Просвещения. Многие писатели и мыслители эпохи Просвещения имели опыт работы в науке и связывали научный прогресс с ниспровержением религии и традиционных авторитетов в пользу развития свободы слова и мысли. Вообще говоря, наука Просвещения высоко ценила эмпиризм и рациональное мышление и была связана с идеалом Просвещения о продвижении и прогрессе. В то время в науке доминировали научные общества и академии, которые в значительной степени заменили университеты в качестве центров научных исследований и разработок. Общества и академии также были основой становления научной профессии. Еще одним важным событием стала популяризация науки среди все более грамотного населения. В этом веке произошли значительные успехи в медицине, математике и физике; развитие биологической таксономии; новое понимание магнетизма и электричества; и созревание химии как дисциплины, заложившей основы современной химии.
Принципы Исаака Ньютона разработали первый набор единых научных законов
Ньютон Принципы сформулировали законы движения и всемирного тяготения, которые доминировали в взглядах ученых на физическую вселенную в течение следующих трех столетий. Выведя законы движения планет Кеплера из своего математического описания гравитации, а затем используя те же принципы для объяснения траекторий комет, приливов, прецессии точек равноденствия и других явлений, Ньютон рассеял последние сомнения в справедливости теории гравитации. гелиоцентрическая модель космоса. Эта работа также продемонстрировала, что движение объектов на Земле и небесных тел можно описать одними и теми же принципами. Его законы движения должны были стать прочной основой механики.
Атрибуция
- Истоки научной революции
«Эпоха Просвещения». https://en.wikipedia.org/wiki/Age_of_Enlightenment. Википедия CC BY-SA 3.0.
«Рене Декарт». https://en.
 wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Descartes. Википедия CC BY-SA 3.0.
wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Descartes. Википедия CC BY-SA 3.0.«Научный метод». https://en.wikipedia.org/wiki/Научный_метод. Википедия CC BY-SA 3.0.
«Метод Бэкона». https://en.wikipedia.org/wiki/Baconian_method. Википедия CC BY-SA 3.0.
«Королевское общество». http://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Society. Википедия CC BY-SA 3.0.
«Галилео Галилей». https://en.wikipedia.org/wiki/Галилео_Галилей. Википедия CC BY-SA 3.0.
«Наука в эпоху Просвещения». https://en.wikipedia.org/wiki/Science_in_the_Age_of_Enlightenment. Википедия CC BY-SA 3.0.
«Научная революция». https://en.wikipedia.org/wiki/Научная_революция. Википедия CC BY-SA 3.0.
«Джо Кент, Влияние научной революции: краткая история экспериментального метода в 17 веке. 12 июня 2014 года». http://cnx.org/content/m13245/1.1/. OpenStax CNX CC BY 2.0.
«NewtonsPrincipia.
 jpg». https://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_revolution#/media/File:NewtonsPrincipia.jpg. Википедия CC BY-SA 2.0.
jpg». https://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_revolution#/media/File:NewtonsPrincipia.jpg. Википедия CC BY-SA 2.0.«Шеннонский портрет достопочтенного Роберта Бойля». http://en.wikipedia.org/wiki/File:The_Shannon_Portrait_of_the_Hon_Robert_Boyle.jpg. Википедия Общественное достояние.
Была ли наша Вселенная создана в лаборатории?
Самая большая загадка в истории нашей вселенной — это то, что произошло до Большого взрыва. Откуда взялась наша Вселенная? Почти столетие назад Альберт Эйнштейн искал стационарные альтернативы модели большого взрыва, потому что начало во времени не удовлетворяло его с философской точки зрения.
В научной литературе существует множество предположений о нашем космическом происхождении, в том числе идеи о том, что наша Вселенная возникла в результате флуктуации вакуума, или что она циклична с повторяющимися периодами сжатия и расширения, или что она была выбрана антропный принцип из ландшафта теории струн мультивселенной — где, как говорит космолог Массачусетского технологического института Алан Гут, «все, что может произойти, произойдет… бесконечное число раз», или что он возник в результате коллапса материи в внутренность черной дыры.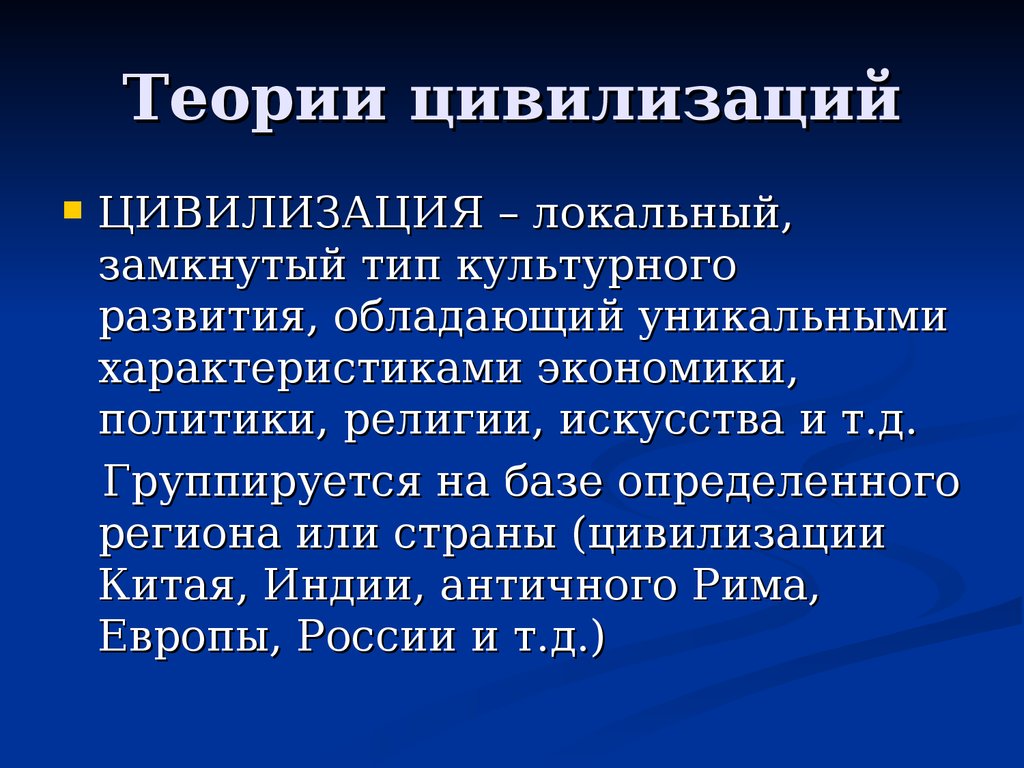
Менее исследованная возможность состоит в том, что наша вселенная была создана в лаборатории высокоразвитой технологической цивилизации. Поскольку наша Вселенная имеет плоскую геометрию с нулевой чистой энергией, развитая цивилизация могла бы разработать технологию, которая создала бы дочернюю вселенную из ничего посредством квантового туннелирования.
Эта возможная история происхождения объединяет религиозное представление о создателе со светским представлением о квантовой гравитации. У нас нет прогностической теории, объединяющей два столпа современной физики: квантовую механику и гравитацию. Но более развитая цивилизация могла бы совершить этот подвиг и освоить технологию создания дочерних вселенных. Если бы это произошло, то это могло бы не только объяснить происхождение нашей Вселенной, но и предположить, что вселенная, подобная нашей, — в которой на этом рисунке находится развитая технологическая цивилизация, дающая начало новой плоской вселенной, — подобна биологической.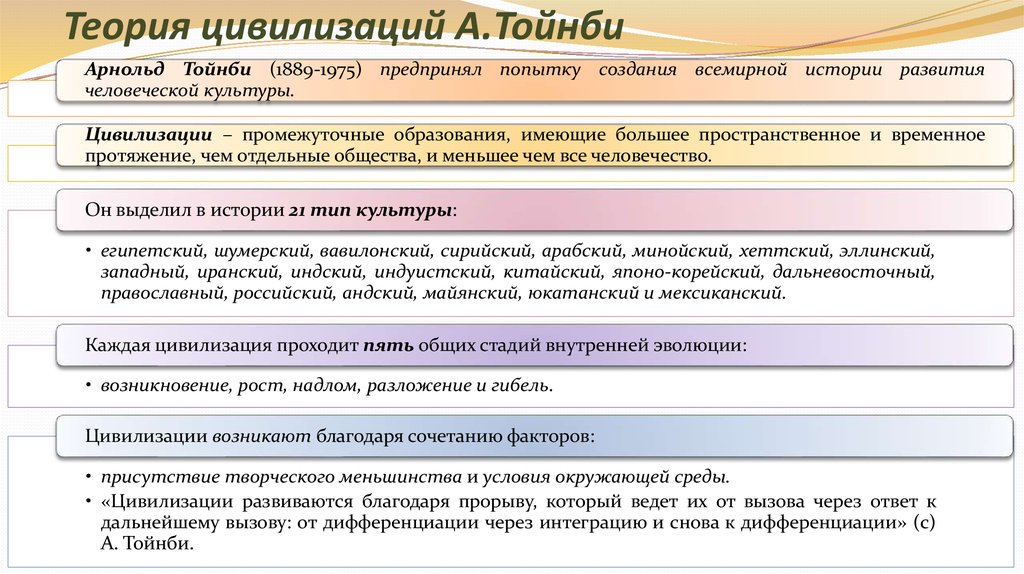 система, которая поддерживает долговечность своего генетического материала на протяжении нескольких поколений.
система, которая поддерживает долговечность своего генетического материала на протяжении нескольких поколений.
Если это так, то наша Вселенная была выбрана не для того, чтобы мы могли в ней существовать, как следует из общепринятых антропных рассуждений, а, скорее, она была выбрана таким образом, чтобы дать начало цивилизациям, намного более развитым, чем мы. Те «более умные дети в нашем космическом блоке», которые способны разработать технологию, необходимую для создания дочерних вселенных, являются двигателями космического дарвиновского процесса отбора, тогда как мы пока не можем обеспечить возрождение космических условий, которые привели к к нашему существованию. Можно сказать, что наша цивилизация по-прежнему космологически бесплодна, поскольку мы не можем воспроизвести мир, создавший нас.
С этой точки зрения технологический уровень цивилизаций не должен измеряться тем, сколько энергии они потребляют, как предполагает шкала, предложенная в 1964 году Николаем Кардашевым. Вместо этого его следует измерять способностью цивилизации воспроизводить астрофизические условия, которые привели к ее существованию.
Вместо этого его следует измерять способностью цивилизации воспроизводить астрофизические условия, которые привели к ее существованию.
На данный момент мы низкоуровневая технологическая цивилизация, класс C по космической шкале, так как мы не можем воссоздать даже пригодные для жизни условия на нашей планете на тот момент, когда солнце умрет. Хуже того, мы можем быть помечены как класс D , так как мы небрежно разрушаем естественную среду обитания на Земле из-за изменения климата, вызванного нашими технологиями. Цивилизация класса B могла регулировать условия в своем непосредственном окружении, чтобы быть независимыми от своей звезды-хозяина. Цивилизация с рангом класса А могла воссоздать космические условия, которые привели к ее существованию, а именно создать в лаборатории детскую вселенную.
Достижение отличия цивилизации класса А нетривиально по меркам физики, какой мы ее знаем. Связанные с этим проблемы, такие как создание достаточно большой плотности темной энергии в небольшой области, уже обсуждались в научной литературе.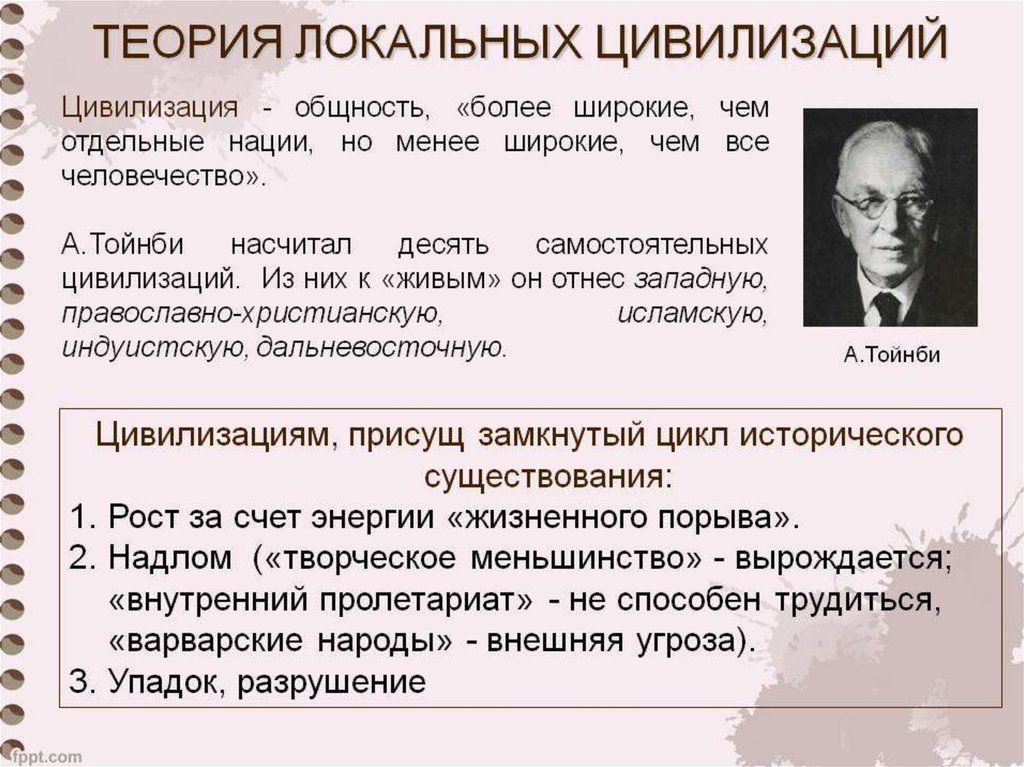

 Культурная революция. 1968 год и «Зеленые»
Культурная революция. 1968 год и «Зеленые»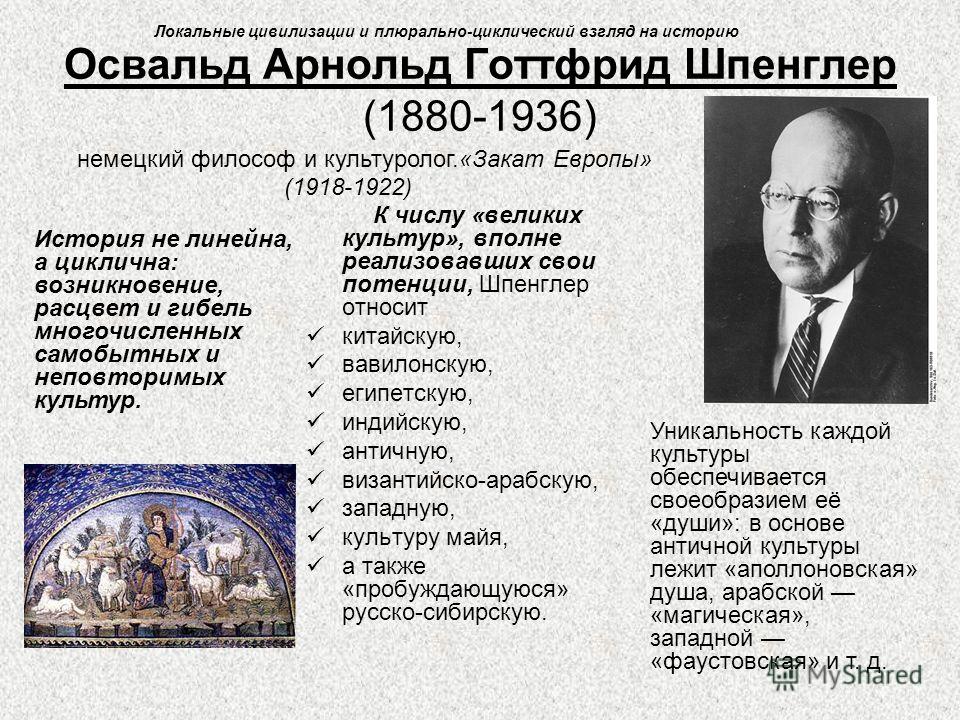 Зачем быть гражданином (и участвовать в политике)
Зачем быть гражданином (и участвовать в политике) Реформы в России. Часть вторая
Реформы в России. Часть вторая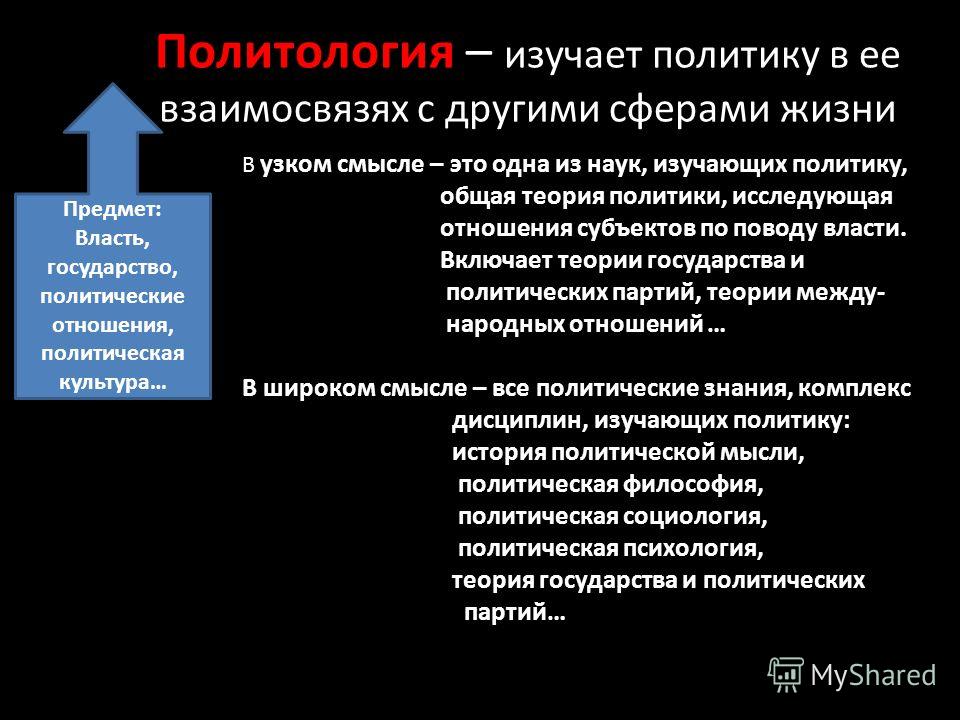 Террор: Война за смысл
Террор: Война за смысл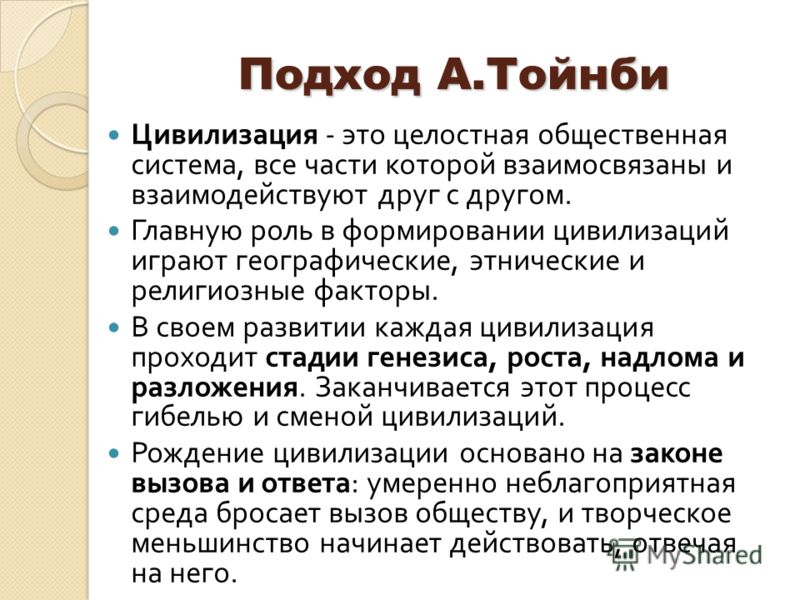 Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.
Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.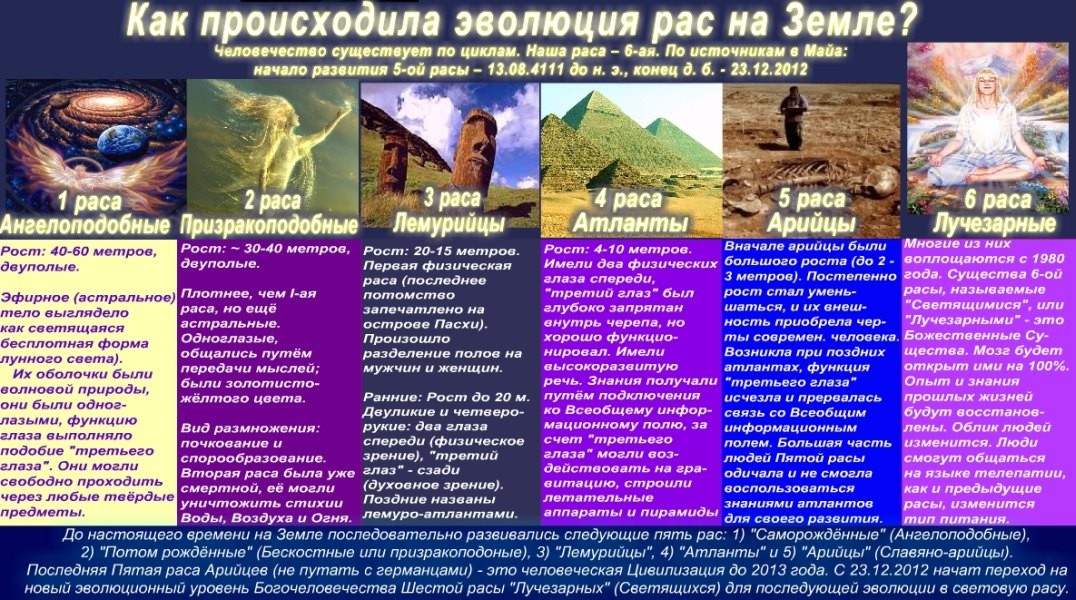 Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.
Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.
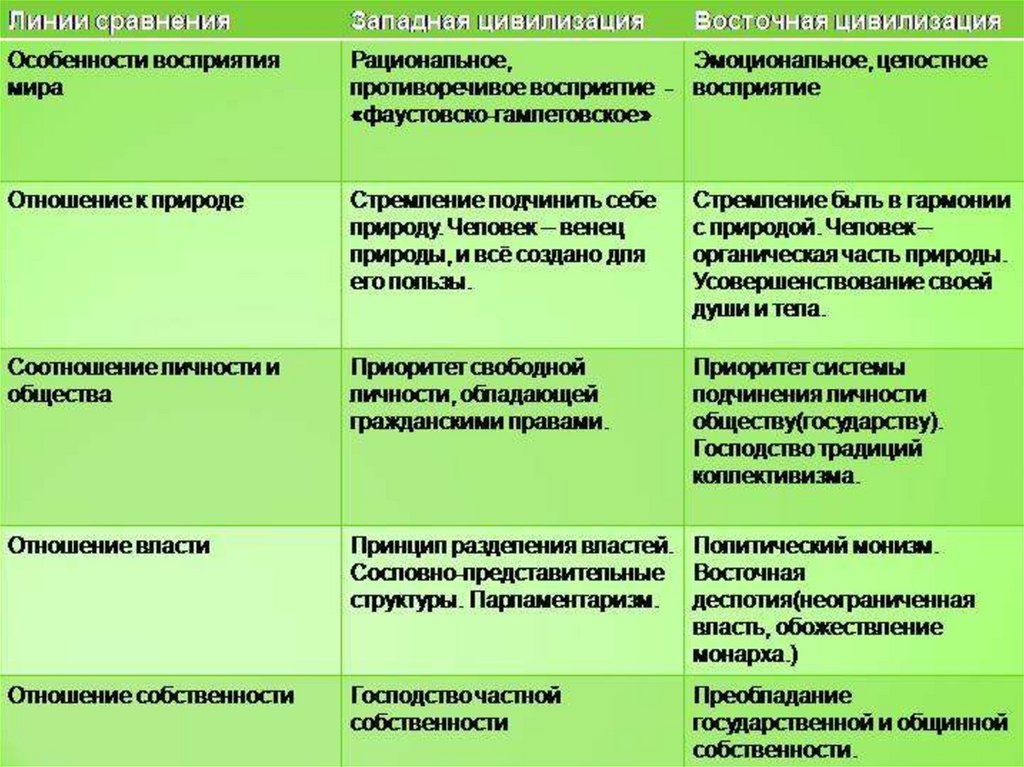
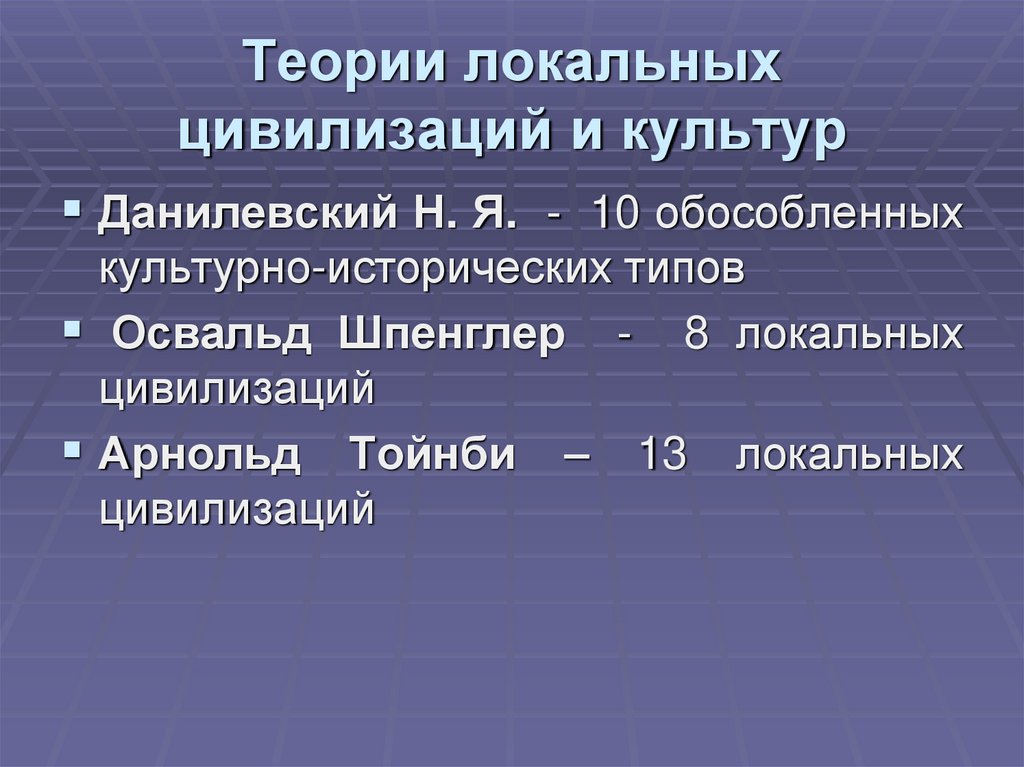 Он был выдвинут в книге Бэкона Novum Organum (1620), (или Новый метод ), и должен был заменить методы, выдвинутые Аристотелем в Organon . Этот метод оказал влияние на развитие научного метода в современной науке, а также, в более общем плане, на ранний современный отказ от средневекового аристотелизма.
Он был выдвинут в книге Бэкона Novum Organum (1620), (или Новый метод ), и должен был заменить методы, выдвинутые Аристотелем в Organon . Этот метод оказал влияние на развитие научного метода в современной науке, а также, в более общем плане, на ранний современный отказ от средневекового аристотелизма.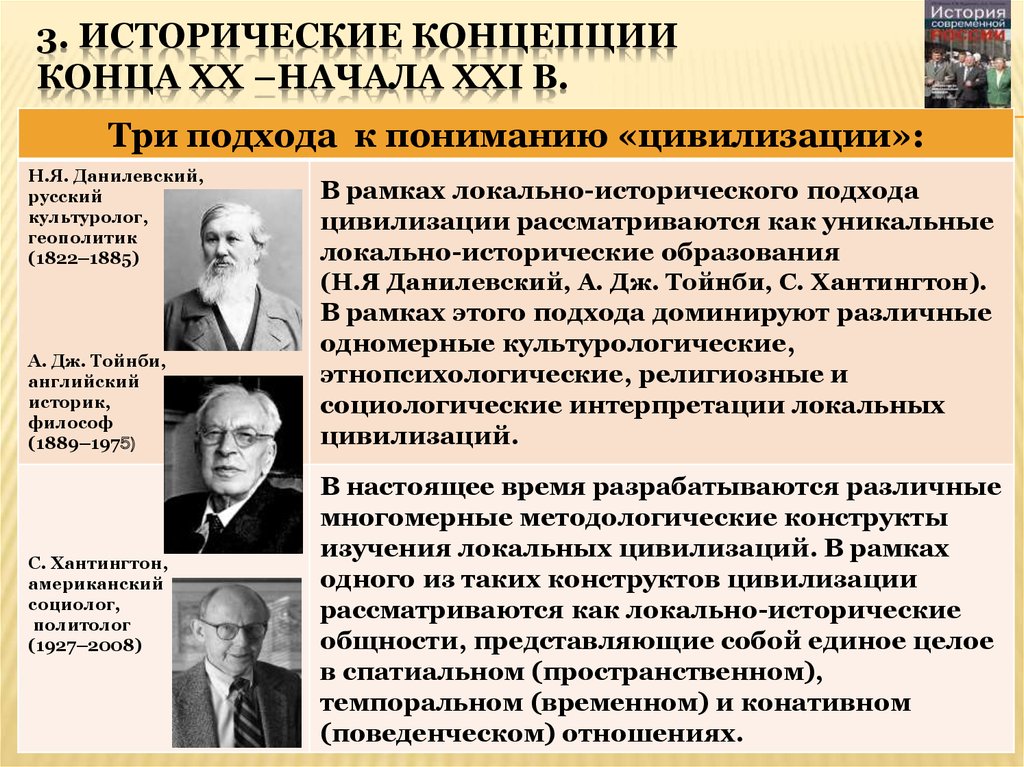


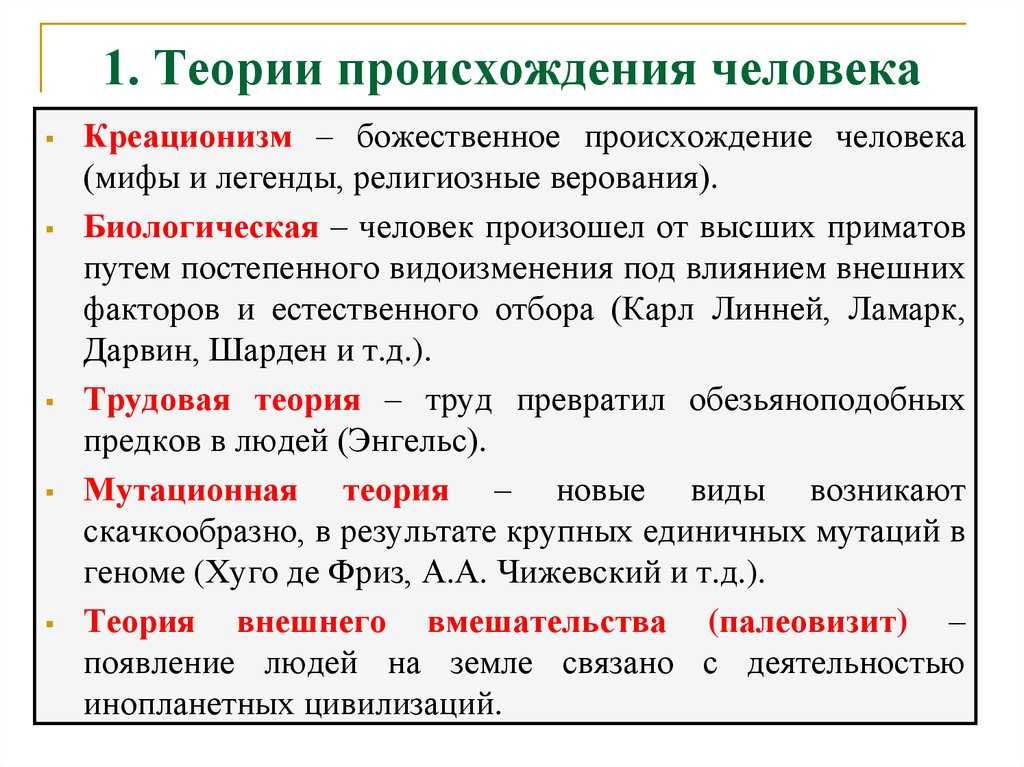 wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Descartes. Википедия CC BY-SA 3.0.
wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Descartes. Википедия CC BY-SA 3.0.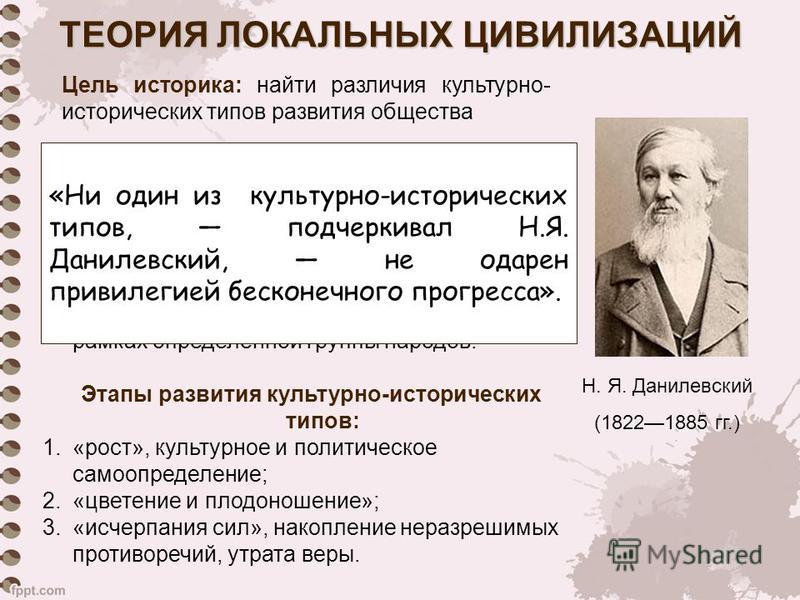 jpg». https://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_revolution#/media/File:NewtonsPrincipia.jpg. Википедия CC BY-SA 2.0.
jpg». https://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_revolution#/media/File:NewtonsPrincipia.jpg. Википедия CC BY-SA 2.0.