Содержание
ГДЗ учебник по русскому языку 8 класс Разумовская. §6. Слитное и раздельное написание не и ни с разными частями речи Упражнение 30
- Учебники
- 8 класс
- Русский язык 👍
- Разумовская
- №30
авторы: Разумовская, Львова, Капинос, Львов.
издательство: «Дрофа»
Раздел:
- Предыдущее
- Следующее
1. Спишите предложения, вставляя пропущенные буквы, знаки препинания и раскрывая скобки. Объясните слитное или раздельное написание не со словами разных частей речи.
Объясните слитное или раздельное написание не со словами разных частей речи.
1) Учё(н, нн)ые назвали океан гидрокосмосом. Для нас ж..вущих на суше он всё ещё ост..ётся мало изуче(н, нн)ой и д..леко (не)гостепр..имной средой. (Из газет) 2) Вп..реди пок..зались (не)ясные оч..ртания огромных деревьев но ок..залось что это (не)высокие пр..брежные кусты. (А. Н. Толстой) 3) Пусте..т воздух птиц (не)слышно боле… (Ф. Тютчев) 4) И лес (не)вед..мый лучам в тумане спрята(н, нн)ого солнца кругом шумел. (А. Пушкин) 5) На ч..твёртые сутки (не)настья тучи (не)много ра(с, сс)еялись. (С. Залыгин) 6) (Не)умолкая шумело за окном море. (И. Бунин) 7) Время б..жит быстро. (Не)заметно проходит день (не)заметно наступают потёмки. (А. Чехов)
2. Объясните правописание пропущенных букв и слов со скобками.
3. Выберите по одному существительному, глаголу и деепричастию, выполните их морфологический анализ.
4. Объясните лексическое значение выделенных слов, обратившись к ресурсам Интернета.
5. Во втором предложении найдите прилагательное, образованное приставочно−суффиксальным способом. Укажите морфемный состав этого слова.
reshalka.com
Решение
Яркие футболки в нашем магазине reshalkashop.ru
1−2.
1) Учёные (от глагола сов. вида) назвали океан гидрокосмосом. Для нас, живущих (сочетание ЖИ−ШИ) на суше, он всё ещё остаётся (остался) мало изученной (полное страд. причастие, образованное от глагола сов. вида) и далеко (даль) не гостеприимной (прил., далеко не) средой. (Из газет) 2) Впереди показались (покажется) неясные (прил., смутные) очертания (Р. п. черт) огромных деревьев, но оказалось (окажется), что это невысокие (прил., низкие) прибрежные (значение приставки − нахождение вблизи чего−либо) кусты. (А. Н. Толстой) 3) Пустеет (гл. 1−го спр.) воздух, птиц не слышно (кр. прич.) боле… (Ф. Тютчев) 4) И лес, неведомый (прич., не употр. без не) лучам в тумане спрятанного (полное страд. причастие, образованное от глагола сов. вида) солнца, кругом шумел. (А. Пушкин) 5) На четвёртые (четверть) сутки ненастья (сущ., не употр. без не) тучи немного (нар., мало) рассеялись (сс на стыке приставки и корня). (С. Залыгин) 6) Не умолкая (дееприч.), шумело за окном море. (И. Бунин) 7) Время бежит (бег) быстро.
п. черт) огромных деревьев, но оказалось (окажется), что это невысокие (прил., низкие) прибрежные (значение приставки − нахождение вблизи чего−либо) кусты. (А. Н. Толстой) 3) Пустеет (гл. 1−го спр.) воздух, птиц не слышно (кр. прич.) боле… (Ф. Тютчев) 4) И лес, неведомый (прич., не употр. без не) лучам в тумане спрятанного (полное страд. причастие, образованное от глагола сов. вида) солнца, кругом шумел. (А. Пушкин) 5) На четвёртые (четверть) сутки ненастья (сущ., не употр. без не) тучи немного (нар., мало) рассеялись (сс на стыке приставки и корня). (С. Залыгин) 6) Не умолкая (дееприч.), шумело за окном море. (И. Бунин) 7) Время бежит (бег) быстро.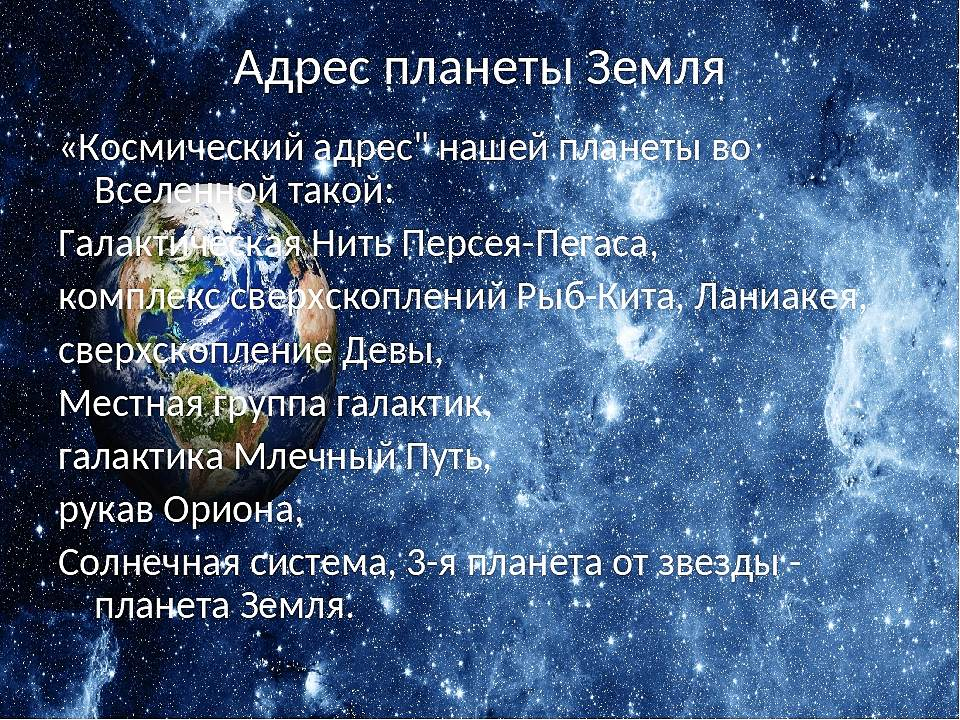 Незаметно (нар., постепенно) проходит день, незаметно (нар., постепенно) наступают потёмки. (А. Чехов)
Незаметно (нар., постепенно) проходит день, незаметно (нар., постепенно) наступают потёмки. (А. Чехов)
3.
(За) океаном − существительное, обозначает предмет.
Шумело за (чем?) океаном.
Н. ф. − океан.
Пост. призн.: нариц., неодуш., м. р., 2−е скл.
Непост. призн.: ед. ч., тв. п.
Живущих − причастие, обозначает признак предмета по действию;
Нас (каких?) живущих;
Н. ф. − живущий;
Пост. − действит., невозврат., наст. вр., несов. в.
Непост. − Р. п., мн. ч.
Шумело − глагол, обозначает действие;
Море (что делало?) шумело;
Н. ф. − шуметь;
Пост. − невозврат., неперх., 1 спр., несов. в.
Непост. − изъяв. накл., ед. ч., ср. р., пр. вр.
4.
Гидрокосмос − подводное пространство моря, океана.
Среда − окружающее пространство.
Неведомы − неизученный.
Потёмки − темнота.
5.
Приставочно−суффиксальным способом образовано прилагательное прибрежные − берег.
- Предыдущее
- Следующее
Нашли ошибку?
Если Вы нашли ошибку, неточность или просто не согласны с ответом, пожалуйста сообщите нам об этом
«Россия теряет свои позиции в Мировом океане»
Вице-президент РАН Андрей Адрианов часто сравнивает
океан с необъятным космосом. Между тем, околоземное пространство
исследовано уже достаточно хорошо. А океан, напротив, изучен
всего на 5%. Океанские глубины стали домом для уникальных форм
жизни, о которых до сих пор мало что известно. Даже если мы
попытаемся проанализировать их все, нам не хватит и тысячи лет.
Так что скрывается там на глубине? В каком направлении движется
океанология? Почему важен голос науки в борьбе за ресурсы
Мирового океана? Рассказывает вице-президент РАН Андрей
Адрианов.
Андрей Владимирович Адрианов — доктор
биологических наук, академик и вице-президент Российской
академии наук, научный руководитель Национального научного
центра морской биологии им. А.В. Жирмунского Дальневосточного
отделения РАН.
— В этом году мы столкнулись с катастрофой на Камчатке.
Много было сказано о возможных причинах. И почти ничего не
сказано о погибших 95% обитателей дна Авачинского залива.
Насколько быстро сможет восстановиться местная
экосистема?
— Море — это система сообщающихся сосудов. Представим, что в
какой-то бухте одновременно исчезла вся биота под влиянием
фатального фактора. Как только этот фактор перестает действовать,
свободное жизненное пространство тут же заполняется обитателями с
соседних акваторий. Свято место пусто не бывает, особенно в море.
То же самое произойдет и на Камчатке. Как только пройдет массовое
цветение токсичных микроводорослей, экосистема начнет
восстанавливаться. Уже сегодня мы видим, что во многих бухтах,
Уже сегодня мы видим, что во многих бухтах,
где наблюдалась вода необычного цвета, желто-коричневые разводы,
пена на поверхности, происходят позитивные изменения, вода
становится чистой.
В тех районах, где произошла массовая гибель, отмечается
появление живых гидробионтов. И здесь хорошим знаком можно
считать появление в этих бухтах кормящихся каланов. Калан — это
морская выдра. Эти животные питаются, морскими ежами и
моллюсками, которых собирают на дне. И если мы видим питающихся
каланов, значит живые гидробионты на дне есть.
Местные жители, дайверы отмечают, что бухты Камчатки постепенно
приходят в себя. Это хорошо. Ведь подобные масштабные явления,
связанные с деятельностью токсичных микроводорослей, могут быть
достаточно протяженными во времени — до нескольких месяцев.
В какой-то степени можно сказать, что нам в чем-то повезло.
Поскольку токсины «цветущих» на Камчатке микроводорослей не так
опасны для человека и теплокровных животных, как было бы в
случае, например, цветения микроводорослей, вырабатывающих
нервно-паралитические или амнезийные токсины. Если бы явление
Если бы явление
«красного прилива» было вызвано такими видами микроводорослей,
то, наверняка, погибли бы теплокровные животные, а это более
заметно и, так сказать, в нашем восприятии гораздо более
драматично. И такое происходит иногда на самом севере Камчатки,
на Чукотском побережье, на американском побережье от Аляски до
Калифорнии, где иногда отмечаются гораздо более масштабные
явления, чем то, с чем столкнулись мы.
— То есть подобные события у нас
происходили и раньше, но намного севернее?
— Да. Пики таких событий ранее наблюдались где-то в районе
Карагинского, Олюторского заливов, и дальше к Чукотке, где
очевидно меньше наблюдателей. Мы проанализировали 20-летний
период на основе спутниковой информации. И, действительно, на
юго-востоке Камчатки раньше никогда не было такого интенсивного
цветения именно этих видов микроводорослей.
— При этом опасные виды микроводорослей,
о которых вы говорите, присутствуют на Камчатке?
— Токсичные микроводоросли на Камчатке были всегда. Присутствие
Присутствие
видов, потенциально способных вызвать в обозримом будущем такие
масштабные цветения, можно и нужно идентифицировать. Известно,
что микроводоросли имеют покоящуюся стадию. Специалисты называют
ее циста. Так вот, именно восточная Камчатка — чемпион по
количеству таких цист в одном объеме осадка. До 50 тысяч
цист могут содержаться в одном грамме осадка. Они спят годами, а
в некоторых случаях десятилетиями.
Но в какой-то момент что-то происходит, и миллиарды покоящихся
стадий одновременно выходят в толщу воды, превращаясь в
планктонные стадии. Эти стадии активно размножаются, в
приповерхностных водах концентрируется огромное количество клеток
микроводорослей, вода меняет свой цвет, становится непрозрачной.
Микроводоросли — это фотосинтезирующие организмы, они содержат
соответствующие пигменты. В результате фотосинтеза образуется
органическое вещество и выделяется побочный продукт — кислород.
Когда происходит такое массовое развитие микроводорослей — т. н.
н.
«красный прилив» — органического вещества становится слишком
много. Оно оседает на дно, ведь выполнив свою репродуктивную
функцию, большинство планктонных клеток погибают. В воде также
оказывается большое количество полисахаридов, за счет чего на
поверхности моря формируется пена, которую и видели многие люди
на Камчатке. Одновременно в грунте захоранивается огромное
количество «покоящихся» стадий микроводорослей — цист, которые в
свое время вызовут новый «красный прилив».
Кстати, один из масштабных «красных приливов» на Аляске
американские коллеги из-за специфического пенообразования назвали
«пивным приливом».
Оказавшееся на дне огромное количество погибших планктонных
стадий переходит к гниению, оттягивая на этот процесс большое
количество кислорода из придонной воды. В результате формируются
т.н. «заморы», где скапливаются погибшие от недостатка кислорода
донные гидробионты.
Камчатка — природная жемчужина России.
Пожалуй, самое красивое,
удивительное место, но и здесь есть антропогенное загрязнение.
Научные организации, анализировавшие пробы воды и грунта в
Авачинском заливе, отметили превышение ПДК по целому ряду
техногенных загрязняющих веществ. Однако их объемы ни при каких
обстоятельствах не способны вызвать такую массовую гибель
донных гидробионтов.
Но нет худа без добра. Возможно, этот «красный прилив» не только
привлечет внимание к проблеме организации мониторинга опасных
природных явлений, но и к экологическим проблемам Камчатки,
необходимости сохранения ее уникальных природных экосистем.
— Вы неоднократно называли океан гидрокосмосом. Неужели
он настолько бесконечный и неизведанный?
— Бесконечный и неизведанный. В своих докладах я часто упоминаю,
что степень изученности ближайшего космоса гораздо выше, чем
степень изученности океана. Достаточно вспомнить, что в космосе
уже побывали примерно 580 человек и эта цифра постоянно
растет. А кто спускался глубже десяти километров? Только четверо
А кто спускался глубже десяти километров? Только четверо
— Жак Пикар, Дон Уолш, Джеймс Кэмерон и Виктор Весково. Кстати,
недавно список
пополнился именами китайских пилотов, которые спустились на
максимальные глубины на новейшем китайском глубоководном
обитаемом аппарате. Китай в августе провел успешные испытания
нового судна — носителя этого пилотируемого аппарата. Страна
стремится стать мировым лидером в глубоководных исследованиях.
Можем порадоваться за наших коллег.
Джеймс Кэмерон много лет мечтал опуститься на дно Марианского желоба. Он самостоятельно спроектировал и построил собственный футуристический батискаф, названный в честь впадины – Deepsea Challenger. События отражены в документальном фильме «Вызов Бездне». Фото: Марк Тиессен. Источник: National Geografic Russia
— А что насчет отечественных глубоководных
исследований?
— У нас, к сожалению, таких машин в гражданском секторе нет.
Знаменитые аппараты — «Мир-1» и «Мир-2» были выведены из
эксплуатации. К тому же, они могли работать с пилотами на борту
до глубины 6 километров. Поэтому пилотируемых аппаратов в России
пока нет, но есть аппараты автономные, способные погружаться на
максимальные глубины до 11 километров. Автономный аппарат
«Витязь», например, совсем недавно погружался в Марианскую
впадину.
Надо признать, что технических средств для изучения океанских
глубин у нас меньше, чем технических средств для изучения
ближайшего космоса. У человечества есть постоянно работающая
космическая станция, а спутниковые группировки разных стран
исчисляются сотнями летательных аппаратов.
На самом деле, изучать океанские глубины достаточно сложно во
всех отношениях. Только представьте — каждые десять метров
добавляют одну атмосферу. Создать технические средства,
работающие на глубинах с таким чудовищным давлением, нелегко.
Плюс ко всему площадь океана, как известно, составляет 2/3
земного шара. А средняя глубина — около 3700 метров.
А средняя глубина — около 3700 метров.
Глубоководный аппарат «Мир-1». Фото: Николай Рютин/ТАСС
Глубоководный аппарат «Мир-2». Фото: Институт океанологии РАН
Леса называют легкими планеты. Океан — это, безусловно, ее жабры.
И эти жабры дают гораздо больше кислорода, чем легкие. Конечно,
об океане можно говорить бесконечно, о том, что мы знаем и чего
мы не знаем о нем. Что касается нашей страны, то, как мне
кажется, для России, традиционно морской державы, очень важно не
отставать в исследованиях Мирового океана по нескольким причинам.
Во-первых, океан определяет климат планеты. Во-вторых, океан —
это огромные минеральные и биологические ресурсы и для нынешних,
и особенно для будущих поколений. Население Земли растет, при
этом ресурсы суши весьма ограничены. Уже сегодня мы вынуждены
переходить к генномодифицированным продуктам растениеводства и
животноводства. Пытаемся всячески увеличить продуктивность
Пытаемся всячески увеличить продуктивность
наземных экосистем. Но часто забываем, что океан — практически
неисчерпаемый ресурс для обеспечения будущих поколений
высококачественными продуктами питания при условии рационального
природопользования.
Подавляющее количество водных биоресурсов, которые использует
человечество, находится в самом верхнем слое океана. Но если
заглянуть поглубже, то нам откроются огромные запасы. Правда,
пока у нас нет технических средств, чтобы их добывать.
— Неужели глубоко в океане тоже есть жизнь?
— Океанское дно и на самых больших глубинах обитаемо, а в
некоторых районах даже на глубинах до 9,5 километров — в
Курило-Камчатском желобе — мы обнаружили очень высокие
биологическое разнообразие и плотность донных гидробионтов.
Многие из глубоководных объектов могут стать ценным биологическим
сырьем: продуктами функционального питания и источником
биологически активных соединений для новых лекарственных
препаратов. Пока мы не можем это взять. Но у нас есть возможность
Пока мы не можем это взять. Но у нас есть возможность
исследовать океанское дно что называется «впрок».
За последние 10-20 лет мы получили подводные робототехнические
средства, которые стали нашими глазами, ушами, органами осязания
и обоняния на морском дне. На подводных роботах появились
манипуляторы, которые могут прицельно собирать отдельных
гидробионтов, пробоотборники для забора ненарушенных фрагментов
грунта, различные датчики для контроля окружающей среды.
Важно то, что у нас есть понимание — глубины океана заселены, и
это население заслуживает самого внимательного изучения.
Возможно, именно с этими ресурсами связано успешное существование
последующих поколений. Кстати сказать, уже сегодня за ресурсы
Мирового океана начинается пока мягкая, но своего рода Третья
Мировая. На суше мы все поделили, более-менее определены и
понятны границы прибрежных зон.
А открытые простора океана, они чьи? Согласно международным
соглашениям, ресурсы Мирового океана — это наследие всего
человечества.Но все мы понимаем, когда что-то принадлежит
всем, значит оно не принадлежит никому. Тогда кто обладает
доступом к этим ресурсам? Либо тот, кто самый сильный, либо
тот, кто первый.
Прямо сейчас ведется активная работа в области международного
права. Однако, по большей части, она направлена на то, чтобы
обеспечить одним более приоритетный доступ к этим ресурсам в
ущерб другим. Не все имеют технические возможности, чтобы
дотянуться до глубоководных ресурсов. Но те, у кого такие
возможности есть, уже начали делить участки под так называемую
ресурсную разведку, а со временем попробуют взять их уже в
долгосрочное природопользование.
Весь Мировой океан поделен на специальные зоны, где страны,
имеющие интерес к этим зонам, договариваются между собой,
вырабатывают правила рыболовства и осуществляют добычу
биоресурсов в так называемом Международном районе мирового
океана, вне зон национальных юрисдикций. Добыча здесь
регулируется межправительственными соглашениями и конвенциями.
Однако, в любом случае, преимущество получают те страны, у
которых есть технические возможности, и те страны, которые ведут
научные исследования тех ресурсов, на которые претендуют.
— Почему так происходит?
— Когда вы претендуете на квоты на добычу того или иного ресурса
в международном районе Мирового океана, представители
регулирующей международной организации совершенно резонно
спрашивают: «А вы проводили научные исследования этого ресурсного
вида, вы знаете, сколько его в океане, сколько можно изъять без
существенного вреда его природным популяциям?». Если подобных
исследований не проводилось, то у страны мало шансов получить эти
квоты.
Именно поэтому России очень важно вести исследования, особенно в
тех районах океана, которые представляют стратегический интерес
для нашей страны. К счастью, после долгого перерыва, с конца
прошлого года мы возобновили научные ресурсные исследования в
Антарктике, в самом высокопродуктивном районе Мирового океана,
где сосредоточены огромные биологические ресурсы, но откуда
Россию потихонечку начали отодвигать под очень благовидным
предлогом.
Конечно, важно охранять уникальные антарктические экосистемы.
Никто не спорит. Создаются морские охраняемые районы —
природоохранные акватории вне национальных юрисдикций. Благое
дело — сохранить уникальные экосистемы и биоресурсы для будущих
поколений, кормовую базу для китов и пингвинов, к чему нас
призывает международное сообщество. Всё здорово. Но почему-то эти
зоны создаются на акваториях, которые были традиционными районами
лова Российской Федерации, а не коллег-англосаксов. Но когда
Россия совершенно логично предлагает под морские охраняемые
районы другие антарктические акватории, задается резонный вопрос:
«А вы провели исследования, обосновывающие, где надо
устанавливать охраняемый район, а где можно продолжать добычу
биоресурсов»? Отставая в ресурсных научных исследованиях, Россия
стала терять свои позиции в Мировом океане. Сейчас, возобновляя
эти исследования, которые выполняют и наши академические
институты, страна получает возможность использовать научную
аргументацию в таком диалоге, имеет и моральное, и юридическое
право претендовать на новые ресурсы в международном районе
Мирового океана.
Очень ценны международные кооперации, международные альянсы
ученых, которые разрабатывают совместные программы по изучению
Мирового океана. Это отличная площадка для реализации так
называемой научной дипломатии, о которой мы в Российской академии
наук и много говорим, и для развития которой немало делаем. Когда
официальная дипломатия исчерпывает свои ресурсы, ее замещает
научная дипломатия. Какие бы ни были отношения на официальном
уровне с теми же Соединенными Штатами Америки, наше
сотрудничество с американскими учеными продолжается.
— Почему международное сотрудничество настолько
значимо?
— Исследования Мирового океана — очень наукоемкие. Они требуют
сложных технических средств. Зачастую ресурсов одной даже очень
сильной страны недостаточно.
Одна из важнейших задач — провести инвентаризацию биологического
разнообразия в океанских глубинах. Ни одна страна в одиночку это
не потянет. Только в рамках совместных исследований. У нас,
У нас,
например, есть очень успешный опыт такого сотрудничества с нашими
германскими партнерами. В течение последних 10 лет
Национальный научный центр морской биологии им. А.В. Жирмунского
ДВО РАН провел серию совместных российско-германских
экспедиций с участием ученых и из других стран Европы в
самые глубоководные районы Японского и Охотского морей, в районе
Курило-Камчатского желоба и в самом желобе до глубины 9,5 км.
Планируется экспедиция в глубоководную часть Берингова моря и
вдоль Алеутских островов. Эти экспедиции открыли удивительное
биологическое разнообразие на самых больших океанских глубинах.
Сотни и сотни новых для науки видов. Мы даже не успеваем и
не успеем их описать. У всего мирового сообщества не хватит сил
описать то количество новых видов, которое сейчас открывают в
океанских глубинах.
— Но ученые всё равно продолжают их изучать.
— Потому что многие из них могут стать новыми, очень ценными
источниками биологически активных веществ для новых лекарственных
средств. Человечество нуждается в новых лекарствах против
Человечество нуждается в новых лекарствах против
огромного количества социально-значимых заболеваний. Например,
глубоководные бактерии могут стать сырьем для новых антибиотиков,
а из некоторых глубоководных животных уже получены эффективные
противоопухолевые препараты.
В России, к сожалению, финансирование морских экспедиций, мягко
говоря, оставляет желать лучшего. При этом наши зарубежные
партнеры специально организуют морские экспедиции для прицельного
сбора ранее обозначенных как перспективные глубоководных
биологических объектов.
Цель таких экспедиций — сбор глубоководных гидробионтов,
получение из них биологически активных соединений, их
тестирование с последующим синтезом активных аналогов, чтобы не
подорвать природные популяции.
Нам нельзя отставать в изучении глубоководных ресурсов. Я говорю,
как биолог, только о биоресурсах. Но то же самое можно сказать и
о минеральных ресурсах, запасы которых на суше очень ограничены.
Возьмем, например, кобальт. Он нужен для электронной
Он нужен для электронной
промышленности, он есть в любом нашем гаджете. В океане его
запасы в десятки раз больше, чем на суше. Гораздо больше там и
ценнейших редкоземельных элементов.
— В продолжение метафоры о гидрокосмосе. В России
существует Федеральная космическая программа. Возможно, нам нужна
Федеральная программа по освоению ресурсов Мирового
океана?
— Такая программа в России существовала. Программа «Мировой
океан». Не понимаю, по каким причинам она была прекращена. С
коллегами-океанологами пытаемся привлечь внимание правительства к
задачам освоения Мирового океана. Иногда удается. Например,
недавно возобновили серию антарктических экспедиций.
Но внимания к задачам освоения Мирового океана явно недостаточно.
Например, в России утверждены уже 17 научных центров мирового
уровня с очень приличным финансированием. Ни один из них не
посвящен проблематике изучения Мирового океана и его ресурсов.
Для нас очень важно, чтобы Россия окончательно не отстала в гонке
за океанскими ресурсами. Последующие поколения нас не поймут.
Последующие поколения нас не поймут.
Ведь уже никакой рывок не позволит вскочить на подножку
последнего вагона.
— Какие проблемы Мирового океана, кроме того, что он мало
изучен, требуют решения?
— У всех на слуху проблема загрязнения Мирового океана. Конечно,
океан серьезно загрязняется, ведь больше половины человечества
живет в прибрежной зоне. Почти все самые крупные города на
планете расположены на берегу океана.
Серьезную угрозу представляет проблема пластика. Появилось даже
словосочетание «пластификация Мирового океана». Речь идет о
пластике, который надолго сохраняется в морской воде. Конечно, он
разрушается, распадаясь на маленькие частицы, но они-то и
остаются в океане очень-очень надолго. Мы находим частицы
микропластика не только в морских осадках, но и в гидробионтах,
внутри морских организмов. А это значит, что рано или поздно этот
микропластик с морепродуктами попадает в организм человека.
Фото: Naked Science
Пластик не просто засоряет океан, что само по себе очень плохо,
но и представляет опасность для морских организмов. Морские
Морские
черепахи, например, питаются медузами. Плавающий в океане
пластиковый пакет внешне напоминает подслеповатой, старенькой
черепахе аппетитную медузу. Заглатывая этот пакет, черепаха может
погибнуть. А в тонких дрифтерных сетях, брошенных рыбаками,
ежегодно гибнут миллионы дельфинов и других морских
млекопитающих.
— Как решить эту проблему? У научного сообщества есть
ответ?
— Выход есть. Необходимо ограничить негативное воздействие на
Мировой океан. И, в конце концов, не мусорить. Морские суда часто
сбрасывают мусор за борт, хотя существуют специальные
приспособления для сжигания бытового мусора. По океанскому мусору
можно изучать историю человечества. По молодости, в морских
экспедициях, мы с большим интересом изучали мусор, найденный в
океане.
— Насколько серьезной можно считать проблему подкисления
океана из-за глобального потепления?
— Подкисление океана действительно имеет место. Нельзя забывать,
Нельзя забывать,
что океан — это крупнейший резервуар на нашей планете, где
аккумулируется углекислый газ. Соответственно, только благодаря
океану, поддерживается его баланс на планете. Увеличивается
количество углекислого газа в атмосфере и океан также становится
более кислым. Пока это не критично, продуктивность океана не
меняется и остается достаточно высокой.
Но некоторые группы организмов чувствительны к подкислению
океана. Например, те, кто строит известковые раковины или другие
элементы минерального скелета.
— Известно, что подкисление негативно влияет на
экосистемы коралловых рифов.
— Да, действительно, есть проблема, связанная с гибелью
коралловых рифов — так называемый бличинг, или обесцвечивание. У
этого процесса несколько причин. Во-первых, кораллы строят свой
минеральный скелет из карбоната кальция, CaCO3, и
очень чувствительны к нарушению карбонатного равновесия.
Однако серьезное влияние оказывает другой фактор. Дело в том, что
Дело в том, что
кораллы очень чувствительны к температуре. Не сами кораллы, а те
микроводоросли — симбионты, которые живут в тканях кораллов. При
повышении температуры эти симбионты гибнут, а вместе с ними
погибают и сами кораллы. И фрагмент рифа, который еще недавно
пестрил красками — красными, синими, зелеными — вдруг становится
грязно-белым. Это пустой известковых скелет погибших кораллов.
Такова ситуация с мелководными рифами, которые распространены в
теплых морях.
Интересно, что не меньшее, если не большее, разнообразие кораллов
мы встречаем в океанских глубинах. Даже в наших холодных морях
разнообразие кораллов очень велико. Восьмилучевые кораллы
образуют настоящие коралловые «луга» и даже коралловые «сады» из
огромных древовидных форм высотой до трех метров. С помощью
глубоководных аппаратов мы изучаем эти уникальные экосистемы в
наших дальневосточных морях. Эти коралловые «луга» и «леса» дают
и кров, и стол огромному количеству других организмов. Настоящие
Настоящие
оазисы на дне океана с очень высоким биологическим разнообразием.
Восьмилучевые кораллы. Фото: Зооклуб
— На какие предстоящие экспедиции стоит обратить
внимание?
— Конечно, пандемия внесла свои коррективы. Многие экспедиции
этого года были отменены. Но мы надеемся, что некоторые из них
всё-таки состоятся. В конце ноября, если не усугубится
эпидемическая ситуация, должна стартовать вторая антарктическая
экспедиция группы академических институтов в сотрудничестве с
Росрыболовством. Головной организацией выступает Институт
океанологии имени П.П. Ширшова РАН — наш лидер в области
океанологических исследований. Судно «Академик Мстислав Келдыш»
отправится к берегам Антарктиды для изучения запасов криля
биоразнообразия донных сообществ. Экспедиция направлена на
комплексное изучение антарктических экосистем с целью оценки их
продукционного потенциала и возможных запасов промысловых
гидробионтов.
Помимо экспедиции в Антарктику, я бы отметил планируемую
экспедицию на Императорский хребет с телеуправляемыми
глубоководными аппаратами. Императорский хребет — это цепочка
гайотов, или подводных гор, в северной части Тихого океана. Это
международная зона активного рыболовства. Но она интересна и с
научной точки зрения. У подводных гор есть свое зонирование, как
на суше. Цепочки гайотов часто служат биогеографическими
границами, определяющими распространение разных фаун.
Планируется очередная российско-германская экспедиция,
организуемая Национальным научным центром морской биологии им.
А.В. Жирмунского ДВО РАН в глубоководную часть Берингова моря.
Традиционно проходят арктические экспедиции. Здесь нельзя не
упомянуть экспедиции Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН и
Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева ДВО
РАН. Их основная задача состоит в изучении наших арктических
морей, их биоты и тех активных геохимических процессов, которые
происходят на мелководном арктическом шельфе в связи с
климатическими изменениями.
— Появились ли за последние годы новые направления в
исследовании Мирового океана? Какие из них наиболее
перспективные?
— Новые направления появляются в любых науках. И, прежде всего,
это определяется появлением новых технических возможностей.
Соответственно, в нашей области исследований появилась
возможность работать с подводными роботами, поэтому мы
существенно продвинулись в направлении изучения глубоководных
экосистем. Сейчас в морской биологии и океанологии это одно из
самых интересных и значимых научных направлений.
Помимо этого, активно развиваются морская вирусология и
микробиология. Глубоководные сообщества предоставляют уникальный
и совершенно неизученный биологический материал. Интересны работы
в изучении генетических ресурсов Мирового океана. В океане
сосредоточено огромное богатство генетического материала.
Новые возможности в исследованиях Мирового океана связаны, как я
уже говорил, с появлением, прежде всего, новых приборов и
технических средств. Впереди еще очень много неизведанного. Так
Впереди еще очень много неизведанного. Так
что, океан — это малоизученная вселенная, если пользоваться вашей
метафорой о гидрокосмосе.
— У вас есть любимая книга об океане?
— Книг на самом деле много. Но моя любимая книга — не
художественная, а научно-популярная и даже, скорее, научная.
Когда я был маленьким, в нашем небольшом уездном городке в
магазине, откуда ни возьмись, появилось первое издание
шеститомника «Жизнь животных». Тома посвящены разным
организмам, от простейших до млекопитающих. И мне купили эти
книги. Мне было интересно читать про всех животных, но особенно
интересно о морских обитателях. В книге много красивых
иллюстраций, интересные и качественные тексты, написанные
блестящим коллективом биологов во главе с академиком Львом
Александровичем Зенкевичем. И даже сейчас, когда уже что-то
знаешь, и появилась масса совершенно новой научной информации,
рука иногда всё равно тянется к этим книгам.
vimeo.com/video/478337818″>
Интервью проведено при поддержке Министерства науки и
высшего образования РФ и Российской академии наук.
Происхождение жизни на суше или на море? Споры становятся горячими
Между биологами и химиками бушуют споры о том, где зародилась жизнь – на суше или под водой. Рэйчел Бразил рассматривает аргументы
Вопрос «Как зародилась жизнь?» тесно связан с вопросом «Где зародилась жизнь?» Большинство экспертов сходятся во мнении относительно «когда»: 3,8–4 миллиарда лет назад. Но до сих пор нет единого мнения относительно среды, которая могла способствовать этому событию. С момента их открытия глубоководные гидротермальные жерла были предложены в качестве места зарождения жизни, особенно щелочные жерла, подобные тем, что были найдены на месторождении «Затерянный город» в средней Атлантике. Но не все убеждены, что жизнь зародилась в море — многие говорят, что химия просто не сработает, и ищут место рождения на суше. С несколькими гипотезами в игре гонка собирается воспроизвести условия, которые позволили возникнуть жизни.
С несколькими гипотезами в игре гонка собирается воспроизвести условия, которые позволили возникнуть жизни.
В 1977 году в срединно-океаническом хребте Восточно-Тихоокеанского поднятия был обнаружен первый глубоководный гидротермальный источник. Названные «черными курильщиками», жерла выбрасывают геотермально нагретую воду до 400°C с высоким содержанием сульфидов, которые выпадают в осадок при контакте с холодным океаном, образуя черный дым. За этим последовало в 2000 году открытие нового типа щелочных глубоководных гидротермальных источников, обнаруженных немного в стороне от срединно-океанических хребтов. Первое месторождение, известное как Затерянный город, было обнаружено на морском дне горы Массив Атлантиды в средней части Атлантики.
Вентиляционные каналы образуются в результате процесса, известного как серпентинизация. Порода морского дна, в частности оливин (силикат магния и железа), вступает в реакцию с водой и производит большие объемы водорода. В Затерянном городе, когда теплые щелочные жидкости (45–90°C и pH 9–11) смешиваются с морской водой, они образуют белые дымоходы из карбоната кальция высотой 30–60 м.
В 1993 г., еще до того, как были обнаружены щелочные жерла, геохимик Майкл Рассел из Лаборатории реактивного движения НАСА (JPL) в Калифорнии, США, предложил механизм, с помощью которого жизнь могла зародиться в таких жерлах.1 Его идеи, обновленные в 2003 г.,2 предполагают, что жизнь возникла в результате использования градиентов энергии, которые возникают, когда щелочная вода жерла смешивается с более кислой морской водой (считалось, что ранние океаны содержали больше углекислого газа, чем сейчас).
Это отражает способ использования энергии клетками. Клетки поддерживают протонный градиент, перекачивая протоны через мембрану, чтобы создать разность зарядов изнутри наружу. Известная как протонно-движущая сила, ее можно приравнять к разнице примерно в 3 единицы рН. Это эффективный механизм для хранения потенциальной энергии, который затем можно использовать, когда протонам позволяют проходить через мембрану для фосфорилирования аденозиндифосфата (АДФ) с образованием АТФ.
Теория Рассела предполагает, что поры в дымоходах гидротермальных источников служат шаблонами для клеток с той же разницей в 3 единицы pH на тонких минеральных стенках взаимосвязанных микропор источников, которые отделяют жерло и морскую воду. Эта энергия, наряду с каталитическими минералами сульфида железа и никеля, позволила уменьшить углекислый газ и произвести органические молекулы, затем самовоспроизводящиеся молекулы и, в конечном итоге, настоящие клетки со своими собственными мембранами.
Химические сады
Химик Лаура Бардж, также научный сотрудник Лаборатории реактивного движения, проверяет эту теорию с помощью химических садов — эксперимент, который вы, возможно, проводили в школе. Глядя на химические сады, «вы думаете, что это жизнь, но это определенно не так», — говорит Бардж, специализирующаяся на самоорганизующихся химических системах. Классический химический сад формируется путем добавления солей металлов в реакционноспособный раствор силиката натрия. Анионы металла и силиката осаждаются с образованием желеобразной коллоидной полупроницаемой мембраны, содержащей соль металла. Это создает градиент концентрации, который дает толчок для роста полых столбиков, похожих на растения.
Анионы металла и силиката осаждаются с образованием желеобразной коллоидной полупроницаемой мембраны, содержащей соль металла. Это создает градиент концентрации, который дает толчок для роста полых столбиков, похожих на растения.
«Мы начали симулировать то, что вы могли бы получить с вентиляционной жидкостью и океаном, и мы можем выращивать крошечные дымоходы — они по сути похожи на химические сады», — объясняет Барж. Чтобы имитировать ранний океан, она вводила щелочные растворы в богатые железом кислые растворы, создавая дымоходы из гидроксида железа и сульфида железа. Из этих экспериментов ее команда продемонстрировала, что они могут генерировать электричество: чуть меньше вольта от четырех садов, но достаточно для питания светодиода3, показывая, что вид протонных градиентов, которые обеспечивают энергию в глубоководных жерлах, может быть воспроизведен.
Ник Лейн, биохимик из Университетского колледжа Лондона в Великобритании, также пытался воссоздать пребиотические геоэлектрохимические системы с помощью своего реактора происхождения жизни. Он поддерживает теорию Рассела, хотя и недоволен ярлыком «прежде всего метаболизм», который ему часто присваивают, в отличие от теории «прежде всего информация», которая предполагает, что синтез реплицирующихся молекул РНК был первым шагом к жизни. «Их изображают противниками, но я думаю, что это глупо», — говорит Лейн. «На мой взгляд, мы пытаемся выяснить, как вы попадаете в мир, где у вас есть отбор и вы можете дать начало чему-то вроде нуклеотидов».
Он поддерживает теорию Рассела, хотя и недоволен ярлыком «прежде всего метаболизм», который ему часто присваивают, в отличие от теории «прежде всего информация», которая предполагает, что синтез реплицирующихся молекул РНК был первым шагом к жизни. «Их изображают противниками, но я думаю, что это глупо», — говорит Лейн. «На мой взгляд, мы пытаемся выяснить, как вы попадаете в мир, где у вас есть отбор и вы можете дать начало чему-то вроде нуклеотидов».
Лейна убедило, насколько тесно связаны геохимия и биохимия. Например, такие минералы, как грейгит (Fe3S4), обнаруживаются внутри жерл, и они обнаруживают некоторую связь с железо-серными кластерами, обнаруженными в микробных ферментах. Они могли действовать как примитивные ферменты для восстановления углекислого газа водородом и образования органических молекул. «Есть и различия: барьеры [между микропорами в вентиляционных трубах] толще [чем клеточные мембраны] и так далее, но аналогия очень точна, и поэтому возникает вопрос: «Возможны ли эти естественные протонные градиенты для разрушения? барьер для реакции между водородом и углекислым газом?»
Простая настольная модель жизненного реактора с открытым потоком4, разработанная Лейном, имитирует гидротермальные источники. С одной стороны полупроводникового каталитического барьера железо-никель-сера прокачивается щелочная жидкость, имитирующая вентиляционные жидкости, а с другой стороны — кислый раствор, имитирующий морскую воду. Так же как и скорости потока, температуры могут варьироваться с обеих сторон. Через мембрану: «Первый шаг — попытаться заставить углекислый газ реагировать с водородом с образованием органических веществ, и, похоже, нам удалось таким образом получить формальдегид», — говорит Лейн.
С одной стороны полупроводникового каталитического барьера железо-никель-сера прокачивается щелочная жидкость, имитирующая вентиляционные жидкости, а с другой стороны — кислый раствор, имитирующий морскую воду. Так же как и скорости потока, температуры могут варьироваться с обеих сторон. Через мембрану: «Первый шаг — попытаться заставить углекислый газ реагировать с водородом с образованием органических веществ, и, похоже, нам удалось таким образом получить формальдегид», — говорит Лейн.
До сих пор выход был очень низким, но Лейн считает, что у них есть «доказательство принципа». Они работают над воспроизведением своих результатов и доказывают, что наблюдаемый формальдегид не происходит из другого источника, такого как разрушение труб. В тех же условиях, по словам Лэйна, они также смогли синтезировать сахара с низким выходом, включая 0,06% рибозы, из формальдегида, хотя и не при той концентрации формальдегида, которую производил только реактор.
Копаем глубже
Исследуя гидротермальные источники, геохимик Фридер Кляйн из Океанографического института Вудс-Хоул в США обнаружил вариант глубоководной истории происхождения. Он нашел доказательства существования жизни в скалах под морским дном, которые могли обеспечить подходящую среду для зарождения жизни.
Он нашел доказательства существования жизни в скалах под морским дном, которые могли обеспечить подходящую среду для зарождения жизни.
Кляйн и его коллеги изучали образцы керна, пробуренного на континентальной окраине Пиренейского моря у побережья Испании и Португалии в 1993 году. Образцы были взяты из горных пород на 760 м ниже современного морского дна, что должно было быть на 65 м ниже раннего неосадочного дна океана. . Он увидел в образцах необычные прожилки, состоящие из минералов, также найденных в гидротермальной системе Затерянного города. «Меня это заинтриговало, потому что этот минеральный комплекс образуется только при смешивании гидротермальных флюидов с морской водой», — говорит Кляйн. Это говорит о том, что аналогичная химия может происходить под морским дном.
В этих жилах возрастом 120 миллионов лет группа Кляйн обнаружила включения окаменелых микробов. Он предполагает, что осушающие свойства минерала брусита (Mg(OH)2) могут объяснить сохранение органических молекул от микробов. К ним относятся аминокислоты, белки и липиды, которые были идентифицированы с помощью конфокальной рамановской спектроскопии. Кляйн говорит, что поначалу он был настроен скептически, но анализ извлеченных образцов подтвердил наличие уникальных липидных биомаркеров для сульфатредуцирующих бактерий и архей, которые также обнаружены в системе гидротермальных источников Затерянного города. микроколонии микроорганизмов’
К ним относятся аминокислоты, белки и липиды, которые были идентифицированы с помощью конфокальной рамановской спектроскопии. Кляйн говорит, что поначалу он был настроен скептически, но анализ извлеченных образцов подтвердил наличие уникальных липидных биомаркеров для сульфатредуцирующих бактерий и архей, которые также обнаружены в системе гидротермальных источников Затерянного города. микроколонии микроорганизмов’
Хотя очевидно, что эти образцы намного моложе, «присутствие этих микробов говорит нам о том, что жизнь возможна в среде морского дна в гидротермальных системах, которые, вероятно, присутствовали и были активны на большей части ранней Земли», — отмечает Клейн. «Подводное дно представляет собой еще одну более защищенную среду».
Не имеет выхода к морю
Но не все согласны с тем, что жизнь зародилась в глубоководных гидротермальных системах. Армен Мулкиджанян из Университета Оснабрюка в Германии говорит, что у этой идеи есть несколько серьезных проблем, одна из которых заключается в относительной концентрации ионов натрия и калия в морской воде по сравнению с клетками.
Малкиджанян ссылается на то, что он называет принципом сохранения химии: однажды появившись в любой среде, организмы будут сохранять и развивать механизмы для защиты своей фундаментальной биохимической архитектуры. Поэтому он говорит, что нет никакого смысла в том, чтобы клетки, содержащие в 10 раз больше калия, чем натрия, происходили из морской воды, в которой натрия в 40 раз больше, чем калия. Его предположение состоит в том, что протоклетки должны были развиваться в среде с большим содержанием калия, чем натрия, развивая ионные насосы только для удаления нежелательного натрия при изменении их среды.
Малкиджанян считает, что жизнь могла возникнуть из геотермальных систем, таких как сибирские геотермальные поля Камчатки на Дальнем Востоке России. «Мы начали искать, где мы могли бы найти условия с большим количеством калия, чем натрия, и единственное, что мы нашли, — это геотермальные системы, особенно там, где из земли выходит пар», — объясняет он. Только бассейны, созданные из паровых отверстий, содержат больше калия, чем натрия; те, которые образуются из источников геотермальной жидкости, по-прежнему содержат больше натрия, чем калия. Несколько таких систем существуют сегодня в Италии, США и Японии, но Малкиджанян предполагает, что на более жаркой ранней Земле можно было ожидать гораздо больше.
Несколько таких систем существуют сегодня в Италии, США и Японии, но Малкиджанян предполагает, что на более жаркой ранней Земле можно было ожидать гораздо больше.
Дэвид Димер из Калифорнийского университета в Санта-Круз, США, более 50 лет изучает макромолекулы и липидные мембраны. Он выходит на поле под немного другим углом, который некоторые называют «сначала мембрана». Но, говорит он, «я почти уверен, что лучший способ понять происхождение жизни — это осознать, что это система молекул, которые работают вместе, точно так же, как и в сегодняшней жизни». вплоть до суждения о правдоподобии с моей стороны», — размышляет он.
Одним из главных аргументов против глубоководного происхождения является тот факт, что в биологии встречается так много макромолекул. ДНК, РНК, белки и липиды являются полимерами и образуются в результате реакций конденсации. «Вам нужна изменчивая среда, которая иногда бывает влажной, а иногда сухой — влажный период, чтобы компоненты смешивались и взаимодействовали, а затем сухой период, чтобы вода удалялась и эти компоненты могли образовывать полимер», — говорит Мулкиджанян. «Такого рода вещи не могут произойти в [глубоководном] гидротермальном источнике, потому что там не может быть циклов влажный-сухой», — добавляет Димер. На континентальных гидротермальных полях каждый день происходят влажные и сухие циклы. Это позволяет концентрировать реагенты, а также проводить полимеризацию.
«Такого рода вещи не могут произойти в [глубоководном] гидротермальном источнике, потому что там не может быть циклов влажный-сухой», — добавляет Димер. На континентальных гидротермальных полях каждый день происходят влажные и сухие циклы. Это позволяет концентрировать реагенты, а также проводить полимеризацию.
Предположение, что естественный отбор не способен в течение 4 миллиардов лет придумать улучшение, я считаю безумием
Димер пытался создать свои собственные протоклетки в лаборатории, смешивая липиды и компоненты РНК аденозинмонофосфат и уридинмонофосфат. При сушке липиды самособираются в мембраноподобные структуры, и если нуклеотиды застревают между слоями липидов, они подвергаются этерификации с образованием РНК-подобных полимеров. За несколько циклов «влажный-сухой» выход увеличивается до 50%.6
Димер подтвердил наличие этих полимеров внутри «протоклеток» методами прямого секвенирования РНК. «У нас действительно есть одноцепочечные молекулы размером с биологическую РНК», но Димер предупреждает, что это не РНК, как в биологическом организме. Он создал смесь РНК, некоторые из которых были связаны фосфатными группами, как они есть в природе, а некоторые связаны «неестественным образом», что, как он заключает, «должно быть, подверглось отбору и эволюции в этих маленьких протоклетках».
Он создал смесь РНК, некоторые из которых были связаны фосфатными группами, как они есть в природе, а некоторые связаны «неестественным образом», что, как он заключает, «должно быть, подверглось отбору и эволюции в этих маленьких протоклетках».
Но лагерь глубоководных гидротермальных источников еще не готов сдаться. Бардж говорит, что вентиляционная среда может способствовать концентрации реагентов и реакциям конденсации. «У вас есть гели на морском дне, у вас есть минералы, которые поглощают вещества, и в самой мембране [микропоры дымохода] есть гели, поэтому вы можете иметь условия реакции дегидратации, даже если вся система состоит из воды».
Лейн также отвергает это. идея о том, что уровни ионов калия или натрия могут исправить будущие метаболические процессы. «Предположение о том, что естественный отбор не способен в течение 4 миллиардов лет придумать улучшение, я считаю безумием», — объясняет Лейн. «С моей точки зрения, внутриклеточный ионный баланс определяется отбором». Он считает, что жизнь была бы вполне способна развиваться в среде, богатой натрием, и со временем развивать насосы для удаления ионов, которые создают нынешние клетки, богатые калием.
Он считает, что жизнь была бы вполне способна развиваться в среде, богатой натрием, и со временем развивать насосы для удаления ионов, которые создают нынешние клетки, богатые калием.
Видеть свет
Еще одним спорным вопросом является наличие или отсутствие ультрафиолетового (УФ) света. Это могло иметь сильное влияние в сценарии земного происхождения без защитного озонового слоя на ранней Земле, но полностью отсутствовать в глубоководной теории. Относительная УФ-стабильность нуклеотидов РНК предполагает, что отбор происходил в УФ-свете — на поверхности земли, а не в море.
Это также поддержит новаторский синтез РНК, предложенный в 2009 году7 Джоном Сазерлендом из Лаборатории молекулярной биологии Совета медицинских исследований Великобритании в Кембридже, и его предложенный в 2015 году синтез предшественников нуклеиновых кислот, начиная только с цианистого водорода (HCN), сероводорода (h3S). ) и УФ-свет.8 Освещение УФ-светом в течение 10 дней увеличивало выход биологических нуклеотидов, добавляя вес их выбору, имеющему преимущество в УФ-свете. Мулкиджанян также предположил, что осадки сульфида цинка могли действовать как катализаторы восстановления диоксида углерода с помощью ультрафиолетового света — ранней формы фотосинтеза, которую он называет сценарием «цинкового мира» 9.0003
Мулкиджанян также предположил, что осадки сульфида цинка могли действовать как катализаторы восстановления диоксида углерода с помощью ультрафиолетового света — ранней формы фотосинтеза, которую он называет сценарием «цинкового мира» 9.0003
Но, по словам Лейна, «существует большая проблема с тем, что жизнь развивается с помощью УФ-излучения, то есть ни одна жизнь сегодня не использует УФ-излучение в качестве источника энергии — оно имеет тенденцию разрушать молекулы, а не способствовать развитию биохимии». синтетическая химия, предложенная в такой земной схеме, просто не похожа на жизнь, какой мы ее знаем. «Все начинается с цианидов или фотосинтеза сульфида цинка, а заканчивается чем-то вроде химии Франкенштейна», — говорит Лейн. «Химия может сработать, но совместить ее с жизнью, какой мы ее знаем, я бы сказал, на грани невозможности»
Дисциплинарное разделение
Если присмотреться, то различие между теми, кто поддерживает земное и океаническое происхождение, разделяется между дисциплинами. Химики-синтетики обычно отдают предпочтение континентальному происхождению, а геологи и биологи — преимущественно глубоководным гидротермальным источникам. Химики утверждают, что невозможно провести химию в гидротермальных источниках, в то время как биологи утверждают, что предлагаемая земная химия просто не похожа ни на что из того, что можно увидеть в биохимии, и не сокращает разрыв между геохимией и биохимией.
Химики-синтетики обычно отдают предпочтение континентальному происхождению, а геологи и биологи — преимущественно глубоководным гидротермальным источникам. Химики утверждают, что невозможно провести химию в гидротермальных источниках, в то время как биологи утверждают, что предлагаемая земная химия просто не похожа ни на что из того, что можно увидеть в биохимии, и не сокращает разрыв между геохимией и биохимией.
Так есть ли способ объединить дисциплины? «На данный момент между этими идеями не так много общего, — говорит Лейн. Димер соглашается. «На данный момент все, что мы можем сказать, это то, что каждый имеет право судить о правдоподобии на основе своих идей, но тогда он также должен проводить экспериментальные и наблюдательные тесты».
Небольшие проблемы решаемы — это то, что поднимает меня с постели по утрам
Что нужно, так это убийственное доказательство или эксперимент, который мог бы соединить точки воедино и объяснить, как и где зародилась жизнь в добиотическом мире. «Было бы действительно большим прорывом, если бы мы смогли найти рибозим среди всех этих триллионов случайных полимеров, которые мы производим», — предполагает Димер. Рибозимы — это РНК-катализаторы, которые являются частью клеточного механизма синтеза белка, но являются кандидатами на роль первых самовоспроизводящихся молекул.
«Было бы действительно большим прорывом, если бы мы смогли найти рибозим среди всех этих триллионов случайных полимеров, которые мы производим», — предполагает Димер. Рибозимы — это РНК-катализаторы, которые являются частью клеточного механизма синтеза белка, но являются кандидатами на роль первых самовоспроизводящихся молекул.
Дополнительные доказательства происхождения жизни в глубоководных гидротермальных жерлах сосредоточены на демонстрации вероятного набора метаболических стадий, ведущих к сложным молекулам. По словам Баржа, в JPL они смотрят, как аминокислоты ведут себя в своих химических садах. «Мы работаем над созданием аминокислоты, а затем смотрим, застревают ли [аминокислоты] в дымоходах, и можно ли их сконцентрировать и, возможно, сделать какие-то пептиды».
«Есть проблемы и трудности, — признает Лейн. «Можем ли мы заставить углекислый газ реагировать с водородом, чтобы образовать более сложные молекулы, такие как аминокислоты и нуклеотиды? Я вполне уверен, что мы можем это сделать, но я знаю, что мы еще не продемонстрировали этого». Другие сложные вопросы включают в себя возможность стабилизации липидных мембран в морской воде с высокой концентрацией ионов кальция и магния. Но, по словам Лейн, гидротермальные источники решают большую проблему термодинамической движущей силы. «Это вселяет в меня уверенность, что более мелкие проблемы будут решаемы и в этом контексте, даже если сейчас они кажутся трудными — это то, что заставляет меня вставать с постели по утрам» 9.0003
Другие сложные вопросы включают в себя возможность стабилизации липидных мембран в морской воде с высокой концентрацией ионов кальция и магния. Но, по словам Лейн, гидротермальные источники решают большую проблему термодинамической движущей силы. «Это вселяет в меня уверенность, что более мелкие проблемы будут решаемы и в этом контексте, даже если сейчас они кажутся трудными — это то, что заставляет меня вставать с постели по утрам» 9.0003
Конечно, есть еще одна возможность — жизнь вообще не зародилась на Земле. Панспермия — теория о том, что жизнь зародилась из космоса, кажется эксцентричной, но не все ее учитывают. «Можно возразить, что жизнь на самом деле зародилась на Марсе», — говорит Димер, потому что он первым остыл до температур, которые могли поддерживать жизнь.
Независимо от того, так это или нет, жизнь в другом месте определенно возможна. Спутник Юпитера Европа и спутник Сатурна Энцелад являются кандидатами, потому что у них обоих есть океаны под ледяными панцирями. В ближайшие пять лет НАСА планирует отправить космический зонд к обеим этим лунам для поиска признаков жизни. Понимание нашей собственной истории происхождения может помочь нам понять, где искать.
В ближайшие пять лет НАСА планирует отправить космический зонд к обеим этим лунам для поиска признаков жизни. Понимание нашей собственной истории происхождения может помочь нам понять, где искать.
Ссылки
1 M J Russell, RM Daniel and A J Hall, Terra Nova , 1993, 5 , 343 (DOI: 10.1111/j.1365-3121.1993.tb00267.x) 90 Martin , Филос. Транс. Р. Соц. Б: биол. Sci., 2003, 358 , 59 (DOI: 10.1098/rstb.2002.1183)
3 L M Barge et al , Angew. хим. Междунар. Эд. англ. , 2015, 54 , 8184 (DOI: 10.1002/anie.201501663)
4 B Herschy и др. , Дж. Мол. Эвол. , 2014, 79 , 213 (DOI: 10.1007/s00239-014-9658-4)
5 F Klein и др. , Proc. Натл акад. науч. USA , 2015, 112 , 12036 (DOI: 10.1073/pnas.1504674112)
6 L Da Silva, MC Maurel and D Deamer, J. Mol. Эвол. , 2015, 80 , 86 (doi: 10. 1007/s00239-014-9661-9)
1007/s00239-014-9661-9)
7 M W Powner, B Gerland and J D Sutherland, Nature , 2009, 459 , 239 (doi: 10.1038// природа08013)
8 BH Patel et al. , Nat. хим. , 2015, 7 , 301 (DOI: 10.1038/nchem.2202)
Эта статья воспроизводится с разрешения Chemistry World. Статья была впервые опубликована 16 апреля 2017 года.
Ученые НАСА строят «первичный океан», чтобы воссоздать происхождение жизни
Если жизнь может найти способ процветать в самых глубоких глубинах земных океанов, что существующих где-либо еще в космосе?
На этот вопрос пытаются ответить астробиологи из Лаборатории реактивного движения НАСА (JPL). Они также борются с идеей, что воспроизвели условия глубокого океана в лаборатории, обнаружив, что строительные блоки жизни действительно сформировались на дне океана около 4 миллиардов лет назад.
Солнечный свет не может проникнуть сквозь многокилометровую толщу воды, чтобы достичь дна океана, что делает его удивительно холодным и совершенно темным местом. Но вокруг гидротермальных источников — отверстий на дне океана, извергающих нагретую воду и материал из земной коры — ученые продолжают находить шумные мегаполисы, полные экстремальных глубоководных организмов. Вентиляционные отверстия обеспечивают место, где жизнь не нуждается в солнечном свете, чтобы выжить, вместо этого она может питаться буфетом химических веществ, которые образуются в вздымающихся черных трубах, пузырящихся со дна океана.
Но вокруг гидротермальных источников — отверстий на дне океана, извергающих нагретую воду и материал из земной коры — ученые продолжают находить шумные мегаполисы, полные экстремальных глубоководных организмов. Вентиляционные отверстия обеспечивают место, где жизнь не нуждается в солнечном свете, чтобы выжить, вместо этого она может питаться буфетом химических веществ, которые образуются в вздымающихся черных трубах, пузырящихся со дна океана.
«Как исследователь глубоководных гидротермальных жерл, я думаю, что гипотеза о том, что жизнь зародилась в жерлах, — лучшая из существующих на сегодняшний день», — говорит Люси Стюарт, морской микробиолог из новозеландской GNS Science, которая не участвовала в исследовании. .
Астробиологи из Лаборатории реактивного движения во главе с Лори Барж думали в том же направлении. Чтобы исследовать это затруднительное положение, они воспроизвели условия глубокого океана в стандартных лабораторных стаканах, помогая понять, как жизнь могла медленно собираться воедино в первые дни существования Земли.
Команда создала свой собственный «Молодая Земля-Океан-в-стекле», содержащий воду, минералы и молекулы аммиака и пирувата, которые обычно находятся вблизи гидротермальных источников и считаются предшественниками строительных блоков жизни. Нагрев смеси до 158 градусов по Фаренгейту (70 градусов по Цельсию) и уменьшение содержания кислорода предоставили им лабораторную модель условий «первобытного океана».
Выращенный в лаборатории гидротермальный дымоход.
НАСА/Лаборатория реактивного движения-Калифорнийский технологический институт/Флорес
Их выводы, опубликованные в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences 25 февраля, показывают, что созданные ими в лаборатории гидротермальные источники являются местами, где могут образовываться строительные блоки жизни — аминокислоты.
В аквариуме на ранней Земле была произведена одна известная аминокислота: аланин. Молекула считается критически важной в синтезе белков, которые выполняют головокружительный набор нормальных функций в организмах от бактерий до человека. Команда также обнаружила лактат, который, по мнению некоторых ученых, также может быть молекулой-предшественником, которая позволяет жизни процветать.
Молекула считается критически важной в синтезе белков, которые выполняют головокружительный набор нормальных функций в организмах от бактерий до человека. Команда также обнаружила лактат, который, по мнению некоторых ученых, также может быть молекулой-предшественником, которая позволяет жизни процветать.
«Мы показали, что в геологических условиях, подобных ранней Земле и, возможно, другим планетам, мы можем образовывать аминокислоты и альфа-гидроксикислоты в результате простой реакции в мягких условиях, которые могли бы существовать на морском дне», — сказал Бардж.
Важно отметить, что исследовательская группа НАСА не создала саму «жизнь» в этом эксперименте, но она показала, как строительные блоки, которые в конечном итоге становятся жизнью, могут возникать в глубоком океане вокруг этих жерл.
«Исследователи происхождения жизни все еще выясняют все многочисленные этапы между «простыми органическими соединениями» и «живым организмом», — сказал Стюарт. «Знание того, как они могут быть созданы в гидротермальном источнике, — это еще один шаг к пониманию того, как мог происходить полный процесс биогенеза 4 миллиарда лет назад».
«Знание того, как они могут быть созданы в гидротермальном источнике, — это еще один шаг к пониманию того, как мог происходить полный процесс биогенеза 4 миллиарда лет назад».
Последующие исследования продолжатся, исследуя выращенный в лаборатории океан в поисках других потенциальных аминокислот и молекул-предшественников.
Находки команды — это основа, которую другие исследователи могут использовать для наилучшего выбора мест в космосе, где может быть жизнь, и они уже довольны несколькими межпланетными локациями. Например, Энцелад, шестой по величине спутник Сатурна, представляет собой ледяной шарик мира, покрытый толстым слоем льда. Ученые обнаружили сложные молекулы на Энцеладе и полагают, что океаны под его ледяной оболочкой также могут содержать гидротермальные источники.
«Понимание условий, необходимых для зарождения жизни, может помочь сузить круг мест, в которых, по нашему мнению, может существовать жизнь», — объяснил Барж.
Это дает некоторую надежду, что на нашем заднем дворе может скрываться жизнь.

 Пожалуй, самое красивое,
Пожалуй, самое красивое, Но все мы понимаем, когда что-то принадлежит
Но все мы понимаем, когда что-то принадлежит